Отверженные.
Отверженные. Том 2.
Виктор Гюго. Отверженные. Том 2.
Часть IV. Идиллия улицы Плюме и эпопея улицы Сен-Дени.
Книга первая. Несколько страниц истории.
Глава 1. Хорошо скроено.
Два года, 1831-й и 1832-й, непосредственно примыкающие к Июльской революции, представляют собою одну из самых поразительных и своеобразных страниц истории. Эти два года среди предшествующих и последующих лет – как два горных кряжа. От них веет революционным величием. В них можно различить пропасти. Народные массы, самые основы цивилизации, мощный пласт наслоившихся один на другой и сросшихся интересов, вековые очертания старинной французской формации то возникают, то исчезают ежеминутно под грозовыми облаками систем, страстей и теорий. Эти возникновения и исчезновения были названы противодействием и возмущением. Время от времени они озаряются сиянием истины, этим светом человеческой души.
Замечательная эта эпоха ограничена достаточно узкими пределами и достаточно от нас отдалена, чтобы сейчас уже мы могли уловить ее главные черты.
Попытаемся это сделать.
Реставрация была одним из тех промежуточных периодов, трудных для определения, где налицо усталость, смутный гул, ропот, сон, смятение, иначе говоря, была не чем иным, как остановкой великой нации на привале. Это эпохи совсем особые, и они обманывают политиков, которые хотят извлечь из них выгоду. Вначале нация требует только отдыха; все жаждут одного – мира; у всех одно притязание – умалиться. Это означает – жить спокойно. Великие события, великие случайности, великие начинания, великие люди – нет, покорно благодарим, довольно их видели, сыты по горло. Люди променяли бы Цезаря на Прузия, а Наполеона на короля Ивето: «Какой это был славный, скромный король!» Шли с самого рассвета, а теперь вечер долгого и трудного дня; первый перегон сделали с Мирабо, второй – с Робеспьером, третий – с Бонапартом; все выбились из сил, каждый требует постели.
Уставшее самопожертвование, состарившийся героизм, насытившееся честолюбие, нажитое богатство ищут, требуют, умоляют, добиваются – чего? Пристанища. Они его обретают. Они вступают в обладание миром, спокойствием, досугом. Они довольны. Однако в это же время возникают некоторые факты, которые заявляют о себе и в свою очередь стучатся в дверь. Эти факты порождены революциями и войнами, они есть, они существуют, они имеют право занять свое место в обществе, и они занимают его. Чаще всего факты – это квартирмейстеры и фурьеры, только подготовляющие квартиры для принципов.
И вот что открывается тогда перед политическим мыслителем.
Пока утомленные люди требуют покоя, совершившиеся факты требуют гарантий. Гарантия для фактов – то же, что покой для людей.
Это то, что Англия требовала от Стюартов после протектората; это то, что Франция требовала от Бурбонов после Империи.
Эти гарантии – требование времени. Волей-неволей приходится на них соглашаться. Короли их «даруют», в действительности же их дает сила обстоятельств. Истина глубокая и полезная, чего Стюарты не подозревали в 1660 году и что даже не пришло в голову Бурбонам в 1814-м.
Обреченная династия, вернувшаяся во Францию после падения Наполеона, имела роковую наивность верить, что дарует именно она и что дарованное может быть ею взято обратно; что дом Бурбонов обладает священным правом, а Франция не обладает ничем, что политические права, пожалованные Людовиком XVIII, – всего только ветвь священного права, отломленная династией Бурбонов и милостиво дарованная народу до того дня, когда королю заблагорассудится взять ее обратно. Однако уже по тому неудовольствию, которое причинял Бурбонам этот дар, они должны были чувствовать, что он исходит не от них.
Они были угрюмы в девятнадцатом веке. Они хмурились при каждом новом подъеме нации. Бурбоны «надулись» – воспользуемся этим ходовым выражением, то есть народным и верным. Народ это видел.
Династия полагала, что она сильна, так как Империя исчезла перед нею, словно театральная декорация. Она не заметила, что сама появилась таким же способом. Она не видела, что находится в тех же руках, которые убрали прочь Наполеона.
Она полагала, что у нее есть корни, потому что за нею прошлое. Она заблуждалась: она составляла только часть прошлого, а прошлым была Франция. Корни французского общества были не в Бурбонах, а в нации. Эти скрытые и живучие корни составляли не право какой-либо одной семьи, а историю народа. Они тянулись повсюду, но только не под троном.
Дом Бурбонов был для Франции блистательным и кровавым средоточием ее истории, но он не представлял больше важнейшего элемента ее судьбы и необходимой основы ее политики. Можно было обойтись без Бурбонов; без них и обходились двадцать два года; здесь был пробел, а они этого и не подозревали. Да и как могли они это подозревать, – они, полагавшие, что Людовик XVII царствовал 9 термидора, а Людовик XVIII – в день битвы при Маренго? Никогда, от первых дней истории, государи не были столь слепы перед лицом фактов и перед той долей божественной власти, которую эти факты содержат и возвещают. Никогда еще эти притязания бренного мира, именующиеся правом королей, не отрицали до такой степени высшего права.
Это существеннейшая ошибка Бурбонов, приведшая их к тому, что они вновь наложили руку на гарантии, «дарованные» в 1814 году, на эти «уступки», как они их называли. Печальное явление! То, что они именовали своими «уступками», было нашими завоеваниями; то, что они называли «незаконным захватом», было нашим законным правом.
Когда, по ее мнению, час пробил, Реставрация, вообразив, что она победила Наполеона и укоренилась в стране, то есть поверив в свою силу и устойчивость, внезапно приняла решение и отважилась на удар. Однажды утром она стала лицом к лицу с Францией и, возвысив голос, начала оспаривать право народное и право личное: у нации верховное главенство, у гражданина – свободу. Другими словами, она попыталась отнять у нации то, что делало ее нацией, и у гражданина то, что делало его гражданином.
В этом сущность тех знаменитых актов, которые называются июльскими ордонансами.
Реставрация пала.
Она пала по справедливости. Тем не менее, признаем это, она не была до конца враждебной всем формам прогресса. Бок о бок с нею свершилось немало великих событий.
При Реставрации нация привыкла совмещать споры со спокойствием, чего не было при Республике, и величие – с миром, чего не было при Империя. Сильная и свободная Франция являлась ободряющим примером для других народов Европы. При Робеспьере слово взяла Революция; при Бонапарте слово взяли пушки; при Людовике XVIII и Карле Х слово взяла мысль. Ветер утих, светоч зажегся снова. На безоблачных вершинах затрепетал чистый свет разума. То было великолепное, поучительное и привлекательное зрелище. В течение пятнадцати лет, при невозмутимом мире, совершенно открыто действовали великие принципы, столь старые для мыслителя, столь новые для политического деятеля: равенство перед законом, свобода совести, свобода слова, свобода печати, доступ ко всем должностям всех способных людей. Так продолжалось до 1830 года. Бурбоны были орудием цивилизации, сломавшимся в руках провидения.
Падение Бурбонов было исполнено величия, проявленного, однако, не ими, а нацией. Они покинули трон с чинной важностью, но без всякой внушительности; они ушли во тьму, но это не было одним из тех торжественных исчезновений, которые оставляют мрачный волнующий след в истории; это не было ни потустороннее спокойствие Карла I, ни орлиный клекот Наполеона. Они просто ушли, вот и все. Они сняли корону и не сберегли ореола. Они совершили это с достоинством, но не королевским. В какой-то степени они оказались ниже величия постигшего их несчастья. Карл Х по пути в Шербург распорядился сделать из круглого стола четырехугольный и, казалось, был более обеспокоен угрозой этикету, чем крушением монархии. Такая мелкость его натуры опечалила людей преданных, которые любили королевскую семью, и людей положительных, чтивших королевский род. Зато народ был достоин восхищения. Нация, атакованная однажды утром, почувствовала в себе столько силы, что даже не разгневалась на этот своего рода королевский вооруженный мятеж. Она дала отпор, но сдержалась, поставила все на место, вернула управление страной в рамки закона, Бурбонов – в изгнание и, увы, на этом остановилась. Она извлекла старого короля Карла Х из-под того балдахина, что осенял Людовика XIV, и тихонько поставила его на землю. Она коснулась особ королевского дома лишь с грустью и осторожностью. Не один и не несколько людей, а Франция, вся Франция, победоносная и опьяненная своей победой, казалось, вспомнила и осуществила перед всем миром эти замечательные слова Гильома дю Вэра, сказанные им после дня баррикад: «Тем, кто привык срывать цветы милости у великих мира сего и перепрыгивать, словно птичка с ветки на ветку, от скорбящих к преуспевающим, легко быть дерзким к своему государю, когда его постигнет злая судьба; я же всегда буду чтить жребий моих королей, особливо скорбящих».
Бурбоны унесли с собой уважение Франции, но не ее сожаление. Как мы уже сказали, они оказались мельче постигшего их несчастья. Они исчезли с горизонта.
Июльская революция тотчас приобрела друзей и врагов во всем мире. Одни устремились к ней с восторгом и радостью, другие отвернулись, каждый сообразно своей природе. Государи Европы, словно совы на этой утренней заре, в первую минуту ослепленные и растерянные, зажмурились и открыли глаза только для того, чтобы перейти к угрозам. Испуг их понятен, гнев вполне объясним. Эта странная революция почти не была потрясением, она даже не оказала побежденным Бурбонам чести обойтись с ними как с врагами и пролить их кровь. В глазах деспотических правительств, всегда заинтересованных в том, чтобы свобода очернила самое себя, Июльская революция была виновна в том, что, будучи грозной, она проявила кротость. Ничего, впрочем, не было против нее замышлено или предпринято. Самые напуганные, самые недовольные, самые раздраженные приветствовали ее. Как бы мы ни были эгоистичны и злопамятны, нам внушают таинственное уважение события, в которых ощущается соучастие кого-то, действующего в области более высокой, чем это дано человеку.
Июльская революция – торжество права, повергшего во прах грубый факт. Событие, исполненное величия.
Право, повергшее во прах грубый факт! Отсюда блеск революции 1830 года, отсюда и ее снисходительность. Торжествующему праву нет нужды прибегать к насилию.
Право – это все то, что истинно и справедливо.
Неотъемлемая черта права – пребывать вечно прекрасным и чистым. Факт, даже как будто самый неизбежный, даже наилучшим образом принятый современниками, если он существует только в качестве факта и если у него на это слишком мало права или вовсе никакого, бесповоротно обречен стать со временем уродливым, омерзительным, быть может даже, чудовищным. Если кто-нибудь пожелает удостовериться в том, насколько уродливым может оказаться факт на расстоянии веков, пусть обратит свой взор на Макиавелли. Макиавелли – это вовсе не злой дух, не демон, не презренный и жалкий писатель; он не больше чем факт. И этот факт характерен не только для Италии, но и для Европы, для всего шестнадцатого столетия. Он кажется отвратительным, он и есть таков с точки зрения нравственной идеи девятнадцатого века.
Эта борьба между правом и фактом длится со времен возникновения общества. Закончить поединок, сплавить чистую идею с реальностью человеческой жизни, заставить право мирно проникнуть в область факта и факт в область права – вот работа мудрых.
Глава 2. Дурно сшито.
Но одно дело – работа людей мудрых и другое дело – работа людей ловких.
Революция 1830 года быстро закончилась.
Как только революция терпит крушение, ловкие люди растаскивают по частям корабль, севший на мель.
Ловкие люди нашего времени присваивают себе название государственных мужей; в конце концов это наименование «государственный муж» стало почти выражением арго. В самом деле, не следует забывать, что там, где нет ничего, кроме ловкости, всегда налицо посредственность. Сказать «человек ловкий» – все равно что сказать «человек заурядный».
Точно так же сказать: «государственный муж» – иногда значит то же, что сказать «изменник».
Итак, если поверить ловким, то революции, подобные Июльской, – не что иное, как перерезанные артерии; нужно немедленно перевязать их. Право, слишком громко провозглашенное, вызывает смятение. Поэтому, раз право утверждено, следует укрепить государство. Раз свобода обеспечена, следует подумать о власти.
Пока еще мудрые не отделяют себя от ловких, но уже начинают испытывать недоверие. Власть – пусть так. Но, во-первых, что такое власть? Во-вторых, откуда она?
Ловкие как будто не слышат заглушенных возражений и продолжают свое дело.
По мнению этих политиков, хитроумно прикрывающих выгодную для них ложь маской необходимости, первая потребность народа после революции, – если этот народ составляет часть монархической Европы, – это раздобыть себе династию. Таким способом, говорят они, можно обрести после революции мир, то есть время для того, чтобы залечить свои раны и починить свой дом. Династия прикрывает строительные леса и заслоняет госпиталь.
Однако не всегда легко добыть себе династию.
В сущности, первый одаренный человек или даже первый удачливый встречный может сойти за короля. В одном случае это Бонапарт, в другом – Итурбиде.
Но первая попавшаяся фамилия не может создать династию. Необходима известная древность рода, а отметина веков не создается внезапно.
Если стать на точку зрения «государственных мужей» со всеми подразумеваемыми оговорками, то каковы же должны быть качества появляющегося после революции нового короля? Он может – и это даже полезно – быть революционером, иначе говоря, быть лично причастным к революции, приложившим к ней руку, независимо от того, набросил ли он тень на себя при этом или прославился, брался ли за ее топор или действовал шпагой.
Какими качествами должна обладать династия? Она должна быть приемлемой для нации, то есть казаться на расстоянии революционной – не по своим поступкам, но по воспринятым ею идеям. Она должна иметь прошлое и быть исторической, иметь будущее и пользоваться расположением народа.
Все это объясняет, почему первые революции довольствуются тем, что находят человека – Кромвеля или Наполеона, и почему вторые во что бы то ни стало стремятся найти имя – династию Брауншвейгскую или Орлеанскую.
Королевские дома похожи на те фиговые деревья в Индии, каждая ветка которых, нагибаясь до самой земли, пускает корень и сама становится деревом. Любая ветвь королевского дома может стать династией, но при условии, что склонится к народу. Такова теория ловких.
Итак, вот в чем величайшее искусство: добиться, чтобы в фанфарах успеха зазвучала нота катастрофы, чтобы те, кто пользуется его плодами, в то же время трепетали перед ним; пробудить страх перед свершившимся событием, увеличить кривую перехода до степени замедления прогресса, обесцветить эту зарю, обличить и отбросить крайности энтузиазма, срезать острые углы и когти, обложить торжество победы ватой, плотно закутать право, завернуть народ-гигант во фланель и немедленно уложить его в постель, посадить на диету этот избыток здоровья, прописать Геркулесу режим выздоравливающего, растворить важное событие в мелких повседневных делах, предложить этот разбавленный лекарственной настойкой нектар умам, жаждущим идеала, принять предосторожности против слишком большого успеха, надеть на революцию абажур.
1830 Год воспользовался этой теорией, уже примененной в Англии в 1688 году.
1830 Год – это революция, остановившаяся на полдороге. Половина прогресса, подобие права! Но логика не признает половинчатости точно так же, как солнце не признает огонька свечи.
Кто останавливает революции на полдороге? Буржуазия.
Почему?
Потому что буржуазия – это удовлетворенное вожделение. Вчера было желание поесть, сегодня это сытость, завтра настанет пресыщение.
То, что случилось в 1814 году после Наполеона, повторилось в 1830 году после Карла X.
Напрасно хотели сделать буржуазию классом. Буржуазия – это просто-напросто удовлетворенная часть народа. Буржуа – это человек, у которого теперь есть время посидеть. Кресло – это вовсе не каста.
Но, желая усесться слишком рано, можно остановить самое движение человечества вперед. Это часто бывало ошибкой буржуазии.
Допущенная ошибка не может служить причиной образования класса. Эгоизм не является одним из подразделений общественного порядка.
В конце концов, – следует быть справедливым даже к эгоизму, – состояние, на которое уповала после потрясения 1830 года часть народа, именуемая буржуазией, нельзя назвать бездействием, слагающимся из равнодушия и лени и затаившим в себе крупицу стыда; это не было и дремотой, предполагающей мимолетное забытье, доступное сну; это был привал.
Привал – слово, имеющее двойной, особенный и почти противоречивый смысл: отряд в походе, то есть движение; остановка отряда, то есть покой.
Привал – это восстановление сил, это покой настороженный и бодрствующий: это совершившийся факт, который выставил часовых и держится настороже. Привал обозначает сражение вчера и сражение завтра.
Это и есть промежуток между 1830 и 1848 годом.
То, что мы называем здесь сражением, может также называться прогрессом.
Таким образом, для буржуазии, как и для государственных мужей, нужен был человек, олицетворявший это понятие – привал. Человек, который мог бы называться Однако-Ибо. Сложная индивидуальность, означающая революцию и означающая устойчивость, другими словами, утверждающая настоящее, являя собой наглядный пример совместимости прошлого с будущим.
Этот человек оказался тут же, под рукой. Имя его было Луи-Филипп Орлеанский.
Голоса двухсот двадцати одного сделали Луи-Филиппа королем. Лафайет взял на себя труд миропомазания. Он назвал Луи-Филиппа «лучшей из республик». Парижская ратуша заменила собор в Реймсе.
Эта замена целого трона полутроном и была «делом 1830 года».
Когда ловкие люди достигли своей цели, обнаружилась глубочайшая порочность найденного ими решения. Все это было совершенно вне абсолютного права. Абсолютное право вскричало: «Я возражаю!» Затем – грозное знамение! – оно вновь скрылось в тени.
Глава 3. Луи-Филипп.
У революций тяжелая рука и верное чутье; они бьют крепко и метко. Даже у такой неполной революции, такой захудалой, подвергшейся осуждению и сведенной к положению младшей, как революция 1830 года, почти всегда остается достаточно пророческой зоркости, чтобы не оказаться несвоевременной. Затмение революцией никогда не бывает отречением.
Однако не будем слишком самоуверенными; даже революции, даже и они заблуждаются, и тогда видны крупные промахи.
Вернемся к 1830 году. Отклонившись от своего пути, 1830 год оказался удачливым. При том положении вещей, которое после куцей революции было названо порядком, монарх стоил больше, чем монархия. Луи-Филипп был редким человеком.
Сын того, за кем история, конечно, признает смягчающие обстоятельства, но в такой же мере достойный уважения, как отец – порицания, он обладал всеми добродетелями частного лица и некоторыми – общественного деятеля; заботился о своем здоровье, о своем состоянии, о своей особе, о своих делах, знал цену минуты и не всегда – цену года; воздержанный, спокойный, миролюбивый, терпеливый; добряк и добрый государь; был верен жене и держал в своем дворце лакеев, обязанных показывать буржуа его супружеское ложе, – хвастовство добропорядочной брачной жизнью стало полезным после выставлявшихся напоказ незаконных связей старшей ветви; знал все европейские языки и, что еще более редко, язык всех интересов и умел говорить на нем; был восхитительным представителем «среднего сословия», но превосходил его, будучи во всех отношениях более значительным, чем оно; отличаясь незаурядным умом и отдавая должное своей родословной, он прежде всего ценил свои внутренние качества и даже в вопросе о своем происхождении занимал весьма своеобразную позицию, объявляя себя Орлеаном, а не Бурбоном; когда он был только «светлейшим», он держался как первый принц крови, а в тот день, когда стал «величеством», превратился в настоящего буржуа; многоречивый на людях, но скупой на слова в тесном кругу близких; по общему мнению – скряга, но неуличенный; в сущности, это был один из тех бережливых людей, которые становятся расточительными, когда дело идет об их прихотях или выполнении долга; начитанный, но мало чувствующий литературу; дворянин, но не рыцарь; простой, спокойный и сильный; обожаемый своей семьей и слугами; обворожительный собеседник, трезвый государственный деятель, внутренне холодный, всегда поглощенный только насущной необходимостью, всегда учитывающий только сегодняшний день, не способный ни к злопамятству, ни к благодарности, он безжалостно пользовался лицами выдающимися, оставляя в покое посредственность, и хитро умел при помощи парламентского большинства перекладывать вину на те тайные объединения, которые глухо рокочут где-то под тронами; откровенный, порой неосторожный в своей откровенности, но в этой неосторожности удивительно ловкий; неистощимый в выборе средств, личин и масок; он пугал Францию Европой и Европу Францией; бесспорно, любил свою родину, но преимущественно свою семью; предпочитал власть авторитету и авторитет достоинству – склонность, пагубная в том смысле, что, ставя все на службу успеху, она допускает хитрость и не всегда отрицает низость, но зато в ней есть то преимущество, что она предохраняет политику от резких толчков, государство от ломки, общество от катастроф; это был человек мелочный, вежливый, бдительный, внимательный, проницательный, неутомимый, иногда противоречащий самому себе и берущий свое слово обратно; смелый по отношению к Австрии в Анконе, упрямый по отношению к Англии в Испании, он бомбардирует Антверпен и платит Притчарду; убежденно поет Марсельезу; недоступен унынию, усталости, увлечению красотой и идеалом, безрассудному великодушию, утопиям, химерам, гневу, тщеславию, боязни; он обладал всеми формами личной неустрашимости; генерал – при Вальми, солдат – при Жемапе; восемь раз его покушались убить, но он неизменно улыбался; смелый, как гренадер, неустрашимый, как мыслитель, он испытывал тревогу лишь пред возможностью потрясения основ европейских государств и был неспособен на крупные политические авантюры; всегда готовый подвергнуть опасности свою жизнь и никогда – свое дело; проявлял свою волю в форме влияния, предпочитая, чтобы ему повиновались как умному человеку, а не как королю; был одарен способностью к наблюдению, но не прозорливостью; мало интересовался ду́хами, но был отличным знатоком людей, иначе говоря, мог судить только о том, что видел; обладал здравым смыслом, живым и проницательным практическим умом, даром слова, огромной памятью; он всегда черпал из запаса этой памяти – единственная черта сходства с Цезарем, Александром и Наполеоном; зная факты, подробности, даты, собственные имена, он не знал устремлений, страстей, духовной многоликости толпы, тайных упований, сокровенных и темных порывов душ – одним словом, всего того, что можно назвать подводными течениями сознания; признанный верхними слоями Франции, но имевший мало общего с ее низами, он выходил из затруднений с помощью хитрости; он слишком много управлял и недостаточно царствовал; был своим собственным первым министром; неподражаемо умел создавать из мелких фактов препятствия для великих идей; соединял с подлинным умением способствовать прогрессу, порядку и организации какой-то дух формализма и крючкотворства; наделенный чем-то от Карла Великого и чем-то от ходатая по делам, он был основателем династии и ее стряпчим; в целом личность значительная и своеобразная, государь, который сумел упрочить власть, вопреки тревоге Франции, и мощь, вопреки недоброжелательству Европы, Луи-Филипп будет причислен к выдающимся людям своего века; он занял бы в истории место среди самых прославленных правителей, если бы немного больше любил славу и если бы обладал чувством великого в той же степени, в какой он обладал чувством полезного.
Луи-Филипп был красив в молодости и остался привлекательным в старости; не всегда в милости у нации, он всегда пользовался расположением толпы. У него был дар нравиться. Ему недоставало величия; он не носил короны, хотя был королем, не отпускал седых волос, хотя был стариком. Манеры он усвоил при старом порядке, а привычки при новом – то была смесь дворянина и буржуа, подходящая для 1830 года; Луи-Филипп являлся, так сказать, царствующим переходным периодом; он сохранил старое произношение и старое правописание и применял их для выражения современных взглядов; он любил Польшу и Венгрию, однако писал: polonois и произносил: hongrais[121]. Он носил мундир национальной гвардии, как Карл X, и ленту Почетного легиона, как Наполеон.
Он редко посещал обедню, не ездил на охоту и никогда не появлялся в опере. Не питал слабости к попам, псарям и танцовщицам, что являлось одной из причин его популярности среди буржуа. У него совсем не было двора. Он выходил на улицу с дождевым зонтиком под мышкой, и этот зонтик надолго стал одним из слагаемых его славы. Он был немного масон, немного садовник, немного лекарь. Однажды он пустил кровь форейтору, упавшему с лошади; с тех пор Луи-Филипп не выходил без своего ланцета, как Генрих III – без своего кинжала. Роялисты потешались над этим смешным королем – первым королем, пролившим кровь в целях излечения.
Что касается жалоб истории на Луи-Филиппа, то здесь нужно кое-что отбросить; одни обвинения падают на монархию, другие – на царствование Луи-Филиппа, третьи – на короля; три столбца, каждый со своим итогом. Отмена прав демократии, отодвинутый на задний план прогресс, жестоко подавленные выступления масс, расстрелы восставших, мятеж, укрощенный оружием, улица Транснонен, военные суды, поглощение страны, реально существующей, страной, юридически признанной, управление на компанейских началах с тремястами тысяч привилегированных – за это должна отвечать монархия; отказ от Бельгии, с чересчур большим трудом покоренный Алжир и, как Индия англичанами, – скорее способами варваров, чем носителей цивилизации, вероломство по отношению к Абд-эль-Кадеру, Блей, подкупленный Дейц, оплаченный Притчард – за это должно отвечать время царствования Луи-Филиппа; политика, более семейная, нежели национальная, – за это отвечает король.
Как видите, сделав вычет, можно уменьшить вину короля.
Его важнейшая ошибка такова: он был скромен во имя Франции.
Где корни этой ошибки?
Скажем об этом.
В короле Луи-Филиппе слишком громко говорило отцовское чувство; высиживание семьи, из которой должна вылупиться династия, связано с боязнью перед всем и нежеланием быть потревоженным; отсюда крайняя робость, невыносимая для народа, у которого в его гражданских традициях имело место 14 июля, а в традициях военных – Аустерлиц.
Впрочем, если отвлечься от общественных обязанностей, которые должны быть на первом плане, то глубокая нежность Луи-Филиппа к своей семье была ею вполне заслужена. Его домашний круг был восхитителен. Там добродетели сочетались с дарованиями. Одна из дочерей Луи-Филиппа, Мария Орлеанская, прославила имя своего рода среди художников так же, как Шарль Орлеанский – среди поэтов. Она воплотила свою душу в мрамор, названный ею Жанной д’Арк. Двое сыновей Луи-Филиппа исторгли у Меттерниха следующую демагогическую похвалу: «Это молодые люди, каких не встретишь, и принцы, каких не бывает».
Вот, без всякого умаления, но и без преувеличения, правда о Луи-Филиппе.
Быть «принцем Равенством», носить в себе противоречие между Реставрацией и Революцией, обладать теми внушающими тревогу склонностями революционера, которые становятся успокоительными в правителе, – такова причина удачи Луи-Филиппа в 1830 году; никогда еще не бывало столь полного приспособления человека к событию; один вошел в другое, и воплощение свершилось. Луи-Филипп – это 1830 год, ставший человеком. Вдобавок за него говорило и это великое предназначение к престолу – изгнание. Он был осужден, беден и скитался. Он жил своим трудом. В Швейцарии этот наследник самых богатых королевских поместий Франции продал свою старую лошадь, чтобы пропитаться. В Рейхенау он давал уроки математики, а его сестра Аделаида занималась вязаньем и шитьем. Эти воспоминания, связанные с особой короля, приводили в восторг буржуа. Он разрушил собственными руками последнюю железную клетку в Мон-Сен-Мишеле, устроенную Людовиком XI и послужившую Людовику XV. Он был соратником Дюмурье, другом Лафайета, он был членом клуба якобинцев; Мирабо похлопывал его по плечу; Дантон обращался к нему со словами: «молодой человек». В возрасте двадцати четырех лет, в 93-м году, он, тогда еще г-н де Шартр, присутствовал, сидя в глубине маленькой темной ложи в зале Конвента, на процессе Людовика XVI, столь удачно названного: «этот бедный тиран». Он видел все, он созерцал все эти головокружительные превращения; слепое ясновидение революции, которая сокрушила монархию в лице монарха и монарха вместе с монархией, почти не заметив человека во время этого яростного уничтожения идеи; он видел могучую бурю народного гнева в революционном трибунале, допрос Капета, не знающего, что ответить, ужасающее бессмысленное покачивание этой царственной головы под мрачным дыханием этой бури, относительную невиновность всех участников катастрофы – как тех, кто осуждал, так и того, кто был осужден; он видел века, представшие перед судом Конвента; он видел, как за спиной Людовика XVI, этого злополучного прохожего, на которого пало все бремя ответственности, вырисовывался во мраке главный обвиняемый – Монархия, и его душа исполнилась почтительного страха перед необъятным правосудием народа, почти столь же безличным, как правосудие бога.
След, оставленный в нем революцией, был неизгладим. Его память стала как бы живым отпечатком этих великих годин, минута за минутой. Однажды перед свидетелем, которому невозможно не доверять, он исправил по памяти весь список членов Учредительного собрания, фамилии которых начинались на букву «А».
Луи-Филипп был королем, царствующим при ярком дневном свете. Во время его царствования печать была свободна, трибуна свободна, слово и совесть свободны. В сентябрьских законах есть просветы. Хотя он и знал, какое разрушительное действие оказывает свет на привилегии, тем не менее он оставил свой трон освещенным. История зачтет ему эту лояльность.
Луи-Филипп, как все исторические деятели, сошедшие со сцены, сегодня подлежит суду человеческой совести. Его дело проходит теперь лишь первую инстанцию.
Час, когда история вещает свободным и внушительным голосом, еще для него не пробил; не настало еще время, когда она произнесет об этом короле окончательное суждение; строгий и прославленный историк Луи Блан сам недавно смягчил прежний приговор, который вынес ему; Луи-Филипп был избран теми двумя недоносками, которые именуются большинством двухсот двадцати одного и 1830 годом, то есть полупарламентом и полуреволюцией; и во всяком случае, с той нелицеприятной точки зрения, на которой должна стоять философия, мы могли судить его здесь, как это вытекает из сказанного нами выше, лишь с известными оговорками, во имя абсолютного демократического принципа. Пред лицом абсолютного всякое право, помимо права человека и права народа, есть незаконный захват. Но уже в настоящее время, сделав эти оговорки и взвесив все обстоятельства, мы можем сказать, что Луи-Филипп, как бы о нем ни судили, сам по себе, по своей человеческой доброте, останется, если пользоваться языком древней истории, одним из лучших государей, когда-либо занимавших престол.
Что же свидетельствует против него? Именно этот престол. Отделите Луи-Филиппа от его королевского сана, он останется человеком. И человеком добрым. Порою добрым на удивление. Часто, среди самых тяжких забот, после дня, проведенного в борьбе против дипломатии Европы, он вечером возвращался в свои покои и там, изнемогая от усталости и желания уснуть, – что делал он? Он брал судебное дело и проводил всю ночь за пересмотром какого-нибудь процесса, полагая, что давать отпор Европе – дело важное, но еще важнее вырвать человека из рук палача. Он возражал своему министру юстиции, он оспаривал шаг за шагом владения, захваченные гильотиной, у прокуроров, этих «присяжных болтунов правосудия», как он их называл. Иногда груды судебных дел заваливали его стол; он просматривал их все; ему было мучительно тяжело предоставлять эти несчастные обреченные головы их участи. Однажды он сказал тому же свидетелю, на которого мы ссылались: «Сегодня ночью я отыграл семерых». В первые годы его царствования смертная казнь была как бы отменена, и вновь воздвигнутый эшафот был насилием над волей короля. Гревская площадь исчезла вместе со старшею ветвью, но вместо нее появилась застава Сен-Жак – Гревская площадь буржуазии; «люди деловые» чувствовали необходимость в какой-нибудь хоть с виду узаконенной гильотине; то была одна из побед Казимира Перье, представителя узкокорыстных интересов буржуазии, над Луи-Филиппом, представителем ее либеральных сторон. Луи-Филипп собственноручно делал пометки на полях книги Беккарии. После взрыва адской машины Фиески он воскликнул: «Как жаль, что я не был ранен! Я мог бы его помиловать». Другой раз, намекая на сопротивление своих министров, он написал по поводу политического осужденного, который представлял собой одну из наиболее благородных личностей нашего времени: «Помилование ему даровано, мне остается только добиться его». Луи-Филипп был мягок, как Людовик IX, и добр, как Генрих IV.
А для нас, знающих, что в истории доброта – редкая жемчужина, тот, кто добр, едва ли не стоит выше того, кто велик.
Луи-Филипп был строго осужден одними и, быть может, слишком жестоко другими, поэтому вполне понятно, что человек, знавший этого короля и сам ставший призраком сегодня, предстательствует за него перед историей; это предстательство, каково бы оно ни было, несомненно и прежде всего бескорыстно; эпитафия, написанная умершим, искренна; тени дозволено утешить другую тень; пребывание в одном и том же мраке дает право воздать хвалу; и вряд ли нужно опасаться, что когда-нибудь скажут о двух могилах изгнанников: «Обитатель одной польстил другому».
Глава 4. Трещины под основанием.
К тому времени, когда драма, о которой мы повествуем в этой книге, должна проникнуть в толщу одной из мрачных туч, заволакивающих начало царствования Луи-Филиппа, нам не следовало допускать недомолвок и необходимо было дать объяснение личности короля.
Луи-Филипп взошел на престол, не применяя насилия, без прямого воздействия со своей стороны, благодаря революционному повороту, несомненно очень далекому от действительной цели революции, но в котором он, герцог Орлеанский, никакого личного почина не проявил. Он родился принцем и считал себя королем по избранию. Он не сам дал себе эти полномочия, не присваивал их; они были ему предложены, и он их принял, пусть ошибочно, но глубоко убежденный, что предложение отвечало его праву, а согласие принять – его долгу. Отсюда его уверенность в законности своей власти. Да, мы утверждаем это по чистой совести, Луи-Филипп был уверен в законности своей власти, а демократия была уверена в законности своей борьбы с нею, поэтому вина за то страшное, что порождает социальные битвы, не падает ни на короля, ни на демократию. Столкновение принципов подобно столкновению стихий. Океан защищает воду, ураган защищает воздух; король защищает королевскую власть, демократия защищает народ; относительное, то есть монархия, сопротивляется абсолютному, то есть республике; общество истекает кровью в этой борьбе, но то, что сейчас является его страданием, станет позднее спасением. Во всяком случае, не приходится порицать борющихся: одна из двух сторон явно находится в заблуждении; право не стоит, подобно колоссу Родосскому, сразу на двух берегах – одной ногой опираясь на республику, другою – на монархию; оно неделимо и целиком находится на одной стороне; но заблуждающиеся заблуждаются искренно; слепой – не преступник, как вандеец – не разбойник. Припишем же эти страшные столкновения лишь роковому стечению обстоятельств. Каковы бы ни были эти бури, люди за них не ответственны.
Закончим наше изложение.
Правительству 1830 года тотчас же пришлось туго. Вчера родившись, оно должно было сегодня сражаться.
Едва успев утвердиться, оно сразу почувствовало смутное воздействие сил, направленных отовсюду на июльскую систему правления, столь недавно созданную и столь непрочную.
Сопротивление появилось на следующий же день; быть может даже, оно родилось накануне.
С каждым месяцем враждебность росла и из тайной стала явной.
Июльская революция, как мы отмечали, плохо встреченная королями вне Франции, была в самой Франции истолкована различно.
Бог открывает людям свою волю в событиях – это темный текст, написанный на таинственном языке. Люди тотчас же делают переводы – переводы поспешные, неправильные, полные промахов, пропусков и искажений. Очень немногие понимают язык божества. Наиболее прозорливые, спокойные, глубокие расшифровывают его медленно, и когда они приходят со своим текстом, оказывается, что работа эта давно уже сделана – на площади выставлено двадцать переводов. Из каждого перевода рождается партия, из каждого искажения – фракция; и каждая партия полагает, что только у нее правильный текст, каждая фракция полагает, что истина – лишь ее достояние.
Нередко и сама власть является фракцией.
Во всех революциях встречаются пловцы, которые плывут против течения, – это старые партии.
По мнению старых партий, признающих лишь наследственную власть божией милостью, если революции возникают по праву на восстание, то по этому же праву можно восставать и против них. Заблуждение. Ибо во время революции бунтовщиком является не народ, а король. Именно революция и является противоположностью бунта. Каждая революция, будучи естественным завершением, заключает в самой себе свою законность, которую иногда бесчестят мнимые революционеры; но даже запятнанная ими, она держится стойко, и, даже обагренная кровью, она выживает. Революция не случайность, а необходимость. Революция – это возвращение от искусственного к естественному. Она происходит потому, что должна произойти.
Тем не менее старые легитимистские партии нападали на революцию 1830 года со всей яростью, порожденной их ложными взглядами. Заблуждения – отличные метательные снаряды. Они умело поражали эту революцию там, где она была уязвима за отсутствием брони, – за недостатком логики; они нападали на эту революцию в ее королевском обличье. Они ей кричали: «Революция, а зачем же у тебя король?» Старые партии – это слепцы, которые целят метко.
Республиканцы, в свою очередь, кричали о том же. Но с их стороны это было последовательно. То, что являлось слепотой у легитимистов, было прозорливостью у демократов. 1830 год обанкротился в глазах народа. Негодующая демократия упрекала его в этом.
Июльское установление отражало атаки прошлого и будущего. В нем как бы воплощалась минута, вступившая в бой и с монархическими веками, и с вечным правом.
Кроме того, перестав быть революцией и превратившись в монархию, 1830 год был обязан за пределами Франции идти в ногу с Европой. Сохранять мир – значило еще больше усложнить положение. Гармония, которой добиваются вопреки здравому смыслу, нередко более обременительна, чем война. Из этого глухого столкновения, всегда сдерживаемого намордником, но всегда рычащего, рождается вооруженный мир – разорительная политика цивилизации, самой себе внушающей недоверие. Какова бы ни была Июльская монархия, но она вставала на дыбы в запряжке европейских кабинетов. Меттерних охотно взял бы ее в повода. Подгоняемая во Франции прогрессом, она, в свою очередь, подгоняла европейские монархии, этих тихоходов. Взятая на буксир, она сама тащила на буксире.
А в то же время внутри страны обнищание, пролетариат, заработная плата, воспитание, карательная система, проституция, положение женщины, богатство, бедность, производство, потребление, распределение, обмен, валюта, кредит, права капитала, права труда – все эти вопросы множились, нависая над обществом черной тучей.
Вне политических партий в собственном смысле этого слова обнаружилось и другое движение. Демократическому брожению отвечало брожение философское. Избранные умы чувствовали себя встревоженными, как и толпа; по-другому, но в такой же степени.
Мыслители размышляли, в то время как почва, – то есть народ, – изрытая революционными течениями, дрожала под ними, словно в каком-то глухом эпилептическом припадке. Эти мечтатели, некоторые в одиночестве, другие объединившись в тесные семьи, почти в сообщества, исследовали социальные вопросы мирно, но глубоко; бесстрастные рудокопы, они тихонько прокладывали свои ходы в глубинах вулкана, мало обеспокоенные отдаленными толчками и вспышками пламени.
Это спокойствие занимало не последнее место в ряду прекрасных зрелищ той бурной эпохи.
Люди эти предоставили политическим партиям вопросы права, сами же занялись вопросом человеческого счастья.
Человеческое благополучие – вот что хотели они добыть из недр общества.
Они подняли вопросы материальные, вопросы земледелия, промышленности, торговли, почти до высоты религии. В цивилизации, такой, какою она создается, – отчасти богом и, гораздо больше, людьми, – интересы переплетаются, соединяются и сплавляются так, что образуют настоящую скалу, согласно закону движения, терпеливо изучаемому экономистами, этими геологами политики.
Люди эти, объединившиеся под разными названиями, но которых можно в целом определить их родовым наименованием – социалисты, пытались просверлить скалу, чтобы забил из нее живой родник человеческого счастья.
Их труды охватывали все, начиная от смертной казни и кончая вопросом о войне. К правам человека, провозглашенным Французской революцией, они прибавили права женщины и права ребенка.
Пусть не удивляются, что мы, по разным соображениям, не обсуждаем здесь исчерпывающим образом, с точки зрения теоретической, вопросы, затронутые социалистами. Мы ограничиваемся тем, что указываем на них.
Все проблемы, выдвинутые социалистами, за исключением космогонических бредней, грез и мистицизма, могут быть сведены к двум основным проблемам.
Первая проблема: создать материальные богатства.
Вторая проблема: распределить их.
Первая проблема включает вопрос о труде.
Вторая – вопрос о плате за труд.
В первой проблеме речь идет о применении производительных сил.
Во второй – о распределении жизненных благ.
Следствием правильного применения производительных сил является общественная мощь.
Следствием правильного распределения жизненных благ является счастье личности.
Под правильным распределением следует понимать не равное распределение, а распределение справедливое. Основа равенства – справедливость.
Из соединения этих двух начал – общественной мощи вовне и личного благоденствия внутри – следует социальное процветание.
Социальное процветание означает: счастливый человек, свободный гражданин, великая нация.
Англия разрешила первую из этих двух проблем. Она превосходно создает материальные богатства, но плохо распределяет их. Такое однобокое решение роковым образом приводит ее к двум крайностям: чудовищному богатству и чудовищной нужде. Все жизненные блага – одним, все лишения – другим, то есть народу, причем привилегии, исключения, монополии, власть феодалов являются порождением самой формы труда. Положение ложное и опасное, ибо общественное могущество зиждется тут на нищете частных лиц, а величие государства – на страданиях отдельной личности. Это – дурно созданное величие, где сочетаются все материальные его основы и куда не вошло ни одно нравственное начало.
Коммунизм и аграрный закон предполагают разрешить вторую проблему. Они заблуждаются. Такое распределение убивает производство. Равный дележ уничтожает соревнование и, следовательно, труд. Так мясник убивает то, что он делит на части. Стало быть, невозможно остановиться на этих притязающих на правильность решениях. Уничтожить богатство – не значит его распределить.
Чтобы хорошо разрешить обе проблемы, их нужно рассматривать совместно. Оба решения следует соединить, образовав из них лишь одно.
Решите только первую из этих двух проблем, и вы станете Венецией, вы станете Англией. Как Венеция, вы будете обладать мощью, созданной искусственно, или, как Англия, – материальным могуществом; вы будете неправедным богачом. Вы погибнете или насильственным путем, как умерла Венеция, или обанкротившись, как падет Англия. И мир предоставит вам погибнуть и пасть, потому что мир предоставляет падать и погибать всякому себялюбию, всему тому, что не являет собой для человеческого рода какой-либо добродетели или идеи.
Само собой разумеется, что словами: Венеция, Англия мы называем здесь не народ, а определенный общественный строй – олигархии, стоящие над нациями, а не сами нации. Народы всегда пользуются нашим уважением и сочувствием. Венеция как народ возродится; Англия как аристократия падет, но Англия как народ – бессмертна. Отметив это, мы продолжаем.
Разрешите обе проблемы: поощряйте богатого и покровительствуйте бедному, уничтожьте нищету, положите конец несправедливой эксплуатации слабого сильным, наложите узду на неправую зависть того, кто находится в пути, к тому, кто достиг цели, по-братски и точно установите оплату за труд соответственно с работой, подарите бесплатное и обязательное обучение подрастающим детям, сделайте из знания основу зрелости; давая дело рукам, развивайте и ум, будьте одновременно могущественным народом и семьей счастливых людей, демократизируйте собственность, не отменив ее, но сделав общедоступной, чтобы каждый гражданин без исключения был собственником, а это легче, чем кажется, короче говоря, умейте создавать богатство и умейте его распределять; тогда вы будете обладать всем материальным величием и величием нравственным; тогда вы будете достойны называть себя Францией.
Вот что, пренебрегая некоторыми заблуждающимися сектами и возвышаясь над ними, утверждал социализм; вот чего он искал в фактах, вот что он подготовлял в умах.
Усилия, достойные восхищения! Святые порывы!
Эти учения, эти теории, это сопротивление, неожиданная для государственного человека необходимость считаться с философами, смутно намечавшиеся новые истины, попытки создать новую политику, согласованную со старым строем и не слишком противоречащую революционным идеалам, положение вещей, при котором приходилось пользоваться услугами Лафайета для защиты Полиньяка, ощущение просвечивающего сквозь мятеж прогресса, палата депутатов и улица, необходимость уравновешивать разгоревшиеся вокруг него страсти, вера в революцию, быть может, некое предвидение отречения в будущем, рожденное смутной покорностью высшему, неоспоримому праву, собственная честность, желание остаться верным своему роду, дух семейственности, искреннее уважение к народу – все это поглощало Луи-Филиппа почти болезненно и порой, при всей его стойкости и мужестве, угнетало его, давая чувствовать, как трудно быть королем.
Он чувствовал, что почва под ним в состоянии какого-то страшного распада, однако это не было полным разрушением, так как Франция оставалась Францией более, чем когда-либо.
Темные сгрудившиеся тучи покрывали горизонт. Странная тень, надвигавшаяся все ближе и ближе, мало-помалу распростерлась над людьми, над вещами, над идеями – тень, отбрасываемая распрями и системами. Все, что было поспешно придушено, вновь оживало и начинало бродить. Иногда совесть честного человека задерживала дыхание, столько было нездорового в воздухе, где софизмы перемешивались с истинами. В этой тревоге, овладевшей обществом, умы трепетали, как листья перед близящейся бурей. Вокруг было такое скопление электричества, что в иные мгновения первый встречный, никому не ведомый дотоле, мог вызвать вспышку света. Затем снова спускалась сумеречная тьма. Время от времени глухие отдаленные раскаты грома свидетельствовали о том, какой грозой чреваты были облака.
Едва прошло двадцать месяцев после Июльской революции, как в роковом и мрачном облике явил себя 1832 год. Народная нищета, труженики без хлеба, последний принц Конде, исчезнувший во мраке, Брюссель, изгнавший династию Нассау, как Париж – Бурбонов, Бельгия, предлагавшая себя французскому принцу и отданная английскому, ненависть русского императора Николая, позади нас два беса полуденных – Фердинанд Испанский и Мигель Португальский, землетрясение в Италии, Меттерних, протянувший руку к Болонье, Франция, оскорбившая Австрию в Анконе, на севере зловещий стук молотка, вновь заколачивающего в гроб Польшу, подстерегающие Францию раздраженные взгляды всей Европы, Англия – эта подозрительная союзница, готовая толкнуть то, что колеблется, и наброситься на то, что упадет, суд пэров, прикрывающийся Беккарией, чтобы спасти четыре головы от законного приговора, лилии, соскобленные с кареты короля, крест, сорванный с Собора Парижской богоматери, униженный Лафайет, разоренный Лафит, умерший в бедности Бенжамен Констан, потерявший все свое влияние и скончавшийся Казимир Перье; болезнь политическая и болезнь социальная, вспыхнувшие сразу в обеих столицах королевства – одна в городе мысли, другая в городе труда: в Париже война гражданская, в Лионе – война рабочих; в обоих городах один и тот же отблеск бушующего пламени; багровый свет извергающегося вулкана на челе народа; пришедший в исступление юг, возбужденный запад, герцогиня Беррийская в Вандее, заговоры, злоумышления, восстания, холера – все это прибавляло к смутному гулу идей смутную сумятицу событий.
Глава 5. Факты, порождающие историю, но ею не признаваемые.
К концу апреля все осложнилось. Брожение переходило в кипение. После 1830 года там и сям вспыхивали небольшие отдельные бунты, быстро подавляемые, но возобновлявшиеся, – признак широко разлившегося, скрытого пожара. Назревало нечто страшное. Проступали еще недостаточно различимые и плохо освещенные очертания возможной революции. Франция смотрела на Париж; Париж смотрел на Сент-Антуанское предместье.
Сент-Антуанское предместье, втайне подогреваемое, начинало бурлить.
Кабачки на улице Шарон стали серьезными и грозными – как ни покажется странным применение двух этих эпитетов к кабачкам.
Правительство попросту и откровенно было там взято под сомнение. Открыто обсуждалось: драться или сохранять спокойствие. Кое-где в задних помещениях кабачков с рабочих брали клятву, что они выйдут на улицу при первой тревоге и «будут драться, невзирая на численность врага». Как только обязательство было принято, человек, сидевший в углу кабачка, «повышал голос» и говорил: Ты дал согласие! Ты в этом поклялся! Иногда поднимались на второй этаж в запертую комнату, и там происходили сцены, почти напоминавшие масонские обряды. Посвященного приводили к присяге «служить делу так же, как дети служат отцу». Такова была ее формула.
В общих залах читали «крамольные» брошюры. Они поносили правительство, как сообщает секретное донесение того времени.
Там слышались такие слова: Мне неизвестны имена вождей. Что до нас, то мы узнаем о назначенном дне только за два часа. Один рабочий сказал: Нас триста человек, дадим каждый по десять су – вот вам сто пятьдесят франков на порох и пули. Другой сказал: Мне не нужно шести месяцев, не нужно и двух. Не минет и двух недель, как мы сравняемся с правительством. Собрав двадцать пять тысяч человек, можно схватиться вплотную. Третий заявил: Я почти совсем не сплю, всю ночь делаю патроны. Время от времени появлялись люди, «хорошо одетые, по виду буржуа», «производили замешательство» и, держась «распорядителями», пожимали руки самым главным, потом уходили. Они никогда не оставались больше десяти минут. Понизив голос, они обменивались многозначительными словами: Заговор созрел. Дело готово. «Об этом твердили все, кто был там», – как выразился один из присутствовавших. Возбуждение было таково, что однажды в переполненном кабачке какой-то рабочий закричал: У нас нет оружия! Один из его приятелей ответил: Оно есть у солдат! – пародируя, сам того не зная, обращение Бонапарта к Итальянской армии. «Когда дело касалось какой-нибудь более важной тайны, – прибавляет один из рапортов, – то там они ее не сообщали друг другу». Непонятно, что еще они могли скрывать, сказав то, что ими было сказано.
Нередко такие собрания принимали вполне регулярный характер. На иных никогда не бывало больше восьми или десяти человек, всегда одних и тех же. На другие ходил всякий, кто хотел, и зал бывал так переполнен, что люди принуждены были стоять. Одни шли туда, потому что были охвачены страстным энтузиазмом, другие – потому что это им было по пути на работу. Как и во время революции 1789 года, эти собрания посещали женщины-патриотки, встречавшие поцелуем вновь прибывших.
Стали известны и другие красноречивые факты.
Человек входил в кабачок, выпивал и уходил со словами: Должок мой, дядюшка, уплатит революция.
У кабатчика, что напротив улицы Шарон, намечали революционных уполномоченных. Избирательные записки собирали в фуражки.
Рабочие сходились на улице Котт, у одного фехтовальщика, который учил приемам нападения. Там имелся набор оружия, состоявший из деревянных эспадронов, тростей, палок и рапир. Настал день, когда пуговки с рапир сняли. Один рабочий сказал: Нас двадцать пять, но я не в счет, потому что меня считают рохлей. Этим «рохлей» впоследствии оказался не кто иной, как Кениссе.
Некоторые замыслы мало-помалу становились каким-то непонятным образом известными. Одна женщина, подметавшая у своего дома, сказала другой: Уже давно вовсю выделывают патроны. На улицах открыто читали прокламации, обращенные к национальным гвардейцам департаментов. Одна из прокламаций была подписана: Борто, виноторговец.
Однажды на рынке Ленуар, возле лавочки, торговавшей водочными настойками, какой-то бородач с итальянским акцентом, взобравшись на тумбу, громко читал необычное рукописное послание, казалось, исходившее от некой таинственной власти. Вокруг него собрались кучками слушатели и рукоплескали ему. Отдельные выражения, особенно сильно возбуждавшие толпу, были собраны и записаны: «…Нашему учению ставят препятствия, наши воззвания уничтожают, наших людей выслеживают и заточают в тюрьмы». «Беспорядки, имевшие место на мануфактурах, привлекли на нашу сторону умеренных людей». «…Будущее народа создается в наших безвестных рядах». «…Выбор возможен лишь один: действие или противодействие, революция или контрреволюция. Ибо в нашу эпоху больше не верят ни бездеятельности, ни неподвижности. С народом или против народа – вот в чем вопрос. Другого не существует». «…В тот день, когда мы окажемся для вас неподходящими, замените нас, но до тех пор помогайте нам идти вперед». Все это говорилось среди бела дня.
Другие выступления, еще более дерзкие, были подозрительны народу именно по причине этой дерзости. 4 апреля 1832 года прохожий, вскочив на тумбу на углу улицы Св. Маргариты, вскричал: «Я бабувист!» Но за именем Бабефа народ учуял Жиске.
Между прочим этот прохожий говорил:
– Долой собственность! Левая оппозиция – это трусы и предатели. Когда ей надо доказать, что она в здравом уме, она проповедует революцию. Она объявляет себя демократкой, чтобы не быть побитой, и роялисткой, чтобы не драться. Республиканцы – мокрые курицы. Не доверяйте республиканцам, граждане трудящиеся!
– Молчать, гражданин шпик! – крикнул ему рабочий.
Этот окрик положил конец его речи.
Бывали и таинственные случаи.
Как-то к вечеру один рабочий встретил возле канала «хорошо одетого господина», который его спросил: «Куда идешь, гражданин?» – «Сударь, – ответил рабочий, – я не имею чести вас знать». – «Зато я тебя хорошо знаю, – сказал тот и прибавил: – Не бойся. Я уполномоченный комитета. Подозревают, что ты не очень надежен. Знай, если ты что-нибудь выболтаешь, то это будет известно, за тобою следят». Потом, пожав рабочему руку, он ушел, сказав: «Мы скоро увидимся».
Полиция, подслушивая разговоры, отмечала уже не только в кабачках, но и на улицах странные диалоги.
– Постарайся-ка получить поскорей, – говорил ткач краснодеревцу.
– Почему?
– Да придется пострелять малость.
Двое оборванных прохожих обменялись следующими примечательными словами, явно отдававшими жакерией:
– Кто нами правит?
– Господин Филипп.
– Нет, буржуазия.
Те, кто подумает, что мы употребляем слово «жакерия» в дурном смысле, ошибутся. Участники жакерии – это бедняки.
В другой раз слышали, как один прохожий говорил другому: «У нас отличный план наступления».
Из конфиденциального разговора, происходившего между четырьмя мужчинами, сидевшими во рву круглой площади возле Тронной заставы, только и удалось расслышать, что: «Сделают все возможное, чтобы он не разгуливал больше по Парижу».
Кто это «он»? Неизвестность, исполненная угрозы.
«Вожаки», как их называли в предместье, держались в стороне. Полагали, что они сходятся для согласования действий в кабачке возле церкви Сент-Эсташ. Некто, по прозвищу «Ог», председатель общества взаимопомощи портных на улице Мондетур, считался главным посредником между вожаками и Сент-Антуанским предместьем. Тем не менее эти вожаки всегда были в тени, и ни одна самая неопровержимая улика не могла поколебать замечательную сдержанность следующего ответа, данного позже одним обвиняемым на суде пэров.
– Кто ваш руководитель? – спросили его.
– Я этого не знал, да и не разузнавал, кто он.
Впрочем, пока это были только слова, прозрачные по смыслу, но неопределенные; иногда пустые предположения, слухи, пересуды. Но появлялись и другие признаки.
Плотник, обшивавший тесом забор вокруг строящегося дома на улице Рейи, нашел на этом участке клочок разорванного письма, где можно было еще разобрать следующие строки:
«…Необходимо, чтобы комитет принял меры с целью помешать набору людей в секции некоторых обществ…».
И в приписке:
«Мы узнали, что на улице Фобур-Пуасоньер № 5 (б) у оружейника во дворе имеются ружья в количестве пяти или шести тысяч. У секции совсем нет ружей».
Это привело к тому, что плотник встревожился и показал свою находку соседям, тем более что немного подальше он подобрал другую бумажку, тоже разорванную и еще более многозначительную. Мы воспроизводим ее начертание, имея в виду исторический интерес этого странного документа.
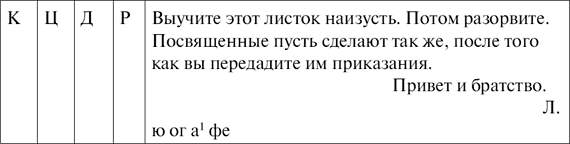
Лица, знавшие тогда об этой таинственной находке, поняли только впоследствии скрытое значение четырех прописных букв – это были квинтурионы, центурионы, декурионы, разведчики, а буквы ю ог а1 фе означали дату: 15 апреля 1832 года. Под каждой прописной буквой были написаны имена, сопровождавшиеся весьма примечательными указаниями: «К – Банерель. 8 ружей, 83 патрона. Человек надежный. Ц – Бубьер. 1 пистолет, 40 патронов; Д – Роле. 1 рапира, 1 пистолет, 1 фунт пороха; Р – Тейсье. 1 сабля, 1 патронташ. Точен; Террор. 8 ружей. Храбрец» и т. д.
Наконец тот же плотник нашел все внутри этой же ограды третью бумагу, на которой карандашом, но вполне разборчиво был начертан следующий загадочный список.
Единство. Бланшар. Арбр-Сэк, 6.
Барра. Суаз. Счетная палата.
Костюшко. Обри-Мясник?
Ж. Ж. Р.
Кай Гракх.
Право осмотра. Дюфон. Фур.
Падение жирондистов. Дербак. Мобюэ.
Вашингтон. Зяблик. 1 пист. 86 патр.
Марсельеза.
Главенст. народа. Мишель. Кенкампуа. Сабля.
Гош.
Марсо. Платон. Арбр-Сэк.
Варшава. Тилли, продавец газеты «Попюлер».
Почтенный буржуа, в чьих руках осталась записка, распознал ее смысл. По-видимому, этот список был полным перечнем секций четвертого округа общества Прав человека с именами и адресами главарей секций. В настоящее время, когда все эти факты, оставшиеся неизвестными, принадлежат лишь истории, можно их обнародовать. Нужно прибавить, что основание общества Прав человека как будто произошло позже той даты, когда эта бумага была найдена. Возможно, то был черновой набросок.
Тем не менее за намеками, словами и письменными свидетельствами начали обнаруживаться реальные дела. На улице Попенкур при обыске у старьевщика в ящике комода нашли семь листов оберточной бумаги, одинаково сложенных пополам, а потом вчетверо; под этими листами были спрятаны двадцать шесть четвертушек такой же бумаги, свернутых для патронов, и карточка, на которой значилось:
Селитра – 12 унций.
Сера – 2 унции.
Уголь – 2 с половиной унции.
Вода – 2 унции.
Протокол обыска гласил, что ящик сильно отдавал запахом пороха.
Один каменщик, возвращаясь после рабочего дня, забыл небольшой сверток на скамье возле Аустерлицкого моста. Этот сверток отнесли на караульный пост. Его развернули и обнаружили два напечатанных диалога, подписанных Лотьер, песню, озаглавленную «Рабочие, соединяйтесь!», и жестяную коробку, полную патронов.
Один рабочий, выпивая со своим приятелем, в доказательство того, что ему жарко, предложил себя пощупать; тот, притронувшись к нему, обнаружил у него под курткой пистолет.
На бульваре, между Пер-Лашез и Тронной заставой, дети, игравшие в самом глухом его уголке, нашли в канаве, под кучей стружек и мусора, мешок, в котором была форма для отливки пуль, деревянная колодка для патронов, деревянная чашка с крупинками охотничьего пороха и маленький чугунный котелок с явными следами расплавленного свинца внутри.
Полицейские агенты, неожиданно явившись в пять часов утра к некоему Пардону, ставшему впоследствии членом секции Баррикада-Мерри и убитому во время восстания в апреле 1834 года, застали его стоящим возле постели, в руке он держал патроны, изготовлением которых был занят.
Во время обеденного отдыха рабочих заметили двух человек, встретившихся между заставами Пикпюс и Шарантон на узкой дорожке дозорных, между двумя стенами, возле кабачка, у входа в который обычно играют в сиамские кегли. Один вытащил из-под своей блузы и передал другому пистолет. Вручая его, он заметил, что порох несколько отсырел на потной груди. Он проверил пистолет и подсыпал пороху на полку. После этого они расстались.
Некто, по имени Галле, впоследствии убитый на улице Бобур во время апрельских событий, хвастал, что у него есть семьсот патронов и двадцать четыре ружейных кремня.
Как-то раз правительство было извещено, что в предместьях роздано оружие и двести тысяч патронов. Неделю спустя было роздано еще тридцать тысяч патронов. Замечательно, что ни один патрон не попал в руки полиции. Перехваченное письмо сообщало: «Недалек день, когда восемьдесят тысяч патриотов встанут под ружье, как только пробьет четыре часа утра».
Все это брожение происходило в открытую и, можно сказать, почти спокойно. Назревавшее восстание готовило бурю на глазах у правительства. Все особенности этого пока еще тайного, но уже ощутимого кризиса были налицо. Буржуа мирно беседовали с рабочими о том, что предстояло. Осведомлялись: «Ну как восстание?» – тем же тоном, каким спросили бы: «Как поживает ваша супруга?».
Мебельщик на улице Моро спрашивал: «Ну что ж, когда начнете?».
Другой лавочник говорил: «Дело начнется скоро, я это знаю. Месяц тому назад вас было пятнадцать тысяч, а теперь двадцать пять». Он предлагал свое ружье, а сосед – маленький пистолет, за который он хотел семь франков.
Впрочем, революционная горячка усиливалась. Ни один уголок Парижа и Франции не был исключением. Всюду ощущалось биение ее пульса. Подобно оболочкам, которые образуются в человеческом теле вокруг тканей, пораженных воспалительным процессом, сеть тайных обществ начала распространяться по всей стране. Из общества Друзей народа, открытого и тайного одновременно, возникло общество Прав человека, датировавшее одно из своих распоряжений так: Плювиоз, год 40-й республиканской эры, – общество, которому было суждено пережить даже постановление уголовного суда о своем роспуске и которое, не колеблясь, давало своим секциям следующие многозначительные названия:
Пики.
Набат.
Сигнальная пушка.
Фригийский колпак.
21 Января.
Нищие.
Бродяги.
Робеспьер.
Нивелир.
Настанет день.
Общество Прав человека породило общество Действия. Его образовали нетерпеливые, отколовшиеся от общества и забежавшие вперед. Другие союзы пополнялись за счет единомышленников из больших основных обществ. Члены секций жаловались, что их тянут в разные стороны. Так образовался Галльский союз и Организационный комитет городских самоуправлений. Так образовались союзы: Свобода печати, Свобода личности, Народное образование, Борьба с косвенными налогами. Затем общество Рабочих – поборников равенства, делившееся на три фракции: поборников равенства, коммунистов и реформистов. Затем Армия Бастилии, род когорты, организованной по-военному: каждой четверкой командовал капрал, десятью – сержант, двадцатью – младший лейтенант, четырьмя десятками – лейтенант; в ней никогда не знали друг друга больше чем пять человек. Эта выдумка, где осторожность сочеталась со смелостью, казалось, была отмечена гением Венеции. Стоящий во главе центральный комитет имел две руки – общество Действия и Армию Бастилии. Легитимистский союз Рыцарей верности сеял смуту среди этих республиканских объединений. Он был разоблачен и изгнан.
Парижские общества разветвлялись в главных городах. В Лионе, Нанте, Лилле и Марселе были свои общества Прав человека, Карбонариев, Свободного человека. В Эксе было революционное общество под названием Кугурда. Мы уже упоминали о нем.
В Париже предместье Сен-Марсо кипело не меньше, чем предместье Сент-Антуан, и учебные заведения волновались не меньше, чем предместья. Кафе на улице Сент-Иасент и кабачок «Семь бильярдов» на улице Матюрен Сен-Жак служили местом сборища студентов. Общество Друзей азбуки, тесно связанное с обществами взаимопомощи в Анжере и Кугурды в Эксе, как известно, устраивало собрания в кафе «Мюзен». Те же самые молодые люди встречались, о чем мы уже упоминали, в кабачке «Коринф», близ улицы Мондетур. Эти собрания были тайными. Другие, насколько обстоятельства допускали, были открытыми, и об их вызывающе смелом характере можно судить по отрывку допроса в одном из последующих процессов: «Где происходило собрание? – На улице Мира. – У кого? – На улице. – Какие секции были там? – Одна. – Какая именно? – Секция Манюэль. – Кто был ее руководителем? – Я. – Вы еще слишком молоды, чтобы самостоятельно принять это опасное решение вступить в борьбу с правительством. Откуда вы получали указания? – Из Центрального комитета».
Армия была в такой же степени взбудоражена, как и народ, что подтвердилось позднее волнениями в Бельфоре, Люневиле и Эпинале. Мятежники рассчитывали на пятьдесят второй полк, пятый, восьмой, тридцать седьмой и двадцатый кавалерийский. В Бургундии и южных городах водружали дерево Свободы, то есть шест, увенчанный красным колпаком.
Таково было положение дел.
И это положение дел, как мы уже говорили в самом начале, особенно сильно и остро давало себя чувствовать в Сент-Антуанском предместье. Именно там был очаг возбуждения.
Это старинное предместье, населенное, как муравейник, работящее, смелое и сердитое, как улей, трепетало в нетерпеливом ожидании взрыва. Там все волновалось, но работа из-за этого не останавливалась. Ничто не могло бы дать представления о его живом и сумрачном облике. В этом предместье под кровлями мансард скрывалась потрясающая нищета; там же можно было найти людей пылкого и редчайшего ума. А именно нищета и ум являются особенно грозным сочетанием крайностей.
У предместья Сент-Антуан были еще и другие причины для волнений: на нем всегда отражаются торговые кризисы, банкротство, стачки, безработица, неотделимые от великих политических потрясений. Во время революции нужда – одновременно и причина, и следствие. Удар ее разящей руки отзывается и на ней самой. Население этого предместья, исполненное неустрашимого мужества, способное таить в себе величайший душевный пыл, всегда готовое взяться за оружие, легко воспламеняющееся, раздраженное, непроницаемое, подготовленное к восстанию, казалось, только ожидало искры. Каждый раз, как только на горизонте реяли эти искры, гонимые ветром событий, нельзя было не подумать о Сент-Антуанском предместье и о грозной случайности, поместившей у ворот Парижа эту пороховницу страдания и мысли.
Кабачки «предместья Антуан», уже не раз упомянутые в предшествующем очерке, отмечены исторической известностью. Во времена смут здесь опьянялись словом больше, чем вином. Здесь чувствовалось воздействие некоего пророческого духа и веяний будущего, переполнявших сердца и возвеличивавших душу. Кабачки Антуанского предместья походят на таверны Авентинского холма, построенные над пещерой Сивиллы, откуда проникали в них идущие из глубин ее священные дуновения, – на те таверны, где столы были почти подобны треножникам и где пили тот напиток, который Энний называет сивиллиным вином.
Сент-Антуанское предместье – это запасное хранилище народа. Революционное потрясение вызывает в нем трещины, сквозь которые пробивается верховная власть народа. Эта верховная власть может поступать дурно, у нее, как и у всякой другой, возможны ошибки; но, даже заблуждаясь, она остается великой. О ней можно сказать, как о слепом циклопе: Ingens[122].
В 93-м году, в зависимости от того, хороша или дурна была идея, владевшая умами, говорил ли в них в этот день фанатизм или благородный энтузиазм, из Сент-Антуанского предместья выходили легионы дикарей или отряды героев.
Дикарей. Объяснимся по поводу этого выражения. Чего хотели эти озлобленные люди, которые в дни созидающего революционного хаоса, оборванные, рычащие, свирепые, с дубинами наготове, с поднятыми пиками, неистово бросались на старый потрясенный Париж? Они хотели положить конец угнетению, конец тирании, конец войнам; они хотели работы для взрослого, грамоты для ребенка, общественной заботы для женщины, свободы, равенства, братства, хлеба для всех, превращения всего мира в рай земной, Прогресса. И доведенные до крайности, вне себя, страшные, полуголые, с дубинами в руках, с проклятиями на устах, они требовали этого святого, доброго и мирного прогресса. То были дикари, да; но дикари цивилизации.
Они с остервенением утверждали право; пусть даже путем страха и ужаса, но они хотели принудить человеческий род жить в раю. Они казались варварами, а были спасителями. Они требовали света, сами скрытые под маской тьмы.
Наряду с этими людьми, свирепыми и страшными, мы признаем это, но свирепыми и страшными во имя блага, есть и другие люди, улыбающиеся, в расшитой золотой одежде, в лентах и звездах, в шелковых чулках, белых перьях, желтых перчатках, лакированных туфлях; облокотившись на обитый бархатом столик возле мраморного камина, они кротко высказываются за сохранение и поддержку прошлого, средневековья, священного права, фанатизма, невежества, рабства, смертной казни и войны, вполголоса и учтиво прославляя меч, костер и эшафот. Что до нас, то если бы мы были вынуждены сделать выбор между варварами цивилизации и цивилизованными варварами, – мы выбрали бы первых.
Но, благодарение небу, возможен другой выбор. Нет необходимости низвергаться в бездну ни ради прошлого, ни ради будущего. Ни деспотизма, ни террора. Мы хотим идти к прогрессу пологой тропинкой.
Господь позаботится об этом. Сглаживание неровностей пути – в этом вся политика бога.
Глава 6. Анжольрас и его помощники.
Незадолго до этого времени Анжольрас, предвидя возможные события, произвел нечто вроде скрытой проверки.
Все были на тайном собрании в кафе «Мюзен». Введя в свою речь несколько полузагадочных, но многозначительных метафор, Анжольрас сказал:
– Не мешает знать, чем мы располагаем и на кого можем рассчитывать. Кто хочет иметь бойцов, должен их подготовить. Должен иметь чем воевать. Повредить это не может. Когда на дороге быки, у прохожих больше вероятности попасть им на рога, чем тогда, когда их нет. Подсчитаем же примерно, каково наше стадо. Сколько нас? Не стоит откладывать это дело на завтра. Революционеры всегда должны спешить; у прогресса мало времени. Не будем доверять неожиданному. Не дадим захватить себя врасплох. Нужно пройтись по всем швам, которые мы сделали, и посмотреть, прочны ли они. Доведем дело до конца, и сегодня же. Ты, Курфейрак, пойди взглянуть на политехников. Сегодня среда – у них день отдыха. Фейи, вы взглянете на тех, что в Гласьер, не так ли? Комбефер обещал мне побывать в Пикпюсе. Там все здорово кипит. Баорель посетит Эстрападу. Прувер, масоны охладевают; ты принесешь нам вести о ложе на улице Гренель-Сент-Оноре. Жоли пойдет в клинику Дюпюитрена и пощупает пульс у Медицинской школы. Боссюэ прогуляется до судебной палаты и поговорит с начинающими юристами. Сам я займусь Кугурдой.
– Вот и все в порядке, – сказал Курфейрак.
– Нет.
– Что же еще?
– Очень важное дело.
– Какое? – спросил Курфейрак.
– Менская застава, – ответил Анжольрас.
Он немного помедлил, как бы раздумывая, потом снова заговорил:
– У Менской заставы живут мраморщики, художники, ученики ваятелей. Это ребята горячие, но склонные остывать. Я не знаю, что с ними происходит с некоторого времени. Они думают о чем-то другом. Их пыл угасает. Они тратят время на домино. Совершенно необходимо поговорить с ними немного, но крепко. Они собираются у Ришфе. Там их можно застать между двенадцатью и часом. Надо бы раздуть этот уголь под пеплом. Я рассчитывал на этого беспамятного Мариуса, малого, в общем, славного, но он не появляется. Мне бы нужен был кто-нибудь для Менской заставы. Но у меня нет людей.
– А я? – сказал Грантэр. – Я-то ведь здесь.
– Ты?
– Я.
– Тебе поучать республиканцев! Тебе раздувать во имя принципов огонь в охладевших сердцах!
– Почему же нет?
– Да разве ты на что-нибудь годишься?
– Но я, некоторым образом, стремлюсь к этому.
– Ты ни во что не веришь.
– Я верю в тебя.
– Грантэр, хочешь оказать мне услугу?
– Какую угодно! Могу даже почистить тебе сапоги.
– Хорошо, в таком случае не вмешивайся в наши дела. Потягивай свой абсент.
– Анжольрас, ты неблагодарен.
– И ты скажешь, что готов пойти к Менской заставе? Ты способен на это?
– Я способен спуститься по улице Гре, пересечь площадь Сен-Мишель, пройти улицей Принца до улицы Вожирар, потом миновать Кармелитов, свернуть на улицу Ассас, добраться до улицы Шерш-Миди, оставить за собой Военный совет, пробежать Старым Тюильри, проскочить бульвар, наконец, следуя по Менскому шоссе, перейти через заставу и попасть прямо к Ришфе. Я способен на это. И мои сапоги тоже способны.
– Знаешь ли ты хоть немного товарищей у Ришфе?
– Не так чтобы очень. Однако я с ними на «ты».
– Что же ты им скажешь?
– Я поговорю с ними о Робеспьере, черт возьми! О Дантоне. О принципах.
– Ты?!
– Я. Меня не ценят. Но когда я берусь за дело, берегись! Я читал Прюдома, мне известен «Общественный договор», я знаю назубок конституцию Второго года! «Свобода одного гражданина кончается там, где начинается свобода другого». И по-твоему, я невежда? У меня в письменном столе хранится старая ассигнация. Права человека, верховная власть народа, черт меня побери! Я даже немного эбертист. Я могу с часами в руках толковать о самых изумительных вещах шесть часов подряд.
– Будь посерьезнее, – сказал Анжольрас.
– Уж куда серьезнее! – ответил Грантэр.
Анжольрас подумал немного и вскинул голову, словно человек, который принял решение.
– Грантэр, – сказал он значительно, – я согласен испытать тебя. Отправляйся к Менской заставе.
Грантэр жил в меблированных комнатах рядом с кафе «Мюзен». Он ушел и вернулся через пять минут. Он побывал дома, чтобы надеть жилет во вкусе эпохи Робеспьера.
– Красный, – сказал он, входя и пристально глядя на Анжольраса.
Потом энергично похлопал ладонью по двум пунцовым отворотам жилета у себя на груди.
Подойдя к Анжольрасу, он шепнул ему на ухо:
– Не беспокойся.
Затем решительно нахлобучил шляпу и отбыл.
Четверть часа спустя задняя комната кафе «Мюзен» была пуста. Все Друзья азбуки разошлись каждый по своему делу. Анжольрас, взявший на себя Кугурду, вышел последним.
Члены Кугурды из Экса, находившиеся в Париже, собирались тогда в долине Исси, в одной из заброшенных каменоломен, столь многочисленных по эту сторону Сены.
Анжольрас, шагая к месту встречи, обдумывал про себя положение вещей. Серьезность того, что происходило, была очевидна. Когда события, предвестники некоей скрытой общественной болезни, развертываются медленно, малейшее осложнение останавливает их и запутывает. Здесь причина развала и возрождения. Анжольрас прозревал блистательное восстание под темным покровом будущего. Кто знает? Быть может, эта минута приближается. Народ, снова завоевывающий свои права! Какое прекрасное зрелище! Революция снова величественно завладевает Францией, вещая миру: «Продолжение завтра». Анжольрас был доволен. Горнило дышало жаром. За Анжольрасом тянулась в этот самый миг длинная пороховая дорожка – его друзья, рассеянные по всему Парижу. Мысленно он соединял философское и проникновенное красноречие Комбефера с восторженностью Фейи – этого гражданина мира, с пылом Курфейрака, смехом Баореля, грустью Жана Прувера, ученостью Жоли, сарказмами Боссюэ, – все вместе производило своего рода электрическое потрескивание, повсюду и одновременно сопровождающееся искрами. Все за работой. Результат, без сомнения, будет достоин затраченных усилий. Это хорошо. И тут он вспомнил о Грантэре. «Собственно говоря, Менская застава мне почти по пути, – сказал он про себя. – Не пойти ли мне к Ришфе? Посмотрим-ка, что делает Грантэр и чего он успел добиться».
На колокольне Вожирар пробило час, когда Анжольрас добрался до курильни Ришфе. Он вошел, отпустив дверь, с размаху хлопнувшую его по спине, скрестил руки и окинул взглядом залу, заполненную столами, людьми и табачным дымом.
Чей-то голос грохотал в этом тумане, нетерпеливо прерываемый другими. То был Грантэр, споривший со своим противником.
Грантэр сидел с кем-то за столиком из крапчатого мрамора, посыпанным отрубями и усеянным созвездиями костяшек домино. Он стучал кулаком по этому мрамору, и вот что услышал Анжольрас:
– Два раза шесть.
– Четверка.
– Свинья! У меня таких нет.
– Ты пропал. Двойка.
– Шесть.
– Три.
– Очко!
– Мне ходить.
– Четыре очка.
– Неважно.
– Тебе ходить.
– Я здорово промазал.
– Ты пошел правильно.
– Пятнадцать.
– И еще семь.
– Теперь у меня двадцать два. (Задумчиво.) Двадцать два!
– Ты не ожидал двойной шестерки. Если бы я ее поставил в самом начале, вся игра пошла бы иначе.
– Та же двойка.
– Очко!
– Очко? Так вот тебе пятерка.
– У меня нет.
– Но ведь ты ее как будто выставил?
– Да.
– Пустышка.
– Ну и везет тебе! Да… Тебе повезло! (Длительное раздумье.) Два.
– Очко!
– Ни пятерки, ни очка. Не очень-то приятная штука для тебя.
– Домино!
– Черт тебя побери!
Книга вторая. Эпонина.
Глава 1. Жаворонково поле.
Мариус присутствовал при неожиданной развязке событий в той западне, на след которой он навел Жавера; но лишь только Жавер покинул лачугу, увозя с собой на трех фиакрах своих пленников, как Мариус в свою очередь ускользнул из дома. Было только девять часов вечера. Мариус отправился к Курфейраку. Курфейрак больше не был старожилом Латинского квартала: «по соображениям политическим» он жил теперь на Стекольной улице; этот квартал принадлежал к числу тех, где в описываемые времена охотно находило себе прибежище восстание. Мариус сказал Курфейраку: «Я пришел к тебе ночевать». Курфейрак стащил с кровати один из двух тюфяков, разложил его на полу и ответил: «Готово».
На следующий день в семь часов утра Мариус отправился в лачугу Горбо, заплатил за квартиру и все, что причиталось тетушке Бурчунье, нагрузил на ручную тележку книги, постель, стол, комод и два стула и удалился, не оставив своего адреса, так что когда утром явился Жавер, чтобы допросить его о вчерашних событиях, то застал только тетушку Бурчунью, ответившую ему: «Съехал!».
Тетушка Бурчунья была убеждена, что Мариус в какой-то мере был сообщником воров, схваченных ночью. «Кто бы подумал! – восклицала она, болтая с соседними привратницами. – Такой скромный молодой человек, ну прямо красная девушка!».
У Мариуса было два основания для столь быстрой перемены жилья. Первое – испытываемый им теперь ужас при мысли об этом доме, где он видел так близко, во всем его расцвете, в самом отвратительном и свирепом обличье, социальное уродство, быть может, еще более страшное, чем злодей богач: он видел злодея бедняка. Второе – его нежелание участвовать в каком бы то ни было судебном процессе, который, по всей вероятности, был неизбежен, и выступать свидетелем против Тенардье.
Жавер думал, что молодой человек, имени которого он не запомнил, испугался и убежал или, быть может, даже вовсе не вернулся домой к тому времени, когда была поставлена засада; тем не менее он пытался разыскать его, но безуспешно.
Прошел месяц, затем другой. Мариус все еще жил у Курфейрака. Через знакомого начинающего адвоката, завсегдатая суда, он узнал, что Тенардье в одиночном заключении. Каждый понедельник Мариус передавал для него в канцелярию тюрьмы Форс пять франков.
Мариус, у которого денег больше не было, брал эти пять франков у Курфейрака. Впервые в жизни он занимал деньги. Эти регулярно занимаемые пять франков стали двойной загадкой: для Курфейрака, дававшего их, и для Тенардье, получавшего их. «Для кого бы это?» – раздумывал Курфейрак. «Откуда бы это?» – вопрошал себя Тенардье.
Однако Мариус глубоко страдал. Все снова как бы скрылось в подполье. Он ничего более не видел впереди; его жизнь опять погрузилась в тайну, где он бродил ощупью. Одно мгновение в этой тьме, совсем близко от него, вновь промелькнули молодая девушка, которую он любил, и старик, казавшийся ее отцом, – неведомые ему существа, составлявшие единственный смысл его жизни, единственную надежду в этом мире; и в тот миг, когда он надеялся их обрести, какое-то дуновение унесло с собой эти тени. Ни проблеска истины, ни искры уверенности не вспыхнуло в нем даже при таком страшном ударе. Никакой догадки. Больше того, теперь он не знал даже имени, а прежде думал, что знает. Несомненно одно: Урсулой она не звалась. А «Жаворонок» – только прозвище. Что же думать о старике? Действительно ли он скрывался от полиции? Мариусу вспомнился седовласый рабочий, которого он встретил недалеко от Дома инвалидов. Теперь ему стало казаться вероятным, что этот рабочий и г-н Белый были одним и тем же лицом. Значит, он переодевался? В этом человеке было что-то героическое и что-то двусмысленное. Почему он не позвал на помощь? Почему он бежал? Был ли он или не был отцом молодой девушки? Наконец, был ли он именно тем человеком, которого Тенардье якобы признал? Разве Тенардье не мог ошибиться? Сколько неразрешимых задач! Все это, правда, ничуть не умаляло ангельского очарования молодой девушки из Люксембургского сада. Мариуса снедала мучительная тоска, страсть жгла его сердце, тьма стояла в глазах. Его отталкивало и влекло одновременно, и он не мог двинуться с места. Все исчезло, кроме любви. Но ему изменил самый инстинкт любви, исчезли ее внезапные озарения. Обычно то пламя, которое сжигает нас, вместе с тем и несколько просветляет, отбрасывая мерцающий отблеск вовне и указуя нам путь. Но Мариус уже больше не слышал этих тайных советов страсти. Никогда он не говорил себе: «Не пойти ли туда-то? Не испробовать ли это?» Та, которую он больше не мог называть Урсулой, очевидно, где-то жила, но ничто не возвещало Мариусу, где именно он должен искать. Вся его жизнь могла быть теперь изложена в нескольких словах: полная неуверенность среди непроницаемого тумана. Увидеть, увидеть ее! Он жаждал этого непрестанно, но ни на что больше не надеялся.
В довершение всего снова наступила нужда. Он чувствовал вблизи, за своей спиной, ее леденящее дыханье. Во время всех этих треволнений, и давно уже, он бросил свою работу, а нет ничего более опасного, чем прерванный труд; это исчезающая привычка. Привычка, которую легко оставить, но трудно восстановить.
Некоторая мечтательность хороша, как наркотическое средство в умеренной дозе. Она успокаивает лихорадку деятельного ума, нередко жестокую, и порождает в нем мягкий прохладный туман, смягчающий слишком резкие очертания ясной мысли, заполняет там и здесь пробелы и пустоты, связывает отдельные группы идей и затушевывает их острые углы. Но слишком большая мечтательность все затопляет и поглощает. Горе труженику ума, позволившему себе, покинув высоты мысли, всецело отдаться мечте! Он думает, что легко воспрянет, и убеждает себя, что, так или иначе, это одно и то же. Заблуждение!
Мышление – работа ума, мечтательность – его сладострастие. Заменить мысль мечтой – значит принять яд за пищу.
Как помнит читатель, Мариус с этого и начал. Неожиданно овладевшая им страсть в конце концов низвергла его в мир химер, беспредметный и бездонный. В таких случаях выходят из дому только для того, чтобы мечтать. Ленивые попытки жить! Пучина и бурная, и стоячая! Но по мере того как работа уменьшалась, нужда увеличивалась. Это закон. Человек в состоянии мечтательности, естественно, расточителен и слабоволен. Праздный ум не приспособлен к скромной, расчетливой жизни. Наряду с плохим в таком образе жизни есть и хорошее, ибо если вялость гибельна, то великодушие здорово и похвально. Но человек бедный, щедрый, благородный и неработающий – погиб. Средства иссякают, потребности возрастают.
Это роковой склон, на который ступают самые честные и самые стойкие, равно как и самые слабые и самые порочные; он приводит к одной из двух ям – самоубийству или преступлению.
Если у человека завелась привычка выходить из дому, чтобы мечтать, то настанет день, когда он уйдет из дому, чтобы броситься в воду.
Избыток мечтательности создает Эскусов и Лебра.
Мариус медленно спускался по этому склону, сосредоточив взоры на той, которую он больше не видел. То, о чем мы говорим, может показаться странным, и, однако, это так. В темных глубинах сердца зажигается воспоминание об отсутствующем существе; чем безвозвратнее оно исчезло, тем ярче светит. Душа отчаявшаяся и мрачная видит этот свет на своем горизонте – то звезда ее ночи. Она, только она и поглощала все мысли Мариуса. Он не думал ни о чем другом, он смутно чувствовал, что его старый фрак неприличен, а новый становится старым, что его рубашки износились, шляпа износилась, сапоги износились, что его жизнь изжита, и повторял про себя: «Только бы увидеть ее перед смертью!».
Лишь одна сладостная мысль оставалась у него: о том, что она его любила, что ее взоры сказали ему об этом, что пусть она не знала его имени, но зато знала его душу, что, быть может, там, где она сейчас, каково бы ни было это таинственное место, она все еще любит его. Кто знает, не думает ли она о нем так же, как он думает о ней? Иногда, в неизъяснимые, знакомые всякому любящему сердцу часы, имея основания только для скорби и все же ощущая смутный трепет радости, он твердил: «Это ее думы нашли меня!» Потом он прибавлял: «И мои думы, быть может, также находят ее».
Это была иллюзия, и мгновение спустя, опомнясь, он сам покачивал головой, но она тем не менее успевала бросить в его душу луч, порой походивший на надежду. Время от времени, особенно в вечерние часы, которые всего сильнее располагают к грусти мечтателей, он заносил в свою тетрадь, служившую только для этой цели, самую чистую, самую бесплотную, самую идеальную из грез, которыми любовь заполняла его мозг. Он называл это «писать к ней».
Но не следует думать, что его ум пришел в расстройство. Напротив. Он потерял способность работать и настойчиво идти к определенной цели, но более, чем когда бы то ни было, отличался проницательностью и прямотой. Мариус видел в спокойном и верном, хотя и необычном освещении все, что происходило перед его глазами, даже события или людей, наиболее для него безразличных; он судил обо всем правильно, но с какой-то нескрываемой подавленностью и откровенным равнодушием. Его разум, почти утративший надежду, парил на недосягаемой высоте.
При таком состоянии его ума ничто не ускользало от него, ничто не обманывало, и в каждое мгновение он прозревал сущность жизни, человечества и судьбы. Счастлив даже в тоске своей тот, кому господь даровал душу, достойную любви и несчастья! Кто не видел явлений этого мира и сердца человеческого в таком двойном освещении, не видел ничего истинного и ничего не знает.
Душа любящая и страдающая – возвышенна.
Но дни сменялись днями, а нового ничего не было. Мариусу лишь казалось, что мрачное пространство, которое ему оставалось пройти, укорачивается с каждым мгновением. Ему чудилось, что он уже отчетливо различает край этого бесконечного откоса.
– Как? – повторял он. – И я ее перед этим не увижу!
Если подняться по улице Сен-Жак, оставив в стороне заставу, и идти некоторое время вдоль прежнего внутреннего бульвара, с левой его стороны, то добираешься до улицы Санте, затем до Гласьер, а далее, не доходя немного до речки Гобеленов, встречаешь нечто вроде поля, которое в длинном и однообразном поясе парижских бульваров является единственным местом, где Рейсдаль поддался бы соблазну отдохнуть.
Все там исполнено прелести, источник которой неведом; зеленый лужок, пересеченный протянутыми веревками, где сушится на ветру разное тряпье, старая, окруженная огородами ферма, построенная во времена Людовика XIII, с высокой крышей, причудливо прорезанной мансардами, полуразрушенные изгороди, вода, поблескивающая между тополями, женщины, смех, голоса; на горизонте – Пантеон, дерево, что возле Школы глухонемых, церковь Валь-де-Грас, черная, приземистая, причудливая, забавная, великолепная, а в глубине – строгие четырехугольные башни собора Богоматери.
Местечко это стоит того, чтобы на него посмотреть, поэтому-то никто и не приходит сюда. Изредка, не чаще, чем раз за четверть часа, здесь проезжает тележка или ломовой извозчик.
Однажды уединенные прогулки Мариуса привели его на этот лужок у реки. В тот день на бульваре оказалась редкость – прохожий. Мариус, глубоко пораженный почти диким очарованием местности, спросил его: «Как называется это место?».
Прохожий ответил: «Жаворонково поле».
И прибавил: «Это здесь Ульбах убил пастушку из Иври».
Но после слова «Жаворонково» Мариус больше ничего не слышал. Порою человеком, погрузившимся в мечты, овладевает внезапное оцепенение, для этого довольно какого-либо слова. Мысль сразу сосредоточивается вокруг одного образа и не способна более ни к какому другому восприятию. «Жаворонок» – было название, которым в глубокой своей меланхолии Мариус заменил имя Урсулы. «Ах, – сказал он в каком-то беспричинном изумлении, свойственном этим таинственным беседам с самим собой, – так это ее поле. Здесь я узнаю, где она живет». Это было бессмысленно, но непреодолимо. И он каждый день стал приходить на Жаворонково поле.
Глава 2. Зародыши преступления в тюремном гнездилище.
Успех Жавера в лачуге Горбо казался полным, чего, однако, не было в действительности.
Прежде всего, – и это являлось главной заботой Жавера, – ему не удалось сделать пленника бандитов собственным пленником. Если жертва убийцы скрывается, то она более подозрительна, чем сам убийца; вполне возможно, что эта личность, представлявшая столь драгоценную находку для преступников, была бы не менее хорошей добычей для властей.
Кроме того, ускользнул от Жавера и Монпарнас. Приходилось выжидать другого случая, чтобы наложить руку на этого «чертова франтика». Действительно, Монпарнас, встретив Эпонину, караулившую под деревьями бульвара, увел ее с собой, предпочитая быть Неморином с дочерью, чем Шиндерганнесом с отцом. Он избрал благую часть. Он остался на свободе. Что до Эпонины, то Жавер снова «сцапал» ее. Но это было для него слабым утешением. Эпонина присоединилась к Азельме в Мадлонет.
Наконец, во время перевозки арестованных из лачуги в тюрьму Форс один из главных преступников, Звенигрош, исчез. Никто не знал, как это случилось, агенты и сержанты «ничего здесь не понимали», он словно превратился в пар, он выскользнул из ручных кандалов, он просочился сквозь щели кареты – а щели в ней были – и убежал; прибыв к тюрьме, только и могли сказать, что Звенигроша нет. Это было или волшебство, или дело полиции. Не растаял ли Звенигрош во мраке, как тают хлопья снега в воде? Или то было соучастие не признавшихся в этом агентов? Не связан ли был этот человек с двойной загадкой – беззакония и закона? Не был ли он олицетворением как проступка, так и возмездия? Не опирался ли этот сфинкс передними лапами на преступление, а задними на власть? Жавер никак не признавал этих сочетаний и возмутился бы при мысли о такой сделке; но в его отделении были и другие надзиратели, хотя и состоявшие под его начальством, но лучше посвященные в тайны префектуры, а Звенигрош был таким злодеем, что мог оказаться очень хорошим агентом. Иметь столь близкие отношения с ночным мраком, позволяющим незаметно исчезать, выгодно для бандитов и удобно для полиции. Подобные мошенники о двух личинах существуют. Как бы то ни было, исчезнувший Звенигрош не отыскался. Жавер, казалось, был этим скорее раздражен, чем удивлен.
Что до Мариуса, «этого простофили адвоката, наверное струсившего», то Жавер, забывший его имя, не придавал ему большого значения. Кроме того, он – адвокат, значит, всегда разыщется. Но был ли он только адвокатом?
Следствие началось.
Судебный следователь нашел полезным одного из шайки Петушиного часа не сажать в одиночку, рассчитывая, что он выболтает что-нибудь. Этот человек был Брюжон, космач с Малой Банкирской улицы. Его выпустили во двор тюрьмы Шарлемань, где сторожа бдительно надзирали за ним.
Имя Брюжона – одно из памятных в тюрьме Форс. В отвратительном дворе так называемого Нового здания, который администрация именовала Сен-Бернарским двором, а воры – Львиным рвом, с левой стороны есть стена, покрытая чешуей и лишаями плесени и подымающаяся в уровень с крышами. На этой стене, недалеко от старых заржавленных железных ворот, ведущих в прежнюю часовню герцогского дворца Форс, ставшую спальней преступников, можно было видеть еще лет двенадцать тому назад нечто вроде изображения крепости, грубо нацарапанного гвоздем на камне, и под ним надпись:
БРЮЖОН, 1811.
Брюжон 1811 года был отцом Брюжона 1832 года.
Последний, которого мы видели лишь мельком в засаде Горбо, был молодой парень, очень хитрый и очень ловкий, прикидывавшийся растерянным и жалким. Именно по причине жалкого его вида судья и предоставил ему некоторую свободу, полагая, что он больше будет полезен на дворе Шарлемань, чем в одиночном заключении.
Воры не прекращают своей работы, попадая в руки правосудия. Такой пустяк их не затрудняет. Сидеть в тюрьме за уже совершенное преступление – отнюдь не помеха для подготовки другого. Так художники, выставив картину в Салоне, продолжают работать над новым творением в своей мастерской.
Брюжон, казалось, одурел в тюрьме. То он целыми часами простаивал на дворе Шарлемань перед оконцем буфетчика, как идиот, созерцая гнусный прейскурант этой тюремной лавчонки, начинавшийся: «чеснок – 62 сантима» и кончавшийся: «сигара – 5 сантимов», то весь трясся, стучал зубами и, жалуясь на лихорадку, справлялся, не освободилась ли одна из двадцати восьми кроватей в больничной палате для лихорадочных.
Вдруг во второй половине февраля 1832 года узнали, что Брюжон, этот рохля, дал трем тюремным рассыльным от имени трех своих приятелей три разных поручения, обошедшихся ему в пятьдесят су, – непомерная сумма, обратившая внимание начальника тюремной стражи.
Разузнав об этом и справившись с тарифом поручений, вывешенным в приемной тюрьмы, пришли к выводу, что пятьдесят су были распределены таким образом: из трех поручений одно было в Пантеон – десять су, другое в Валь-де-Грас – пятнадцать су, третье на Гренельскую заставу – двадцать пять су. Последнее обошлось дороже всего согласно тарифу. А вблизи Пантеона, в Валь-де-Грас и у Гренельской заставы находились пристанища трех весьма опасных ночных бродяг: Процентщика, или Бизарро, Бахвала – каторжника, отбывшего наказание, и Шлагбаума. Этот случай привлек к ним внимание полиции. Предполагалось, что они были связаны с Петушиным часом, двух главарей которого, Бабета и Живоглота, засадили в тюрьму. Заподозрили, что в посланиях Брюжона, переданных не по домашним адресам, а людям, поджидавшим на улице, содержалось сообщение относительно какого-то злодейского умысла. Для этого были еще и другие основания. Трех бродяг схватили и успокоились, решив, что козни Брюжона предупреждены.
Приблизительно через неделю после того, как приняли эти меры, ночью один из надсмотрщиков, надзиравший за нижней спальней Нового здания, уже собираясь опустить в ящик свой жетон, – таким способом проверяют, все ли надсмотрщики точно выполнили свои обязанности, ибо каждый час в ящики, прибитые к дверям спален, опускается по жетону, – через глазок в дверях спальни увидел Брюжона, который, сидя на своей койке, что-то писал при свете ночника. Сторож вошел, Брюжона посадили на месяц в карцер, но не могли найти того, что он писал. Полиции также ничего не удалось узнать.
Достоверно только, что на следующий день через пятиэтажное здание, разделяющее два тюремных двора, из Шарлемань в Львиный ров был переброшен «почтальон».
Заключенные называют «почтальоном» артистически скатанный хлебный шарик, который посылается «в Ирландию», иными словами, через крыши тюрьмы с одного двора на другой. Смысл этого выражения: через Англию, с одного берега на другой, то есть в Ирландию. Шарик падает во двор. Поднявший раскатывает его и находит записку, адресованную кому-либо из заключенных в этом дворе. Если находка попадает в руки арестанта, то он вручает записку по назначению; если же ее поднимает сторож или один из тайно оплачиваемых заключенных, которых в тюрьмах называют «наседками», а на каторге «лисами», то записка относится в канцелярию и вручается полиции.
На этот раз «почтальон» был доставлен по адресу, хотя тот, кому он предназначался, был в это время в одиночке. Адресатом оказался не кто иной, как Бабет, один из четырех главарей шайки Петушиного часа.
«Почтальон» заключал в себе свернутую бумажку, содержавшую всего две строки:
«Бабету. Можно оборудовать дельце на улице Плюме. Сад за решеткой».
Это и писал Брюжон ночью.
Несмотря на надзирателей и надзирательниц, Бабет нашел способ переправить записку из Форс в Сальпетриер, к одной своей «подружке», которая отбывала там заключение. Эта девица в свою очередь передала записку близкой своей знакомой, некоей Маньон, находившейся под наблюдением полиции, но пока еще не арестованной. Маньон, чье имя читатель уже встречал, состояла с супругами Тенардье в близких отношениях, о которых будет точнее сказано в дальнейшем, и могла, встретившись с Эпониной, послужить мостом между Сальпетриер и Мадлонет.
Как раз в это самое время, ввиду недостатка улик против дочерей Тенардье при расследовании его дела, Эпонина и Азельма были освобождены.
Когда Эпонина вышла из тюрьмы, Маньон, караулившая ее у ворот Мадлонет, вручила ей записку Брюжона к Бабету, поручив ей осветить дельце.
Эпонина отправилась на улицу Плюме, нашла решетку и сад, осмотрела дом, последила, покараулила и несколько дней спустя отнесла к Маньон, жившей на улице Клошперс, сухарь, который Маньон передала любовнице Бабета в Сальпетриер. Сухарь на темном символическом языке тюрем означает: нечего делать.
Таким образом, не прошло и недели, как Бабет и Брюжон столкнулись на дорожке дозорных тюрьмы Форс – один, идя «допрашиваться», а другой, возвращаясь с допроса. «Ну, что улица П.?» – спросил Брюжон. «Сухарь», – ответил Бабет.
Так преступление, зачатое Брюжоном в тюрьме Форс, окончилось выкидышем.
Однако это привело к некоторым последствиям, правда, совершенно чуждым планам Брюжона. Читатель узнает о них в свое время.
Нередко, думая связать одни нити, человек связывает другие.
Глава 3. Видение дедушки Мабефа.
Мариус никого больше не навещал, и только изредка ему случалось встретить дедушку Мабефа.
В то самое время, когда Мариус медленно спускался по мрачным ступеням, которые можно назвать лестницей подземелья, ведущей в беспросветную тьму, где слышишь над собой шаги счастливцев, спускался туда и г-н Мабеф.
«Флора Котере» больше не находила покупателей. Опыты с индиго в маленьком, плохо расположенном Аустерлицком саду окончились неудачей. Г-ну Мабефу удалось вырастить там лишь несколько редких растений, любящих сырость и тень. Однако он не отчаивался. Он добился хорошего уголка земли в Ботаническом саду, чтобы произвести там «на свой счет» опыты с индиго. Для этого он заложил в ломбарде медные клише «Флоры». Он ограничил завтрак двумя яйцами, причем одно из них оставлял своей служанке, которой не платил жалованья уже пятнадцать месяцев. И часто этот завтрак являлся единственной его трапезой за весь день. Он уже не смеялся своим детским смехом, стал угрюм и не принимал гостей. Мариус правильно поступал, не посещая его больше. Но иногда, в часы, когда г-н Мабеф отправлялся в Ботанический сад, старик и юноша встречались на Госпитальном бульваре. Они не вступали в беседу и только грустно обменивались поклоном. Страшно подумать, что приходит минута, когда нищета разъединяет! Были приятелями, а стали друг для друга прохожими.
Книготорговец Руайоль умер. Мабеф знался теперь только со своими книгами, своим садом и своим индиго; в эти три формы облеклись для него счастье, удовольствие и надежда. Этого ему было достаточно, чтобы жить. Он говорил себе: «Когда я изготовлю синие шарики, я разбогатею, выкуплю из ломбарда медные клише, потом при помощи шумной рекламы и газетных объявлений ловко создам новый успех моей «Флоре» и куплю, уж я-то знаю где, «Искусство навигации» Пьера де Медина, с гравюрами на дереве, издания 1559 года». Пока же он целые дни работал над своей грядкой с индиго, а вечером возвращался к себе, поливал свой садик и читал книги. В это время ему было без малого восемьдесят лет.
Однажды вечером ему представилось странное видение.
Он вернулся к себе еще совсем засветло. Тетушка Плутарх, здоровье которой пошатнулось, была больна и лежала в постели. Обглодав вместо обеда косточку, на которой оставалось немного мяса, и съев кусок хлеба, найденный на кухонном столе, он уселся на опрокинутую каменную тумбу, служившую скамьей в его саду.
Возле этой скамьи стояло, как водилось прежде в плодовых садах, нечто вроде большого, сколоченного из брусьев и теса весьма ветхого ларя, нижнее отделение которого служило кроличьим садком, а верхнее – кладовой для фруктов. В садке не было больше кроликов, но в кладовой еще лежало несколько яблок. Это были остатки зимнего запаса.
Господин Мабеф, надев очки, принялся перелистывать и просматривать две книги, весьма его волновавшие и даже, что еще примечательнее в его возрасте, занимавшие до крайности. Природная робость способствовала некоторой его восприимчивости к суевериям. Первой из этих книг был знаменитый трактат президента Деланкра «О личинах демонов», вторая, in quarto, Мютор де ла Рюбодьера «О воверских дьяволах и бьеврских кобольдах». Последняя книжица интересовала его тем более, что сад его являлся местом, которое встарь посещали кобольды. Наступавшие сумерки окрасили в бледные цвета небо и в темные – землю. Читая, дедушка Мабеф поглядывал поверх книги, которую держал в руке, на свои растения и среди них на великолепный рододендрон, бывший его утешением. Вот уже четыре дня, как стояла жара, дул ветер, палило солнце и не выпало ни капли дождя; стебли растений согнулись, бутоны поникли, листья повисли – все это нуждалось в поливке. Вид рододендрона был особенно печален. Дедушка Мабеф принадлежал к числу тех людей, которые и в растениях чувствуют душу. Старик целый день проработал над своей грядкой индиго и выбился из сил; все же он встал, положил книги на скамью и отправился неверными шагами, совсем сгорбившись, к колодцу; но, ухватившись за цепь, не мог даже дернуть ее настолько, чтобы снять с крюка. Тогда он обернулся и поднял взгляд, полный мучительной тоски, к загоравшемуся звездами небу.
В вечернем воздухе была разлита спокойная ясность, которая смягчает боль человеческой души какой-то скорбной и вечной радостью. Ночь обещала быть столь же знойной, как и день.
«Все небо в звездах! – думал старик. – Нигде ни облачка! Ни одной дождинки!».
И снова опустил поднятую было голову. Затем, опять взглянув на небо, прошептал:
– Хоть бы одна росинка! Хоть капля жалости!
Он попытался еще раз снять цепь с крюка на колодце и не смог.
Туг он услышал голос, произнесший:
– Дедушка Мабеф, хотите, я полью ваш сад?
В то же время в изгороди послышался треск, словно через нее пробирался дикий зверь; из-за кустов вышла высокая худая девушка, которая остановилась против него, смело глядя ему в глаза. Казалось, это было не человеческое существо, а видение, порожденное сумерками.
Прежде чем дедушка Мабеф, который, как мы отмечали, легко приходил в смущение и легко пугался, мог произнести хотя бы один звук, девушка, чьи движения в темноте приобрели какую-то странную порывистость, сняла с крюка цепь, спустила в колодец и, вытащив наверх ведро, наполнила лейку, а затем добрый старик увидел, как это босоногое, одетое в драную юбчонку привидение стало носиться среди грядок, одаряя все вокруг себя жизнью. Шум воды, льющейся по листьям, наполнял душу дедушки Мабефа восхищением. Ему казалось, что теперь рододендрон счастлив.
Вылив одно ведро, девушка вытащила второе, затем третье. Она полила весь сад.
Когда она бегала по аллеям в развевающейся изорванной косынке, размахивая длинными костлявыми руками, черный ее силуэт чем-то напоминал летучую мышь.
Лишь только она окончила свое дело, дедушка Мабеф со слезами на глазах подошел к ней и положил ей руку на голову.
– Да благословит вас господь, – сказал он, – вы ангел, потому что вы заботитесь о цветах.
– Ну нет, – ответила она, – я дьявол, а впрочем, мне это все равно.
Старик, не ожидая ее ответа и не слыша его, воскликнул:
– Как жаль, что я так несчастен и так беден и не могу ничего сделать для вас!
– Кое-что вы можете сделать, – ответила она.
– Что же?
– Сказать мне, где живет господин Мариус.
Старик сначала не понял.
– Какой господин Мариус?
Он поднял свой тусклый взгляд, казалось, всматриваясь во что-то исчезнувшее.
– Да тот молодой человек, который прежде бывал у вас.
Тем временем г-н Мабеф усиленно рылся в памяти.
– А, да… – вскричал он, – понимаю, что вы хотите сказать. Стойте! Господин Мариус… барон Мариус Понмерси, черт возьми! Он живет… или, вернее, он там больше не живет… Ах, нет, я не знаю.
Разговаривая с нею, он наклонился, чтобы поправить веточку рододендрона.
– Подождите, – продолжал он, – теперь я вспомнил. Он очень часто проходит по бульвару в сторону Гласьер. На улицу Крульбарб. На Жаворонково поле. Идите туда. Там его легко встретить.
Когда г-н Мабеф выпрямился, уже никого не было, девушка исчезла.
Само собою разумеется, что он немного испугался.
«Право, – подумал он, – если бы мой сад не был полит, я бы решил, что это дух».
Часом позже, когда он лег спать, эта мысль к нему вернулась, и, засыпая, в тот неуловимый миг, когда мало-помалу мысль принимает форму сновидения, чтобы пронестись сквозь сон, подобно сказочной птице, превращающейся в рыбу, чтобы переплыть море, он невнятно пробормотал:
– В самом деле, это очень похоже на то, что рассказывает Рюбодьер о кобольдах. Не был ли это кобольд?
Глава 4. Видение Мариуса.
Спустя несколько дней после того, как «дух» посетил дедушку Мабефа, однажды утром, в понедельник, – день, когда Мариус обычно брал взаймы у Курфейрака сто су для Тенардье, – Мариус опустил монету в сто су в карман и, прежде чем отнести ее в канцелярию тюрьмы, отправился «немного прогуляться», в надежде, что, возвратившись, будет лучше работать. Впрочем, это повторялось изо дня в день. Встав, он тотчас садился за стол с книгой и листом бумаги, думая состряпать какой-нибудь перевод, – как раз в это время он взялся перевести на французский язык знаменитый немецкий спор – контроверзы Ганса и Савиньи; он открывал Савиньи, открывал Ганса, прочитывал четыре строки, пытался написать хотя бы одну и не мог, он видел какую-то звезду, сиявшую между ним и бумагой, и вставал со словами: «Надо пройтись. Это меня оживит».
И шел на Жаворонково поле.
А там еще ярче сияла перед ним звезда, и еще тусклей становились Савиньи и Ганс.
Он возвращался домой, пытался снова взяться за работу, но безуспешно; ему не удавалось связать ни одной оборванной нити своих мыслей. Тогда он говорил: «Завтра я не выйду из дома. Это мешает мне работать». И выходил каждый день.
Он жил скорее на Жаворонковом поле, чем на квартире Курфейрака. Его настоящий адрес был таков: бульвар Санте, седьмое дерево от улицы Крульбарб.
В это утро он покинул свое седьмое дерево и уселся на парапете набережной речки Гобеленов. Веселые солнечные лучи пронизывали свежую, распустившуюся и блестевшую листву.
Он думал о «ней». И его думы, переходя в упрек, обращались к нему самому; он с горечью размышлял о своей лени, об этом параличе души, о тьме, которая все сильнее сгущалась перед ним, так что он уже не видел и солнца.
У него даже не было сил отчаиваться. Однако сквозь эту грустную сосредоточенность, сквозь этот поток мучительных и неясных мыслей, которые не являлись даже монологом, настолько ослабела в нем способность к действию, Мариус все же воспринимал впечатления внешнего мира. Он слышал, как позади него, где-то внизу, на обоих берегах речушки, прачки колотили белье вальками, а над головой, в ветвях вяза, пели и щебетали птицы. С одной стороны – шум свободы, счастливой беззаботности, крылатого досуга; с другой – шум работы. Эти-то веселые звуки и навеяли на него глубокую задумчивость, почти переходившую в размышления.
Отдавшись этому восторженно-угнетенному состоянию, он вдруг услышал знакомый голос:
– А вот и он!
Он поднял голову и узнал ту несчастную девочку, которая пришла к нему однажды утром, – старшую дочь Тенардъе, Эпонину: теперь ему было известно ее имя. Странно, на вид она еще больше обнищала, но похорошела – перемена, на которую она отнюдь не казалась прежде способной. Она осуществила двойной прогресс: на пути к свету и к нужде. Она была босая и в лохмотьях, как в тот день, когда столь решительно вошла в его комнату, только теперь ее лохмотья были на два месяца старее: дыры стали шире, рубище еще омерзительнее. У нее был тот же хриплый голос, тот же поблекший и сморщенный от загара лоб, тот же бойкий, блуждающий и неуверенный взгляд. На ее физиономии еще сильней, чем прежде, проступало то неопределенное испуганное и жалкое выражение, которое придает нищете знакомство с тюрьмой.
В волосах у нее запутались стебельки соломы и сена, но по иной причине, чем у Офелии: она не заразилась безумием от безумного Гамлета, а просто переночевала где-нибудь на сеновале.
И несмотря на все это, она была хороша. О юность, какая звезда сияет в тебе!
Она остановилась перед Мариусом, на бледном ее лице появился слабый проблеск радости и что-то напоминавшее улыбку.
Некоторое время она молчала, словно не в силах была говорить.
– Все-таки я вас нашла! – сказала она наконец. – Дедушка Мабеф правильно сказал про этот бульвар! Как я вас искала, если бы вы знали! Я была под арестом. Знаете? Две недели! Меня выпустили! Потому что никаких улик не было, да и к тому же по возрасту я не отвечаю. Мне не хватает двух месяцев. Сколько я вас искала! Целых шесть недель. Значит, теперь вы там не живете?
– Нет, – ответил Мариус.
– А! Понимаю. Из-за того дела? До чего неприятны эти полицейские налеты. Вы, значит, переехали? Послушайте, почему вы носите такую старую шляпу? Молодой человек, такой, как вы, должен хорошо одеваться. Знаете, господин Мариус, дедушка Мабеф называет вас бароном Мариусом, а дальше – не упомню как. Но ведь вы не барон? Бароны – они старые, они гуляют в Люксембургском саду, перед дворцом, где много солнышка, они читают «Ежедневник», по су за номер. Мне один раз пришлось отнести письмо к такому вот барону. Ему было больше ста лет. Ну, скажите, где вы живете теперь?
Мариус не отвечал.
– Ах, – продолжала она, – у вас рубашка порвалась! Я вам зашью.
Она прибавила с печальным выражением:
– Вы как будто не рады меня видеть?
Мариус молчал; она тоже помолчала минутку, потом вскричала:
– А все-таки если я захочу, то вы будете очень рады!
– Как? – спросил Мариус. – Что вы этим хотите сказать?
– Ах, вы прежде говорили мне «ты»! – заметила она.
– Ну хорошо, что же ты хочешь сказать?
Она закусила губу; казалось, она колеблется, словно борясь с собой. Наконец, по-видимому, решилась.
– Тем хуже, но все равно. Вы грустите, а я хочу, чтобы вы радовались. Обещайте только, что засмеетесь. Я хочу увидеть, как вы засмеетесь и скажете: «А, вот это хорошо!» Бедный господин Мариус! Помните, вы сказали, что дадите мне все, что я захочу…
– Да, да! Говори же!
Она посмотрела Мариусу прямо в глаза и сказала:
– Я знаю адрес.
Мариус побледнел. Вся кровь хлынула ему к сердцу.
– Какой адрес?
– Адрес, который вы у меня просили!
И прибавила как бы с усилием:
– Адрес… Ну, вы ведь сами знаете…
– Да, – пролепетал Мариус.
– Той барышни!
Произнеся это слово, она глубоко вздохнула.
Мариус вскочил с парапета, на котором он сидел, и вне себя схватил ее за руку.
– О! Так проводи меня! Скажи! Проси у меня чего хочешь! Где это?
– Пойдемте со мной, – ответила она. – Я не знаю точно номера и улицы. Это совсем в другой стороне, но я хорошо помню дом, я вас провожу.
Она высвободила свою руку и сказала тоном, который глубоко тронул бы даже постороннего человека, но не опьяненного, охваченного восторгом Мариуса:
– О, как вы рады!
Лицо Мариуса омрачилось. Он схватил Эпонину за руку.
– Поклянись мне в одном!
– Поклясться? Что это значит? Ах! Вы хотите, чтобы я поклялась вам?
И она засмеялась.
– Твой отец!.. Обещай мне, Эпонина! Поклянись, что ты не скажешь этого адреса отцу!
Она обернулась к нему, ошеломленная.
– Эпонина! Откуда вы знаете, что меня зовут Эпонина?
– Обещай мне сделать то, о чем я тебя прошу!
Но она, казалось, не слышала.
– Как это мило! Вы назвали меня Эпониной!
Мариус взял ее за обе руки.
– Но ответь же мне! Ради бога! Слушай внимательно, что я тебе говорю, поклянись мне, что ты не скажешь этого адреса твоему отцу!
– Моему отцу? – переспросила она. – Ах, да, моему отцу! Будьте спокойны. Он в одиночке. Очень он мне нужен, отец!
– Да, но ты мне не обещаешь! – вскричал Мариус.
– Ну, пустите же меня! – рассмеявшись, сказала она. – Как вы меня трясете! Хорошо! Хорошо! Я обещаю! Клянусь! Мне это ничего не стоит! Я не скажу адреса отцу. Ну, идет? В этом все дело?
– И никому?
– Никому.
– А теперь, – сказал Мариус, – проводи меня.
– Сейчас?
– Сейчас.
– Идем. О, как он рад! – вздохнула она.
Сделав несколько шагов, она остановилась.
– Вы идете почти рядом со мной, господин Мариус. Пустите меня вперед и идите позади, как будто вы сами по себе. Нехорошо, когда видят такого приличного молодого человека, как вы, с такой женщиной, как я.
Никакой язык не мог бы выразить того, что было заключено в слове «женщина», произнесенном этой девочкой.
Пройдя шагов десять, она снова остановилась. Мариус ее нагнал. Не оборачиваясь к нему и как бы в сторону, она проговорила:
– Кстати, вы ведь обещали мне кое-что?
Мариус порылся у себя в кармане. У него было всего-навсего пять франков, предназначенных для Тенардье. Он вынул их и сунул в руку Эпонине.
Она разжала пальцы, уронила монету на землю и, мрачно глядя на него, сказала:
– Не нужны мне ваши деньги.
Книга третья. Дом на улице Плюме.
Глава 1. Таинственный дом.
В середине прошлого столетия председатель парижской судебной палаты, у которого была тайная любовница, – в ту эпоху знатные господа выставляли своих любовниц напоказ, а буржуа их прятали, – построил «загородный домик» в предместье Сен-Жермен, на пустынной улице Бломе, ныне именуемой Плюме, недалеко от того места, что некогда называлось «Бой зверей».
Этот дом представлял собой двухэтажный особняк: две залы в первом этаже, две комнаты во втором, внизу кухня, наверху будуар, под крышей чердак, перед домом сад с широкой решеткой, выходящей на улицу. Сад занимал почти арпан, – только его и могли разглядеть прохожие. Но за особняком был еще узенький дворик, а в его глубине – низкий флигель из двух комнат, с погребом, словно приготовленный на тот случай, если придется скрывать ребенка и кормилицу. Из флигеля, через потайную калитку позади него, можно было выйти в длинный, узкий коридор, вымощенный, но без свода, и извивавшийся между двух высоких стен. Скрытый с замечательным искусством и как бы затерявшийся между оградами садов и огородов, все углы и повороты которых он повторял, этот проход вел к другой потайной калитке, открывавшейся в четверти мили от сада, почти в другом квартале, в пустынном конце Вавилонской улицы.
Господин председатель пользовался именно этим входом, так что даже если бы кто-нибудь следил за ним неотступно и установил его ежедневные таинственные отлучки, то не мог бы догадаться, что идти на Вавилонскую улицу – значит отправиться на улицу Бломе. Благодаря ловко прикупленным земельным участкам изобретательный судья смог проложить потайной ход у себя, на своей собственной земле, и, стало быть, не опасаясь никакого надзора. Позднее он распродал небольшими участками, под сады и огороды, землю по обе стороны этого коридора, и собственники участков полагали, что перед ними просто пограничная стена, не подозревая даже о существовании длинной вымощенной тропинки, змеившейся между двух заборов, среди их гряд и фруктовых садов. Только одни птицы видели эту любопытную штуку. Возможно, малиновки и синички прошлого столетия немало посплетничали насчет господина председателя.
Каменный особняк, построенный во вкусе Мансара, отделанный и обставленный во вкусе Ватто – рокайль внутри, рококо снаружи, – окруженный тройной цветущей изгородью, производил впечатление какой-то скрытности, кокетливости и важности, как и подобает капризу любви и судебного ведомства.
Этот дом и проход, исчезнувшие теперь, еще были на месте пятнадцать лет тому назад. В 93-м году некий медник купил дом на слом, но так как он не мог уплатить всей суммы в срок, его объявили несостоятельным. Таким образом, дом, предназначенный на слом, сломил медника. С тех пор дом оставался необитаемым и постепенно ветшал, как всякое здание, которому присутствие человека не сообщает больше жизни. Он сохранил всю свою старую меблировку и снова продавался или сдавался внаймы; выцветшее и малоразборчивое объявление, висевшее на решетке сада с 1810 года, извещало об этом тех десять или двенадцать горожан, которые в течение года проходили по улице Плюме.
К концу Реставрации те же прохожие могли заметить, что объявление исчезло и даже открылись ставни первого этажа. Дом и в самом деле был занят. Окна его украсились занавесочками – признак того, что там жила женщина.
В октябре 1829 года явился человек солидного возраста и снял усадьбу целиком, включая, разумеется, и задний флигель, и внутренний проход, кончавшийся на Вавилонской улице. Он велел привести в прежний вид два потайных выхода этого коридора. В доме, как мы упоминали, сохранилась почти вся старая обстановка господина председателя; новый жилец приказал кое-что обновить, прибавил там и сям то, чего не хватало, перемостил кое-где двор, восстановил выпавшие из стен кирпичи, ступеньки на лестнице, бруски в паркете, стекла в окнах и, наконец, вместе с молодой девушкой и старой служанкой незаметно переехал туда, словно проскользнув, а не открыто вступив хозяином в свой дом. Соседи не болтали об этом по той причине, что соседей не было.
Этот скромный жилец был Жан Вальжан, молодая девушка – Козетта. Служанка, по имени Тусен, которую Жан Вальжан спас от больницы и нищеты, была старая дева, провинциалка и заика – три качества, повлиявшие на решение Жана Вальжана взять ее с собой. Он снял дом на имя г-на Фошлевана, рантье. На основании всего того, что было рассказано раньше, читатель, без сомнения, еще быстрее признал Жана Вальжана, чем это удалось сделать Тенардье.
Почему Жан Вальжан покинул монастырь Малый Пикпюс? Что с ним случилось?
Ничего не случилось.
Как читатель помнит, Жан Вальжан был счастлив в монастыре, так счастлив, что в нем в конце концов заговорила совесть. Он видел Козетту каждый день, он ощущал, как растет и крепнет в нем отцовское чувство, он нежно лелеял этого ребенка, он говорил себе, что она принадлежит ему, что никто ее не отнимет и так будет длиться бесконечно, что она, наверно, сделается монахиней, ибо ее каждый день к этому мягко понуждали, что монастырь, таким образом, станет для нее, как и для него, вселенной, что он там состарится, а она вырастет, потом и она состарится, а он умрет, что – о восхитительная надежда! – они никогда не разлучатся. Размышляя об этом, он впал в сомнение. Он подверг себя допросу. Он спрашивал себя, имеет ли он право на все это счастье, не создано ли оно из чужого счастья, из присвоенного и утаенного им, стариком, счастья этого ребенка? Не было ли это кражей? Он говорил себе, что это дитя имело право узнать жизнь, прежде чем отказаться от нее; что отнять у ребенка заранее, и как бы помимо его согласия, все радости под предлогом спасения от всех испытаний, воспользоваться его неведением и одиночеством, чтобы искусственно взрастить в нем жизненное призвание, – значит изуродовать человеческое существо и солгать богу. И, кто знает, не возненавидит ли его когда-нибудь Козетта, отдав себе отчет во всем этом и сожалея о своем монашестве? Последняя мысль, менее самоотверженная, чем другие, почти эгоистическая, была для него невыносима. Он решил покинуть монастырь.
Он решился на это с отчаяньем, признав, что должен так поступить. Что касается препятствий, то их не было. Пять лет жизни, проведенных между этими четырьмя стенами со времени его исчезновения, должны были уничтожить или рассеять всякий страх. Он мог спокойно появиться среди людей. Он состарился, и все изменилось. Кто его узнает теперь? И кроме того, если предположить самое худшее, угроза опасности существовала только для него одного, и он не имел права присуждать Козетту к монастырю на том основании, что сам был присужден к каторге. Да и что такое опасность по сравнению с долгом? Наконец, ничто не мешает ему быть осмотрительным и принять меры предосторожности.
К этому времени воспитание Козетты было почти полностью закончено.
Остановившись на определенном решении, он стал ожидать случая, который не замедлил представиться. Умер старый Фошлеван.
Жан Вальжан испросил приема у достопочтенной настоятельницы и сказал ей, что, получив после смерти брата небольшое наследство, отныне позволяющее ему жить не работая, он оставляет службу в монастыре и берет с собою дочь; но так как было бы несправедливо, чтобы девочка, не принявшая монашеского обета, бесплатно воспитывалась в обители, то он смиренно просит достопочтенную настоятельницу согласиться на возмещение в пять тысяч франков, которое он и предлагает иноческому общежитию за пять лет, проведенных Козеттой под его кровом.
Так Жан Вальжан покинул монастырь Неустанного поклонения.
Оставляя монастырь, он сам нес, не доверяя носильщику, небольшой чемодан, ключ от которого всегда имел при себе. Чемоданчик возбуждал любопытство Козетты, так как от него исходил запах бальзама.
Заметим тут же, что отныне он не расставался с этим чемоданом и всегда держал его в своей комнате. То была первая, а иногда и единственная вещь, которую он уносил во время своих переселений. Козетта смеялась над этим и называла чемодан неразлучным, добавляя: «Я ревную к нему».
Однако Жан Вальжан вновь вышел на волю не без глубокой тревоги.
Он снял дом на улице Плюме и укрылся там под именем Ультама Фошлевана.
В это же время он снял две другие квартиры в Париже, чтобы не слишком привлекать внимание, всегда проживая на одной улице, и иметь возможность, в случае необходимости, исчезнуть при малейшей тревоге, – словом, не быть захваченным врасплох, как в ту ночь, когда он таким чудесным образом спасся от Жавера. Эти два помещения были убогими и бедными с виду квартирками в двух кварталах, весьма отдаленных друг от друга, – одна на Западной улице, другая на улице Вооруженного человека.
Время от времени вместе с Козеттой, но без Тусен он отправлялся то на улицу Вооруженного человека, то на Западную улицу, чтобы провести там месяц, полтора. Он пользовался там услугами привратников и выдавал себя за живущего в предместье рантье, у которого было пристанище и в городе. Столь высокая добродетель имела три жилища в Париже, чтобы ускользнуть от полиции.
Глава 2. Жан Вальжан – национальный гвардеец.
Впрочем, основным его жилищем был дом на улице Плюме, где он устроил свое существование следующим образом.
Козетта со служанкой занимала особняк; у нее была большая спальня с росписью в простенках, будуар с золоченым багетом на стенах, гостиная председателя с ковровыми обоями и широкими креслами; Козетта была и хозяйкой сада. Жан Вальжан велел поставить в спальне Козетты кровать с балдахином из старинного трехцветного штофа и застелить пол старым прекрасным персидским ковром, купленным на улице Фигье-Сен-Поль у старухи Гоше; желая смягчить строгость великолепной старины, он подбавил к этим древностям легкую и изящную обстановку, подобающую молодой девушке: этажерку, книжный шкаф и книги с золотыми обрезами, письменные принадлежности, бювар, рабочий столик, инкрустированный перламутром, несессер золоченого серебра, туалетный прибор из японского фарфора. На окна во втором этаже были повешены длинные, подбитые красным узорчатым шелком занавеси того же трехцветного штофа, что и на постели. В первом этаже висели вышитые занавеси. Всю зиму маленький дом Козетты отапливался сверху донизу. Сам Жан Вальжан поселился во флигеле, расположенном на заднем дворе и напоминающем сторожку, где была складная кровать с тюфяком, некрашеный деревянный стол, два соломенных стула, фаянсовый кувшин для воды, несколько потрепанных книг на полке, а в углу – его драгоценный чемодан. Здесь никогда не топили. Он обедал с Козеттой, к столу ему подавали пеклеванный хлеб. Когда Тусен перебралась в дом, он ей сказал: «Здесь хозяйка – барышня». – «А вы, су-сударь?» – спросила озадаченная Тусен. «Я гораздо больше, чем хозяин: я – отец!».
В монастыре Козетта была подготовлена к ведению хозяйства и распоряжалась расходами, весьма, впрочем, скромными. Каждый день Жан Вальжан, взяв Козетту под руку, шел с нею на прогулку. Он водил ее в Люксембургский сад, в самую малолюдную аллею, а каждое воскресенье – к обедне, обычно в церковь Сен-Жак-дю-О-Па, именно потому, что она находилась далеко от их дома. Квартал этот был очень бедный, Жан Вальжан щедро раздавал там подаяние, и в церкви вокруг него толпились нищие; последнее обстоятельство и послужило причиной послания Тенардье, направленного «Господину благодетелю из церкви Сен-Жак-дю-О-Па». Он охотно брал с собой Козетту навещать бедняков и больных. Чужие люди не допускались в особняк на улице Плюме. Тусен доставляла съестные припасы, а сам Жан Вальжан ходил за водой к водоразборному крану, оказавшемуся совсем близко, на бульваре. Для запасов дров и вина воспользовались подобием полуподземной, выложенной раковинами пещеры, по соседству с калиткой на Вавилонской улице и служившей когда-то гротом господину председателю: во времена «загородных домиков» и «приютов страсти нежной» не было любви без грота.
К калитке на Вавилонской улице был прибит ящик для писем и газет; но трое обитателей особняка на улице Плюме не получали ни писем, ни газет, и вся польза ящика, бывшего некогда посредником и наперсником любовных шалостей судейского любезника, теперь состояла лишь в передаче повесток сборщика налогов и извещений национальной гвардии, ибо господин Фошлеван, рантье, числился в национальной гвардии; он не мог проскользнуть через густую сеть учета 1831 года. Муниципальные списки, заведенные в эту эпоху, распространились и на монастырь Малый Пикпюс – на это своего рода непроницаемое и священное облако, выйдя из которого Жан Вальжан в глазах мэрии был особой почтенной и, следовательно, достойной вступить в ряды национальной гвардии.
Три или четыре раза в год Жан Вальжан надевал мундир и нес свою караульную службу, впрочем, весьма охотно; то было законное переодевание, которое связывало его со всеми другими людьми, оставляя в то же время обособленным. Жану Вальжану уже минуло шестьдесят лет – возраст законного освобождения от воинской службы; но ему нельзя было дать больше пятидесяти, к тому же он вовсе не хотел расставаться со званием старшего сержанта и беспокоить графа Лобо. У него не было общественного положения, он скрывал свое имя, скрывал свое подлинное лицо, скрывал свой возраст, скрывал вес и, как мы только что говорили, был национальным гвардейцем по доброй воле. Походить на первого встречного, который выполняет свои обязанности перед государством, – в этом заключалось все его честолюбие. Нравственным идеалом этого человека был ангел, но внешностью он стремился уподобиться буржуа.
Отметим, однако, одну особенность. Выходя из дома вместе с Козеттой, он одевался, как всегда, напоминая всем своим видом военного в отставке. Когда же он выходил один, а это бывало обычно вечером, то надевал куртку и штаны рабочего, а на голову картуз, скрывавший под козырьком его лицо. Что это было – предосторожность или скромность? И то и другое. Козетта привыкла к тому, что в жизни ее много загадочного, и едва замечала странности отца. Что касается Тусен, то она почитала Жана Вальжана и находила хорошим все, что он делал. Как-то раз мясник, повстречавший Жана Вальжана, сказал ей: «Это какой-то чудак». Она ответила: «Это святой».
Ни Жан Вальжан, ни Козетта, ни Тусен не уходили и не возвращались иначе, как через калитку на Вавилонской улице. Трудно было догадаться, что они живут на улице Плюме, – разве только увидев их сквозь решетку сада. Эта решетка всегда была заперта. Сад Жан Вальжан оставил заброшенным, чтобы он не привлекал внимания.
Но в этом он, быть может, заблуждался.
Глава 3. Foliis ac frondibus[123].
[123].Сад, разраставшийся на свободе в продолжение полувека, стал чудесным и необыкновенным. Лет сорок тому назад прохожие останавливались на улице, засматриваясь на него и не подозревая о тайнах, которые он скрывал в своей свежей и зеленой чаще. Не один мечтатель в ту пору, и при этом не раз, пытался взором и мыслью дерзко проникнуть сквозь прутья старинной, шаткой, запертой на замок решетки, покривившейся меж двух позеленевших и замшелых столбов и причудливо увенчанной фронтоном с какими-то непонятными арабесками.
Там в уголке была каменная скамья, одна или две поросшие мхом статуи, несколько шпалер, сорванных временем и догнивавших на стене; от аллей и газонов не осталось следа; куда ни взглянешь, всюду пырей. Садовник удалился отсюда, и вновь вернулась природа. Сорные травы разрослись в изобилии, это было удивительной удачей для такого жалкого клочка земли. Там роскошно цвели левкои. Ничто в этом саду не препятствовало священному порыву сущего к жизни; там было царство окруженного почетом произрастания. Деревья нагибались к терновнику, терновник тянулся к деревьям, растение карабкалось вверх, ветка склонялась долу, то, что расстилается по земле, встречалось с тем, что расцветает в воздухе, то, что колеблет ветер, влеклось к тому, что прозябает во мху; стволы, ветки, листья, жилки, пучки, усики, побеги, колючки – все это смешалось, перепуталось, переженилось, слилось; растительность в проникновенном и тесном объятии славила и свершала там, под благосклонным взором творца, на замкнутом клочке земли в триста квадратных футов, свое святое таинство братства – символ братства человеческого. Этот сад уже не был садом – он превратился в гигантский кустарник, то есть в нечто непроницаемое, как лес, населенное, как город, пугливое, как гнездо, мрачное, как собор, благоухающее, как букет, уединенное, как могила, живое, как толпа.
В флореале эта огромная заросль, вольная за своей решеткой и в своих четырех стенах, страстно вступала в глухую работу вселенского размножения, содрогаясь на восходе солнца почти так же, как животное, которое вдыхает веяния космической любви и чувствует, как в его жилах разливаются и кипят апрельские соки; потрясая по ветру своей чудесной зеленой гривой, она сыпала на влажную землю, на потрескавшиеся статуи, на ветхое крыльцо особняка и даже на мостовую пустынной улицы звезды цветов, жемчуга рос, плодородие, красоту, жизнь, радость, благоухание. В полдень множество белых бабочек слеталось туда, и было упоительно смотреть, как хлопьями вихрился в тени этот живой летний снег. Там, в веселых зеленых сумерках, целый хор невинных голосов нежно сообщал что-то душе, и то, что забывал сказать птичий щебет, досказывало жужжание насекомых. Вечером словно испарения грез поднимались в саду и застилали его; он был окутан пеленой тумана, божественной и спокойной печалью; пьянящий запах жимолости и повилики наплывал отовсюду, словно изысканный и тончайший яд; слышались последние призывы поползней и трясогузок, засыпавших на ветвях; там чувствовалась священная близость дерева и птицы: днем крылья оживляли листву, ночью листва охраняла эти крылья.
Зимою заросль становилась черной, мокрой, взъерошенной, дрожащей от холода; сквозь нее виднелся дом. Вместо цветов на ветвях и капелек росы на цветах длинные серебристые следы улиток тянулись по холодному и толстому ковру желтых листьев; но каков бы ни был этот обнесенный оградой уголок, каким бы ни казался в любое время года – весной, зимой, летом, осенью, – от него всегда веяло меланхолией, созерцанием, одиночеством, свободой, отсутствием человека, присутствием бога; и старая заржавевшая решетка, казалось, говорила: «Этот сад – мой».
Пусть тут же вокруг были улицы Парижа, в двух шагах – великолепные классические особняки улицы Варенн, совсем рядом – купол Дома инвалидов, недалеко – палата депутатов; пусть по соседству, на улицах Бургундской и Сен-Доминик, катили щегольские кареты, пусть желтые, белые, коричневые и красные омнибусы проезжали на ближайшем перекрестке, – улица Плюме оставалась пустынной. Довольно было смерти старых владельцев, минувшей революции, крушения былых состояний, безвестности, забвения, сорока лет заброшенности и свободы, чтобы в этом аристократическом уголке обосновались папоротники, царские скипетры, цикута, дикая гречиха, высокие травы, крупные растения с широкими, словно из бледно-зеленого сукна, узорчатыми листьями, ящерицы, жуки, суетливые и быстрые насекомые; чтобы из глубины земли возникло и снова появилось среди этих четырех стен неведомое, дикое и нелюдимое величие и чтобы природа, расстраивающая жалкие ухищрения людей и всегда до конца проявляющаяся там, где она себя проявляет, будь это муравейник или орлиное гнездо, развернулась здесь, в убогом парижском садике, с такой же необузданностью и величием, как в девственном лесу Нового Света.
На самом деле в природе нет ничего незначительного; тот, кто наделен даром глубокого проникновения в нее, знает это. И хотя полное удовлетворение не дано философии, как не дано ей точно определять причины и указывать границы следствий, все же созерцатель приходит в бесконечный восторг при виде всего этого расчленения сил, кончающегося единством. Все работает для всего.
Алгебра приложима к облакам; излучение звезды приносит пользу розе; ни один мыслитель не осмелится сказать, что аромат боярышника бесполезен созвездиям. Кто может измерить путь молекулы? Кому ведомо, не вызвано ли создание миров падением песчинок? Кто знает о взаимопроникновении бесконечно великого и бесконечно малого, об отголосках первопричин в безднах отдельного существа и в лавинах творения? И клещ – явление значительное; малое велико, великое мало; все уравновешивается необходимостью; видение, устрашающее разум! Между живыми существами и мертвой материей есть чудесная связь; в этом неисчерпаемом целом, от солнца до букашки, нет презрения друг к другу; одни нуждаются в других. Свет, уносящий в лазурь земные благоухания, знает, что делает; ночь оделяет звездной эссенцией заснувшие цветы. Каждая летящая птица держит в когтях нить бесконечности. Животворящее начало усложняется – от образования метеора и до удара клювом, которым птенец ласточки, выходя из яйца, разбивает скорлупу; оно приводит равно к созданию дождевого червя и к появлению Сократа. Там, где кончается телескоп, начинается микроскоп. У кого из них поле зрения более велико? Выбирайте. Плесень – это плеяда цветов; туманность – муравейник звезд. Та же тесная близость, и еще более удивительная, между явлениями разума и состояниями материи. Стихии и законы бытия смешиваются, сочетаются, вступают в брак, размножаются одни через других – и в конечном счете приводят мир материальный и мир духовный к одной и той же ясности. Явления природы беспрерывно повторяют себя. В широких космических взаимных перемещениях жизнь вселенной движется вперед и назад в неведомых объемах, вращая все в невидимой мистерии возникновения, пользуясь всем, не теряя даже грезы, даже сновидения, – здесь зарождая инфузорию, там дробя на части звезду, колеблясь и извиваясь, творя из света силу, а из мысли стихию, рассеянная повсюду и неделимая, растворяя все, за исключением одной геометрической точки, называемой «я»; сводя все к душе – атому; раскрывая все в боге; смешивая все деятельные начала, от самых возвышенных до самых низменных, во мраке этого головокружительного механизма, связывая полет насекомого с движением земли, подчиняя – кто знает? быть может, лишь по тождеству закона – передвижение кометы на небесном своде кружению инфузории в капле воды. Это механизм, созданный разумом. Гигантская система зубчатых колес, первый двигатель которой – мошка, а последнее колесо – зодиак.
Глава 4. После одной решетки другая.
Казалось, этот сад, созданный некогда для того, чтобы скрывать тайны волокитства, преобразился и стал достойным укрывать тайны целомудрия. В нем не было больше ни беседок, ни лужаек, ни темных аллей, ни гротов; здесь воцарился великолепный сумрак, который, сгущаясь то здесь, то там, ниспадал наподобие вуали отовсюду. Пафос вновь превратился в Эдем. Словно чье-то покаяние очистило этот укромный уголок. Эта цветочница предлагала теперь свои цветы душе. Кокетливый садик, имевший в свое время весьма подозрительную репутацию, снова стал девственным и стыдливым. Председатель, с помощью некоего садовника, – один из этих чудаков вообразил себя преемником Ламуаньона, а другой – продолжателем искусства Ленотра, – исковеркал его, обкромсал, прилизал, выфрантил, приспособил для галантных похождений; природа снова завладела им, наполнила тенью и приуготовила для любви.
Теперь в этом уединенном уголке очутилось и сердце, готовое любить. Осталось лишь появиться любви; для нее здесь был храм из зелени, трав, мха, птичьих стонов, мягких сумерек, колеблющихся ветвей, и была душа, созданная из нежности, веры, чистоты, надежды, порывов и иллюзий.
Козетта вышла из монастыря почти ребенком; ей едва исполнилось четырнадцать лет, и она вступила в «неблагодарный возраст»; как мы уже упоминали, если не говорить о глазах, она выглядела скорее дурнушкой, чем красивой; в ней не было, впрочем, ничего неприятного, но она казалась нескладной и худой, робкой и смелой одновременно, – словом, это был подросток.
Ее воспитание считалось законченным, то есть ей преподали закон божий и в особенности благочестие; затем «историю», то есть то, что под этим названием подразумевают в монастыре, географию, грамматику, спряжения, имена французских королей, немного музыки, научили рисовать профили и т. д., но, в общем, она не знала ничего, а в этом таится и очарование, и опасность. Душу молодой девушки не следует оставлять в потемках, – впоследствии в ней возникают миражи, слишком резкие, слишком яркие, как в темной комнате. Рассеять в ней тьму должно мягко и исподволь, скорее отблеском действительности, нежели ее прямым и жестким лучом. Этот полусвет, полезный и привлекательно строгий, разгоняет ребяческие страхи и препятствует падениям. Только материнский инстинкт – это изумительное прирожденное чувство, с которым слиты девические воспоминания и женская опытность, – знает, как, каким образом должно создавать такой полусвет. Ничто не может заменить этот инстинкт. Когда дело идет о воспитании души молодой девушки, все монахини на свете не стоят одной матери.
У Козетты не было матери. Были только матери-монахини, всего лишь множественное число от слова «мать».
Что же касается Жана Вальжана, то, хотя в нем воплощались все нежные отцовские чувства и заботливость, он был не более как старик, ничего в этом не понимавший.
Действительно, в подвиге воспитания, в этом важном деле подготовки женщины к жизни, сколько нужно знаний, чтобы бороться с тем великим неведением, которое именуется невинностью!
Ничто так не предрасполагает молодую девушку к страстям, как монастырь. Монастырь обращает мысль в сторону неизвестного. Сердце, сосредоточившееся на самом себе, страдает, потеряв возможность излиться, и замыкается, потеряв возможность расцвести. Отсюда видения, предположения, догадки, придуманные романы, жажда приключений, фантастические волшебные замки, целиком созданные во внутренней тьме разума, – сумрачные и тайные жилища, где страсти находят себе пристанище, как только оставленная позади монастырская решетка открывает им туда доступ. Монастырь – это гнет, который, чтобы восторжествовать над человеческим сердцем, должен длиться всю жизнь.
Покинув монастырь, Козетта не могла найти ничего более приятного и опасного, чем дом на улице Плюме. Это было продолжение одиночества, но и начало свободы; замкнутый сад, но яркая, богатая, сладострастная и благоуханная природа; те же сны, что и в монастыре, но и мельком увиденные молодые люди; решетка, но на улицу.
Однако, повторяем, прибыв сюда, она была еще только ребенком. Жан Вальжан предоставил ей этот запущенный сад. «Делай здесь все, что хочешь», – сказал он ей. Это забавляло Козетту; она обшарила кусты, переворошила камни, она искала там «зверушек»; она там играла, пока не пришла пора мечтать; она любила этот сад ради тех насекомых, которых находила у себя под ногами в траве, пока не пришла пора любить его ради тех звезд, которые она увидит сквозь ветви над своей головой.
И потом она любила своего отца, то есть Жана Вальжана, всею своей душой, с наивной дочерней страстью и видела в старике желанного и приятного товарища. Как помнит читатель, г-н Мадлен много читал; Жан Вальжан продолжал чтение и стал хорошим рассказчиком; он обладал скрытым богатством и красноречием подлинного пытливого и смиренного ума. В нем осталось ровно столько жесткости, сколько требовалось, чтобы оттенить его доброту; то был суровый ум и нежное сердце. В Люксембургском саду, в беседах с глазу на глаз, он давал пространные объяснения всему, черпая их из того, что читал, и из того, что пережил. Козетта слушала с мечтательным блуждающим взором.
Этот простой человек удовлетворял мысль Козетты так же, как этот дикий сад – ее глаза. Устав гоняться за бабочками, она, запыхавшись, прибегала к нему и восклицала: «Ах, как я набегалась!» Он целовал ее в лоб.
Козетта обожала доброго старика. Она всегда ходила за ним по пятам. Ей было хорошо всюду, где был Жан Вальжан. Так как он не жил ни в саду, ни в особняке, то и она предпочитала задний мощеный дворик своему уголку, заросшему цветами, и маленькую каморку с соломенными стульями – большой гостиной, обтянутой ковровыми обоями, где у стен стояли мягкие кресла. Иногда Жан Вальжан, счастливый тем, что ему докучают, говорил улыбаясь: «Ну, поди же к себе! Дай мне побыть одному».
Козетта ему отвечала очаровательной нежной воркотней, которая приобретает особенную прелесть в устах дочери, обращающейся к отцу:
– Отец, мне очень холодно у вас, почему вы не положите здесь ковер и не поставите печку?
– Дорогое дитя, на свете столько людей, лучших, чем я, а у них нет даже крыши над головой.
– Почему же в таком случае у меня тепло и есть все, что нужно?
– Потому что ты женщина и ребенок.
– Вот еще! Значит, мужчины должны мерзнуть и плохо жить?
– Некоторые мужчины.
– Очень хорошо, я буду так часто приходить сюда, что вам волей-неволей придется топить.
Потом она ему говорила:
– Отец, почему вы едите такой гадкий хлеб?
– Потому… дочь моя.
– Ах так? Ну и я буду есть такой же.
Тогда, чтобы Козетта не ела черного хлеба, Жан Вальжан принимался есть белый.
Козетта очень смутно помнила детство. Утром и вечером она молилась за свою мать, которой не знала. Тенардье остались у нее в памяти, как два отвратительных существа из какого-то страшного сна. Она припоминала, что «в один прекрасный день, ночью» ходила в лес за водой. Она думала, что это было далеко-далеко от Парижа. Ей казалось, что жизнь ее началась в пропасти и что Жан Вальжан извлек ее оттуда. Собственное детство представлялось ей временем, когда вокруг себя она видела лишь сороконожек, пауков и змей. Так как у нее не было твердой уверенности в том, что она дочь Жана Вальжана и что он ее отец, то, мечтая по вечерам перед сном, она воображала, что душа ее матери переселилась в этого доброго старика и живет рядом с ней.
Когда он сидел возле нее, она прижималась щечкой к его седым волосам и молчаливо роняла слезу, думая: «Быть может, это моя мать!».
Материнство – понятие совершенно непостижимое для девственности, и Козетта, как это ни странно звучит, в глубоком неведении девочки в конце концов вообразила, что у нее «почти совсем» не было матери. Она даже не знала ее имени. Всякий раз, когда ей случалось спросить об этом Жана Вальжана, тот молчал. Если она повторяла вопрос, он отвечал улыбкой. Однажды она была слишком настойчивой, тогда его улыбка сменилась слезой.
Молчание Жана Вальжана покрывало непроницаемым мраком Фантину.
Сказывалась ли в этом его осторожность? Или уважение? Или боязнь предать ее имя на волю случая, доверив его чужой памяти?
Пока Козетта была мала, Жан Вальжан охотно говорил ей о матери, но, когда она превратилась в молодую девушку, это стало для него невозможным. Ему казалось, что он больше не имеет на то права. Была ли тому причиной Козетта или Фантина, но он испытывал какой-то священный ужас при мысли, что поселит эту тень в сердце Козетты и сделает усопшую третьей участницей их судьбы. Чем более священной становилась для него эта тень, тем более грозной казалась она ему. Он думал о Фантине и чувствовал всю тяжесть молчания. Неясно различал он во мраке что-то, походившее на приложенный к устам палец. Быть может, целомудрие Фантины, которого она была насильственно лишена при жизни, вернулось после ее смерти и, негодующее и угрожающее, распростерлось над ней, чтобы бодрствовать над усопшей и охранять ее покой в могиле. Не испытывал ли Жан Вальжан, сам того не ведая, его воздействия? Мы, веруя в смерть, не принадлежим к числу тех, кто мог бы отклонить это мистическое объяснение. Потому-то он и не мог произнести имя Фантины даже перед Козеттой.
Как-то Козетта сказала ему:
– Отец, сегодня я видела маму во сне. У нее было два больших крыла. Наверно, моя мать при жизни удостоилась святости.
– Да, мученичеством, – ответил Жан Вальжан.
Тем не менее Жан Вальжан был счастлив.
Выходя с ним, Козетта опиралась на его руку, гордая и счастливая до глубины души. При всяком проявлении ее нежности, столь необыкновенной и сосредоточенной лишь на нем одном, Жан Вальжан чувствовал, что душа его тонет в блаженстве. Бедняга трепетал, проникнутый небесной радостью; он восторженно твердил себе, что так будет длиться всю жизнь; он говорил в душе, что, право, недостаточно страдал, чтобы заслужить такое лучезарное счастье, и в глубине души благодарил господа, позволившего, чтобы он, отверженный, был столь любим этим невинным существом.
Глава 5. Роза замечает, что она стала орудием войны.
Однажды Козетта случайно взглянула на себя в зеркало и изумилась. Ей почти показалось, что она хорошенькая. Она почувствовала какое-то странное волнение. До сих пор она совсем не думала о своей внешности. Она смотрелась в зеркало, но не видела себя. И кроме того, ей часто говорили, что она некрасива; только один Жан Вальжан мягко повторял: «Да нет же, нет!» Как бы там ни было, Козетта всегда считала себя дурнушкой и выросла с этой мыслью, легко, по-детски, свыкнувшись с нею. Но вот зеркало сразу сказало ей, как и Жан Вальжан: «Да нет же!» Она не спала всю ночь. «А если и вправду я хороша? – думала она. – Как это было бы забавно, если бы оказалось, что я хороша собой!» И она вспоминала своих блиставших красотой монастырских подруг и повторяла про себя: «Неужели я буду как мадемуазель такая-то!».
На следующий день она уже нарочно посмотрела на себя в зеркало и успокоилась. «Что за вздор пришел мне в голову? – подумала она. – Нет, я дурнушка». Она просто-напросто плохо спала, была бледна, с синевой под глазами. Она не очень обрадовалась накануне, поверив в свою красоту, но теперь была огорчена, разуверившись в ней. Больше она не смотрелась в зеркало и в течение двух недель старалась причесываться, повернувшись к нему спиною.
Вечером, после обеда, она обычно занималась в гостиной вышиванием по канве или какой-нибудь другой работой, которой научилась в монастыре; Жан Вальжан читал, сидя возле нее. Однажды она подняла голову, и ее очень удивило выражение беспокойства, которое она уловила в устремленном на нее взоре отца.
В другой раз, проходя по улице, она услышала, как кто-то позади сказал: «Красивая женщина! Но плохо одета». «Ну, – подумала она, – это не про меня. Я хорошо одета и некрасива». Она была в плюшевой шапочке и в старом мериносовом платье.
Наконец, однажды днем, когда она была в саду, она услышала, как старая Тусен сказала: «А вы замечаете, сударь, что наша барышня хорошеет?» Козетта не слышала, что ответил ее отец, слова Тусен были для нее каким-то откровением. Она убежала из сада, поднялась в свою комнату, бросилась к зеркалу – уже три месяца, как она не смотрелась в него, – и вскрикнула. Она была ослеплена собой.
Она была хороша, она была прекрасна; она не могла не согласиться с Тусен и своим зеркалом. Ее стан сформировался, кожа побелела, волосы стали блестящими, какое-то неведомое сияние зажглось в голубых глазах. Сознание своей красоты пришло к ней мгновенно, как ярко вспыхнувший свет; но и другие заметили, что она хороша, и Тусен сказала об этом, и прохожий, по-видимому, говорил о ней, – сомнений больше не оставалось. Растерянная, ликующая, полная невыразимого восхищения, она вернулась в сад, чувствуя себя королевой, и хотя стояла зима, она слышала пение птиц, видела золотое небо, солнце, светившее сквозь ветви, цветы на кустах.
А Жан Вальжан испытывал глубокую и неизъяснимую сердечную тревогу.
Действительно, с некоторых пор он с ужасом глядел на эту красоту, которая с каждым днем все ярче расцветала на нежном личике Козетты. Взошла заря, пленительная для всех, зловещая для него.
Козетта была хороша задолго до того, как заметила это. Но омраченный взор Жана Вальжана с первого же дня был ранен медленно разгоравшимся и постепенно заливавшим молодую девушку неожиданным светом. Он почувствовал это как перемену в своей счастливой жизни, столь счастливой, что он не осмеливался шевельнуться из опасения нарушить в ней что-либо. Этот человек, прошедший через все несчастья, человек, чьи раны, нанесенные ему судьбой, до сих пор кровоточили, бывший почти злодеем и ставший почти святым, влачивший после цепей каторжника невидимую, но тяжелую цепь скрытого бесчестия, человек, которого закон еще не освободил и который мог быть каждую минуту схвачен и выведен из темницы своей добродетели на яркий свет общественного позора, – этот человек принимал все, прощал все, оправдывал все, благословлял все, соглашался на все и молил у провидения, у людей, у законов, у общества, у природы, у вселенной только одного: любви Козетты!
Только бы Козетта продолжала его любить! Только бы господь не мешал сердцу этого ребенка стремиться к нему и принадлежать ему всегда! Любовь Козетты его исцелила, успокоила, умиротворила, удовлетворила, вознаградила, вознесла. Любимый Козеттой, он был счастлив! Он не просил большего. Если бы его спросили: «Хочешь быть счастливее?» – он бы ответил: «Нет». Если бы бог его спросил: «Хочешь райского блаженства?» – он бы отвечал: «Я прогадал бы на этом».
Все, что могло нарушить их жизнь, хотя бы даже слегка, заставляло его трепетать от ужаса, как начало перемены. Он не слишком понимал, что такое женская красота, но инстинкт говорил ему, что это нечто страшное.
Ошеломленный, глядел он из глубины своего несчастья, отверженности, угнетенности, безобразия и старости на эту красоту, расцветавшую подле него, перед ним все торжественнее и величавее, на невинном, но таящем угрозу челе ребенка.
Он говорил себе: «Как она прекрасна! Что же теперь станется со мной?».
В этом и сказывалось различие между его нежностью и нежностью матери. То, что внушало ему душевную тревогу, для матери было бы радостью.
Первые признаки наступившей перемены не замедлили обнаружиться.
На следующий же день после того, как Козетта воскликнула: «Конечно, я хороша!» – она обратила внимание на свои наряды. Она вспомнила слова прохожего: «Красива, но плохо одета»; это пророческое дуновение, пронесшееся возле нее и исчезнувшее, успело заронить в ее сердце одно из двух зерен, которые позже, развившись, заполняют всю жизнь женщины, – зерно кокетства. Второе зерно – любовь.
Как только она поверила в свою красоту, в ней раскрылась вся ее женская сущность. Она почувствовала отвращение к мериносовому платью и плюшевой шляпке. Отец никогда и ни в чем ей не отказывал. Она сразу овладела искусством одеваться, тайной шляпки, платья, накидки, ботинок, манжеток, материи и цвета к лицу – тем искусством, которое делает парижанку столь очаровательной, столь загадочной и столь опасной. Выражение «пленительная женщина» было придумано для парижанки.
Не прошло и месяца, как маленькая Козетта стала в этой пустыне, именуемой Вавилонской улицей, не только одной из самых красивых женщин Парижа, – а это немало, но и одной из самых «хорошо одетых», – что гораздо больше. Ей хотелось бы встретить «того прохожего», чтобы услышать его мнение теперь и чтобы «проучить его»! Действительно, она была прелестна и превосходно отличала шляпку Жерара от шляпки Эрбо.
Жан Вальжан с тревогой смотрел на эти разорительные новшества. Он, которому дано было только ползать, самое большее – ходить, видел, как у Козетты вырастают крылья.
Но все же любая женщина, взглянув на туалет Козетты, сразу поняла бы, что у нее нет матери. Некоторые незначительные правила приличия, некоторые условности не были ею соблюдены. Например, мать сказала бы ей, что молодые девушки не носят платья из тяжелого шелка.
Выйдя из дому в первый раз в своем черном шелковом платье и накидке, в белой креповой шляпке, веселая, сияющая, розовая, гордая, блестящая, она, взяв под руку Жана Вальжана, спросила: «Ну, как вы меня находите, отец?» Жан Вальжан ответил тоном, в котором словно сквозила горькая нотка зависти: «Восхитительной!» На прогулке он держался как обычно. Вернувшись, он спросил Козетту:
– Разве ты никогда больше не наденешь свое платье и шляпку, те, прежние?
Это происходило в комнате Козетты. Козетта обернулась к платяному шкафу, где на вешалке висело ее разжалованное монастырское одеяние.
– Этот костюм для ряженого! – воскликнула она. – На что он мне? О нет, я никогда не надену эти ужасные вещи! С этой штукой на голове я похожа на чучело!
Жан Вальжан глубоко вздохнул.
С тех пор он стал замечать, что Козетта, которая раньше всегда просила его остаться дома и говорила: «Отец, мне приятнее побыть здесь с вами», – теперь всегда просила его пойти погулять. В самом деле, зачем нужны хорошенькое личико и восхитительный наряд, если не показывать их?
Он заметил также, что Козетта уже не так любила задний дворик, как прежде. Теперь она охотнее бывала в саду, не без удовольствия прогуливаясь перед решеткой.
Жан Вальжан, замкнувшись в себе, туда не показывался. Он не покидал своего заднего дворика, словно сторожевой пес.
Козетта, поняв, что она красива, утратила прелесть неведения; прелесть утонченную, потому что красота, сочетающаяся с простодушием, – невыразима, и нет ничего милее сияющей невинности, которая шествует, держа в руке, не зная того сама, ключи от рая. Но, потеряв прелесть наивности, она приобрела очарование задумчивости и серьезности. Вся проникнутая радостью юности, невинности, красоты, она дышала блистательной грустью.
Именно в это время Мариус, после шести месяцев перерыва, снова увидел ее в Люксембургском саду.
Глава 6. Битва начинается.
Козетта в своем затишье, как и Мариус в своем, готова была встретить любовь. Судьба, с присущим ей роковым и таинственным терпением, медленно сближала эти два существа, словно заряженные электричеством и истомленные зарницами надвигающейся страсти; эти души, чреватые любовью, как облака – грозой, должны были столкнуться и слиться во взгляде, как сливаются облака во вспышке молнии.
В любовных романах так злоупотребляли силой взгляда, что в конце концов вовсе перестали ей верить. Теперь едва осмеливаешься говорить, что двое полюбили друг друга, потому что их взгляды встретились. И однако именно так начинают любить, и только так. Все остальное является лишь остальным и приходит позже. Нет ничего реальней этих глубочайших потрясений, которые вызывают друг в друге две души, обменявшись такой искрой.
В тот час, когда Козетта бессознательно бросила взгляд, взволновавший Мариуса, Мариус не подозревал, что и его взгляд взволновал Козетту.
Он причинил ей то же зло и то же благо.
Уже давно она заметила его и наблюдала за ним, как замечают и наблюдают девушки, хотя и глядят в другую сторону. Мариус еще считал Козетту дурнушкой, когда Козетта уже находила Мариуса красивым. Но он не обращал на нее внимания, и она оставалась равнодушной к молодому человеку.
Все же она не могла не признаться, что у него прекрасные волосы, прекрасные глаза и зубы, приятный голос, который она слышала, когда он разговаривал с товарищами, что у него, если угодно, неловкая походка, но в ней есть своеобразное изящество, что он вовсе не кажется глупым, что весь его облик отмечен благородством, мягкостью, простотой и гордостью, что, наконец, пускай на вид он беден, но полон достоинства.
В тот день, когда их глаза неожиданно встретились и, наконец, сказали друг другу те темные и невыразимые слова, которые невнятно передает взгляд, Козетта сначала ничего не поняла. Задумчиво она вернулась в дом на Западной улице, куда, по своему обыкновению, перебрался на полтора месяца Жан Вальжан. На следующий день, проснувшись, она подумала об этом молодом незнакомце, который так долго был равнодушен и холоден, а теперь как будто обратил на нее внимание, однако ей показалось, что это внимание нисколько не льстит ей. Скорее она немного сердилась на красивого гордеца. Что-то воинственное шевельнулось в ней. Ей казалось, что она, наконец, отомстит за себя, и при мысли об этом Козетта испытывала какую-то еще почти ребяческую радость.
Сознавая себя красивой, она чувствовала, хотя и смутно, что обладает оружием. Женщины играют своей красотой, как дети ножом. Им случается самих себя поранить.
Читатель помнит колебания Мариуса, его трепет, его страхи. Он продолжал сидеть на своей скамье и не подходил к Козетте. Это вызывало в ней досаду. Однажды она сказала Жану Вальжану: «Пойдем, отец, погуляем по этой стороне». Видя, что Мариус не идет к ней, она направилась к нему. В таких случаях каждая женщина похожа на Магомета. И затем, как это ни странно, первый признак истинной любви у молодого человека – робость, у молодой девушки – смелость. Это удивительно, и, однако, нет ничего проще. Два пола, стремясь сблизиться, заимствуют недостающие им свойства друг у друга.
В этот день взгляд Козетты свел Мариуса с ума, взгляд Мариуса заставил затрепетать Козетту. Мариус ушел с надеждой в душе, Козетта с беспокойством. С этого дня они стали обожать друг друга.
Первое, что испытала Козетта, была смутная и глубокая грусть. Ей казалось, что за один день ее душа потемнела. Она больше не узнавала себя. Чистота девичьей души, слагающаяся из холодности и веселости, похожа на снег. Она тает под солнцем любви.
Козетта не знала, что такое любовь. Она никогда не слышала этого слова, произнесенного в земном его значении. В тетрадях светской музыки, попадавших в монастырь, слово «любовь» было заменено словами: «морковь» или «свекровь». Это порождало загадки, подстрекавшие воображение старших пансионерок, например: «Ах, как приятна морковь!» или: «Жалость – не свекровь». Но Козетта вышла из монастыря слишком юной, чтобы особенно интересоваться «свекровью». И она не знала, как назвать то, что испытывала теперь. Но разве в меньшей степени болен человек оттого, что не ведает названия своей болезни?
Она любила с тем большей страстью, что любила в неведении. Она не знала, хорошо это или плохо, полезно или опасно, благотворно или смертельно, вечно или преходяще, дозволено или запрещено; она любила. Она бы очень удивилась, если бы ей сказали: «Вы не спите? Но ведь это непозволительно! Вы перестали есть? Но это очень дурно! У вас тяжесть в груди и сердцебиение? Но это никуда не годится! Вы то краснеете, то бледнеете, когда известное лицо в черном костюме появляется в конце известной зеленой аллеи? Но ведь это ужасно!» Она не поняла бы и ответила: «Как же я могу быть виновата в том, в чем я не вольна и чего не понимаю?».
Случаю было угодно, чтобы посетившая ее любовь была именно той, которая лучше всего соответствовала ее душевному состоянию. То было своего рода обожание издали, безмолвное созерцание, обоготворение незнакомца. То было явление юности – другой такой же юности, ночная греза, превратившаяся в роман и оставшаяся грезой, желанное видение, наконец воплотившееся, но еще не имеющее ни имени, ни вины за собой, ни пятна, ни требований, ни недостатков, – словом, далекий возлюбленный, обитающий в идеальном мире, мечта, принявшая четкий облик. Всякая встреча, более определенная и на более близком расстоянии, в это первое время вспугнула бы Козетту, еще наполовину погруженную в сумрак монастырской жизни, который преувеличивал опасности мирской жизни. Все детские и монашеские страхи перепутывались в ней. Монастырский дух, которым она прониклась за пять лет и которым до сих пор веяло от нее, показывал ей все окружающее в неверном свете. И сейчас ей нужен был не возлюбленный, даже не влюбленный – ей нужно было только видение. Она начала обожать Мариуса как нечто восхитительное, светозарное и недосягаемое.
Крайнее простодушие граничит с крайним кокетством, поэтому она ему улыбалась без всякого стеснения.
Каждый день она нетерпеливо ожидала часа прогулки, встречала Мариуса, чувствовала себя невыразимо счастливой и думала, что вполне чистосердечно выражает все свои мысли, говоря Жану Вальжану: «Какая прелесть этот Люксембургский сад!».
Мариус и Козетта пребывали друг для друга во тьме. Они не разговаривали, не здоровались, они не были знакомы; они виделись, подобно небесным светилам, разделенным миллионами миль, и жили созерцанием друг друга.
Так, мало-помалу Козетта становилась женщиной, прекрасной и влюбленной, сознающей свою красоту и не ведающей о своей любви. Сверх всего – кокетливой по своей невинности.
Глава 7. За одной печалью печаль еще бо́льшая.
При всех обстоятельствах в человеке бодрствует особый инстинкт. Старая и вечная мать-природа глухо предупреждала Жана Вальжана о присутствии Мариуса. И Жан Вальжан содрогался в самых темных глубинах своей души. Он ничего не видел, ничего не знал, но всматривался с настойчивым вниманием в окружавший его мрак, как будто чувствуя, что где-то рядом нечто созидается, нечто разрушается. Мариус, так же предупрежденный той же матерью-природой, – и в этом мудрость божественного закона, – делал все возможное, чтобы «отец» девушки его не видел. Случалось, однако, что Жан Вальжан его иногда замечал. Поведение Мариуса было не совсем естественным. Его осторожность была подозрительной, а смелость неловкой. Он уж больше не подходил так близко, как раньше; он садился поодаль и словно погружался в экстаз; он приносил с собой книгу и притворялся, будто читает. Зачем он притворялся? Раньше он приходил в своем старом фраке, теперь же всегда в новом; нельзя было утверждать с уверенностью, что он не завивался, у него были какие-то странные глаза, он стал носить перчатки. Короче говоря, Жан Вальжан от всей души ненавидел этого молодого человека.
Козетта не давала никаких поводов для догадок. Не понимая в точности, что с ней происходит, она тем не менее чувствовала в себе нечто новое, что нужно скрывать.
Между желанием наряжаться, возникшим у Козетты, и обыкновением надевать новый фрак, появившимся у этого незнакомца, существовала какая-то взаимосвязь, мысль о которой была несносна для Жана Вальжана. Быть может, вполне вероятно, даже несомненно, то была случайность, но случайность опасная.
Он никогда не говорил ни слова Козетте об этом незнакомце. Все же как-то раз он не мог удержаться и, полный того смутного отчаяния, которое побуждает человека неожиданно погрузить зонд в собственную рану, сказал ей: «Как важничает этот молодой человек!».
Годом раньше Козетта с безразличием девочки ответила бы ему: «Вовсе нет, он очень милый». Десятью годами позже, с любовью к Мариусу в сердце, она бы сказала: «Вы правы, просто противно смотреть, как он важничает!» Но теперь, в этот период своей жизни и своей любви, она ограничилась тем, что с невозмутимым спокойствием ответила:
– Кто? Ах, этот молодой человек! – словно она его увидела в первый раз в жизни.
«Как я глуп! – подумал Жан Вальжан. – Она его и не заметила. Я сам обратил ее внимание на него».
О, простота старцев! О, мудрость детей!
Таков уж закон этих ранних лет страданий и забот, этого жаркого поединка первой любви с первыми препятствиями: девушка не попадается ни в одну ловушку, юноша попадает в каждую. Жан Вальжан начал тайную борьбу с Мариусом, а Мариус в святом неразумии, свойственном его возрасту и его страсти, даже не догадывался об этом. Жан Вальжан строил ему множество козней: он менял часы прогулок, пересаживался на другую скамью, забывал там свой платок, приходил в сад один; Мариус опрометчиво попадался во все эти тенета и на все вопросительные знаки, расставленные Жаном Вальжаном на его пути, простодушно отвечал: «Да!» Однако Козетта была настолько замкнутой в своей кажущейся беззаботности и непроницаемом спокойствии, что Жан Вальжан пришел к следующему выводу: «Этот дурачина без памяти влюблен в Козетту, а она даже не подозревает о его существовании».
И все же сердце его мучительно сжималось. Мгновение, когда Козетта полюбит, могло наступить с минуты на минуту. Не начинается ли все с равнодушия?
Один раз Козетта допустила ошибку и испугала его. Когда, просидев три часа, он поднялся со скамьи, она воскликнула: «Уже?».
Жан Вальжан не прекратил прогулок в Люксембургском саду, не желая прибегать к исключительным мерам и особенно опасаясь возбудить подозрение Козетты; но во время этих, столь сладких для влюбленных часов, когда Козетта улыбалась Мариусу, а он, опьяненный этой улыбкой, только и видел обожаемое лучезарное лицо, Жан Вальжан не сводил с него сверкающих страшных глаз. Он более не считал себя способным к какому-либо недоброму чувству, однако порой, при виде Мариуса, ему казалось, что он снова становится диким и свирепым зверем, что вновь раскрываются и восстают против этого юноши те глубины его души, где некогда было заключено столько злобы. Ему почти казалось, что в нем оживают неведомые, давно потухшие вулканы.
«Как! Он здесь, этот малый! Зачем он пришел? Он пришел повертеться, поразнюхать, поразведать, попытаться! Он думает: «Гм, почему бы и нет?» Он бродит вокруг моего счастья, чтобы схватить его и унести!».
«Да, – продолжал думать Жан Вальжан, – это так! Чего он ищет? Приключения! Чего он хочет? Любовной интрижки! Да, любовной интрижки! А я? Как! Стоило ли тогда быть самым презренным из всех людей, потом самым несчастным, шестьдесят лет своей жизни стоять на коленях, выстрадать все, что можно выстрадать, состариться, никогда не быв молодым, жить без семьи, без родных, без друзей, без жены, без детей, оставить свою кровь на всех камнях, на всех терниях, на всех дорогах, вдоль всех стен, быть мягким, хотя ко мне были жестоки, и добрым, хотя мне делали зло, и, несмотря на все, стать честным человеком, раскаяться в том, что сделал дурного, простить зло, мне причиненное, чтобы теперь, когда я вознагражден, когда все кончено, когда я достиг цели, когда получил все, чего хотел, – а это справедливо, это хорошо, я заплатил за это, я заслужил это, – чтобы теперь все пропало, все исчезло! И я потеряю Козетту и лишусь жизни, радости, души лишь только потому, что какому-то долговязому бездельнику вздумалось таскаться в Люксембургский сад!».
И тогда его глаза загорались зловещим и необычным светом. Это уж не был человек, взирающий на другого человека; это не был враг, взирающий на своего врага. То был сторожевой пес, увидевший вора.
Остальное известно. Мариус продолжал безумствовать. Однажды он проводил Козетту до Западной улицы. В другой раз он вступил в разговор с привратником. Тот в свою очередь заговорил с Жаном Вальжаном. «Сударь, что это за любопытный молодой человек спрашивал о вас?» – осведомился он. На следующий день Жан Вальжан бросил на Мариуса взгляд, который тот, наконец, понял. Неделю спустя Жан Вальжан переехал. Он дал себе слово, что ноги его больше не будет ни в Люксембургском саду, ни на Западной улице. Он вернулся на улицу Плюме.
Козетта не жаловалась, ничего не говорила, не задавала вопросов, не добивалась никаких ответов; она уже достигла возраста, когда боятся быть понятыми и выдать себя. Жан Вальжан был совершенно не искушен в несчастьях подобного рода, ибо из всех несчастий только эти одни таят в себе очарование, и только этих ему не довелось испытать; вот почему он не постиг всего значения молчаливости Козетты. Он только заметил, что она стала печальной, и сам стал мрачен. С обеих сторон это свидетельствовало о неопытности в борьбе.
Однажды, желая испытать ее, он спросил:
– Хочешь пойти в Люксембургский сад?
Луч света озарил бледное личико Козетты.
– Да, – ответила она.
Они отправились туда. Уже прошло три месяца с тех пор, как они перестали его посещать. Мариус больше туда не ходил. Мариуса там не было.
На следующий день Жан Вальжан снова спросил Козетту:
– Хочешь пойти в Люксембургский сад?
– Нет, – печально и кротко ответила она.
Жан Вальжан был оскорблен этой печалью и огорчен этой кротостью. Что происходило в этом уме, столь юном и уже столь непроницаемом? Какие решения там созревали? Что делалось в душе Козетты? Иногда вместо того, чтобы лечь спать, Жан Вальжан целые ночи просиживал около своего жалкого ложа, охватив руками голову. Спрашивая себя: «Что же такое на уме у Козетты?» – он старался представить себе, о чем она могла думать.
О, какие скорбные взоры он обращал в эти минуты к монастырю, этой белоснежной вершине, этому жилищу ангелов, этому недоступному глетчеру добродетели! С каким безнадежным восхищением взирал он на монастырский сад, полный неведомых цветов и заточенных в нем девственниц, где все ароматы и все души возносятся прямо к небу! Как он любил этот навсегда закрывшийся для него рай, откуда он ушел по доброй воле, безрассудно покинув эти высоты! Как он сожалел о своем самоотречении и своем безумии, толкнувшем его на мысль вернуть Козетту в мир, – этот бедный герой, принесенный в жертву и повергнутый в прах собственной преданностью долгу! Сколько раз он повторял себе: «Что я наделал!».
Впрочем, он ничем не выдал себя Козетте. Ни дурным настроением, ни резкостью. При ней всегда у него было то же ясное и доброе лицо. Обращение его с нею было более нежным и более отцовским, чем когда-либо. Если что-нибудь и позволяло догадываться о его грусти, то лишь еще большая мягкость.
Томилась и Козетта. Она страдала, не видя Мариуса, так же сильно и не давая себе в том ясного отчета, как радовалась его присутствию. Когда Жан Вальжан перестал брать ее с собой на обычные прогулки, женское чутье невнятно прошептало ей в глубине души, что не следует выказывать интерес к Люксембургскому саду и что, если бы она была к нему равнодушна, отец снова повел бы ее туда. Но проходили дни, недели и месяцы. Жан Вальжан молчаливо принял молчаливое согласие Козетты. Она пожалела об этом. Но было слишком поздно. Когда она снова пришла в Люксембургский сад, Мариуса там уже не было. Стало быть, Мариус исчез; все кончено, что делать? Найдет ли она его когда-нибудь? Она почувствовала какое-то стеснение в груди, оно не проходило, а увеличивалось с каждым днем. Она больше не знала, зима теперь или лето, солнце или дождь, поют ли птицы, цветут георгины или маргаритки, приятнее ли Люксембургский сад, чем Тюильри, слишком или недостаточно накрахмалено белье, принесенное прачкой, дешево или дорого Тусен купила провизию; она оставалась угнетенной, ушедшей в себя, сосредоточенной на одной только мысли и глядела на все пустым и пристальным взглядом человека, всматривающегося ночью в черную глубину, где исчезло видение.
Впрочем, она также ничем, кроме бледности, не выдавала себя Жану Вальжану. Он видел то же обращенное к нему кроткое личико.
Этой бледности было более чем достаточно, чтобы встревожить его. Иногда он ее спрашивал:
– Что с тобой?
Она отвечала:
– Ничего.
И так как она понимала, что и он грустит, то, помолчав немного, добавляла:
– А вы, отец, что с вами такое?
– Со мною? Ничего, – говорил он.
Эти два существа, связанные такой редкостной и такой трогательной любовью, столь долго жившие друг для друга, теперь страдали друг возле друга, друг из-за друга, молча, не сетуя, улыбаясь.
Глава 8. Кандальники.
Жан Вальжан был несчастней Козетты. Юность даже в горести сохраняет в себе какой-то свет.
В иные минуты Жан Вальжан горевал так сильно, что, казалось, превращался в ребенка. Страданию свойственно пробуждать во взрослом человеке дитя. Им владело какое-то непреодолимое чувство, ему казалось, что Козетта ускользает от него. И в нем родилось желание бороться, удержать ее, вызвать у нее восхищение чем-нибудь внешним и блестящим. Эти мысли, как мы уже говорили, ребяческие и в то же время стариковские, внушали ему, в силу самой их наивности, довольно справедливое мнение о влиянии мишуры на воображение молодых девушек. Как-то ему пришлось увидеть на улице проезжавшего верхом генерала в полной парадной форме, – то был граф Кутар, комендант Парижа. Он позавидовал этому раззолоченному человеку, подумав, какое было бы счастье надеть такой мундир, представлявший собой нечто неотразимое; если бы Козетта увидела его в нем, она была бы ослеплена, и если бы он под руку с ней прошел мимо ворот Тюильри, а караул отдал бы ему честь, этого было бы довольно, чтобы у Козетты пропало желание заглядываться на молодых людей.
К этим печальным мыслям добавилось неожиданное потрясение.
В уединенной жизни, какую они вели с тех пор, как переехали на улицу Плюме, у них появилась новая привычка. Время от времени они отправлялись посмотреть на восход солнца – тихая отрада тех, кто вступает в жизнь, и тех, кто уходит из нее.
Утренняя прогулка для любящего одиночество равноценна ночной прогулке, с тем лишь преимуществом, что утром природа веселее. Улицы пустынны, поют птицы. Козетта, сама точно птичка, охотно вставала в ранние часы. Эти утренние путешествия подготовлялись накануне. Он предлагал, она соглашалась. Устраивалось нечто вроде заговора, выходили еще до рассвета – то были ее скромные утехи. Такие невинные чудачества нравятся юности.
Как известно, у Жана Вальжана была склонность отправляться в местности малопосещаемые, в уединенные уголки, в заброшенные места. В те времена вблизи парижских застав тянулись скудные, почти сливавшиеся с городом поля, на которых летом росла тощая пшеница и которые осенью, после сбора урожая, казались не скошенными, а выщипанными. Жан Вальжан отдавал им особенное предпочтение. Козетта там не скучала. Для него это было уединение, для нее – свобода. Там она опять превращалась в маленькую девочку, могла бегать и почти веселиться, она снимала свою шляпку, клала ее на колени Жану Вальжану и рвала цветы. Она рассматривала бабочек на цветах, но не ловила их; вместе с любовью рождаются доброта и мягкость, и молодая девушка, живущая хрупкой и трепетной мечтой, жалеет крылышко бабочки. Она плела венки из маков, надевала их на голову, и алые цветы, пронизанные и насыщенные солнцем, пылавшие, как пламя, венчали огненной короной ее свежее розовое личико.
Даже после того, как их жизнь омрачилась, они сохранили обычай утренних прогулок.
Однажды в октябрьское утро, соблазненные безмятежной ясностью осени 1831 года, они вышли из дому и к тому времени, когда начало светать, оказались возле Менской заставы. Была не заря, а рассвет – восхитительный и суровый час. Мерцавшие там и сям в бледной и глубокой лазури созвездия, совсем черная земля, совсем побелевшее небо, вздрагивающие стебельки травы, всюду таинственное трепетание сумерек. Жаворонок, словно затерявшийся среди звезд, пел где-то на неслыханной высоте, и, казалось, этот гимн бесконечно малого бесконечно великому умиротворял беспредельность. На востоке церковь Валь-де-Грас вырисовывалась темной громадой на чистом, стального цвета горизонте; ослепительная Венера восходила позади ее купола, словно душа, ускользающая из мрачной темницы.
Всюду были мир и тишина; никого на дороге; кое-где в низинах едва различимые фигуры рабочих, отправлявшихся на свою работу.
Жан Вальжан уселся в боковой аллейке на бревнах, сваленных у ворот лесного склада. Он сидел лицом к дороге, спиной к свету; он забыл о восходившем солнце; им овладело то глубокое раздумье, которое поглощает все мысли, делает невидящим взгляд и словно заключает человека в четырех стенах. Есть размышления, которые можно было бы назвать вертикальными, – они заводят в такую глубь, что требуется время для того, чтобы вернуться на землю. Жан Вальжан погрузился в одно из таких размышлений. Он думал о Козетте, о возможном счастье, если бы ничто не вставало между ними, о свете, которым она наполняла его жизнь, о том свете, которым дышала его душа. Он был почти счастлив, отдавшись этой мечте. Козетта, стоя возле него, смотрела на розовеющие облака.
Вдруг она вскричала: «Отец, вон оттуда как будто едут». Жан Вальжан поднял голову.
Она была права.
Дорога, ведущая к прежней Менской заставе, как известно, составляет продолжение Севрской улицы и перерезана под прямым углом бульваром. У поворота с бульвара на дорогу, в том месте, где они пересекаются, слышался труднообъяснимый в такое время шум и виднелась какая-то неясная громоздкая масса. Что-то бесформенное, появившееся со стороны бульвара, выбиралось на дорогу.
Все это вырастало и спокойно двигалось вперед, но казалось в то же время каким-то взъерошенным и колыхающимся; это походило на повозку, но нельзя было понять, с каким она грузом. Смутно виднелись лошади, колеса, слышались крики, раздавалось хлопанье бичей. Постепенно очертания этой массы обрисовывались, хотя еще и тонули во мгле. Действительно, то была повозка, свернувшая с бульвара на дорогу и направлявшаяся к заставе, у которой сидел Жан Вальжан; другая такая же повозка следовала за ней, потом третья, четвертая; семь телег появились одна за другой, голова каждой лошади упиралась в задок ехавшей впереди повозки. Какие-то силуэты шевелились на этих телегах, поблескивало в сумерках что-то похожее на обнаженные шашки, слышался лязг, напоминавший звон цепей, голоса звучали все громче, это двигалось вперед и было таким же страшным, как то, что возникает лишь в пещере сновидений.
Приближаясь, все приняло определенную форму и выступило из-за деревьев с призрачностью видения; вся эта масса словно побелела; мало-помалу разгоравшийся день заливал тусклым брезжущим светом это скопище, одновременно потустороннее и живое, головы силуэтов превратились в лица мертвецов. А было это вот что.
По дороге цепочкой тянулось семь повозок. Из них первые шесть имели особое устройство. Они походили на дроги бочаров; то было нечто вроде длинных лестниц, положенных на два колеса и переходивших на переднем конце в оглобли. Каждые дроги, скажем лучше, каждую лестницу тащили четыре лошади, запряженные гуськом. Лестницы были усеяны странными гроздьями людей. При слабом свете дня различить этих людей еще нельзя было, но их присутствие угадывалось. По двадцать четыре человека на каждой повозке, по двенадцати с каждой стороны, спиной друг к другу, лицом к прохожим, со свесившимися вниз ногами, – так эти люди совершали свой путь. За спинами у них что-то позвякивало, то была цепь; на шеях что-то поблескивало, то были железные ошейники. У каждого отдельный ошейник, но цепь общая; таким образом, эти двадцать четыре человека, если бы им пришлось спуститься с дрог и пойти, неминуемо составили бы какое-то единое членистоногое существо, с цепью вместо позвоночника, извивающееся по земле почти так же, как сороконожка. На передке и на задке каждой повозки стояли два человека с ружьями, каждый придерживал ногами конец цепи. Ошейники были квадратные. Седьмая повозка, четырехколесная поместительная фура с дощатыми стенками, но без верха, была запряжена шестью лошадьми; в ней гремела куча железных котелков, чугунных горшков, жаровен и цепей и лежали, вытянувшись во весь рост, несколько связанных человек, с виду больных. Эта фура, сквозная со всех сторон, была снабжена разбитыми решетками, которые казались отслужившими свой срок орудиями старинного позорного наказания.
Повозки держались середины дороги. С обеих сторон шествовали двумя рядами гнусного вида конвойные, в складывающихся треуголках, как у солдат Директории, грязные, рваные, омерзительные, наряженные в серо-голубые и почти изодранные в клочья мундиры инвалидов и панталоны факельщиков, с красными эполетами, желтыми перевязями, с тесаками, ружьями и палками, – настоящие обозные солдаты. В этих сбирах приниженность попрошаек сочеталась с властностью палачей. Тот, кто казался их начальником, держал в руке бич почтаря. Эти подробности, стушеванные сумерками, все яснее вырисовывались в свете наступавшего дня. В голове и в хвосте шествия торжественно выступали конные жандармы с саблями наголо.
Процессия была такой длинной, что, когда первая повозка достигла заставы, последняя только съезжала с бульвара.
По обеим сторонам дороги теснилась толпа зрителей, появившаяся неизвестно откуда и собравшаяся в мгновение ока, как это часто бывает в Париже. В соседних улочках слышались голоса людей, окликающих друг друга, и стук сабо огородников, бежавших взглянуть на это зрелище.
Скученные на дрогах люди молча переносили тряску. Они посинели от утреннего холода. Все были в холщовых штанах и в деревянных башмаках на босу ногу. Остальная одежда свидетельствовала о причудах нищеты. Она была отвратительно пестра; нет ничего более мрачного, чем шутовское рубище. Шляпы с проломанным дном, клеенчатые фуражки, ужасные шерстяные колпаки и рядом с блузой черный фрак с продранными локтями; на некоторых были женские шляпы, у других на головах – плетушки; виднелись волосатые груди, сквозь прорехи в одежде можно было различить татуировку: храмы любви, пылающие сердца, амуры, а рядом лишаи и нездоровые красные пятна. Двое или трое привязали к перекладинам дрог свисавший наподобие стремени соломенный жгут, который служил опорой их ногам. Один из них держал в руке нечто похожее на черный камень и, поднося его ко рту, казалось, вгрызался в него; то был хлеб, который он ел. Глаза у всех были сухие, потухшие или светящиеся каким-то недобрым светом. Конвойные ругались; люди в цепях не издавали ни звука; время от времени слышался удар палкой по голове или по спине; некоторые из этих людей зевали; их лохмотья внушали ужас; ноги болтались, плечи колыхались; головы сталкивались, цепи звенели, глаза дико сверкали, руки сжимались в кулаки или неподвижно висели, как у мертвецов; позади обоза толпа ребятишек заливалась смехом.
Эта вереница повозок, какова она ни была, вызывала мрачные мысли. Можно было ожидать, что если не сегодня, так завтра разразится ливень, за ним еще и еще, что рваная одежонка промокнет насквозь, что, вымокнув, эти люди не обсохнут, озябнув, не согреются, что их мокрые холщовые штаны прилипнут к телу, в башмаки нальется вода, что удары бича не помешают их зубам стучать, цепь по-прежнему будет держать их за шею, ноги по-прежнему будут висеть; и нельзя было не содрогнуться, глядя на этих людей, связанных, беспомощных под холодными осенними тучами и, подобно деревьям и камням, отданных на волю дождя, студеного ветра, всех неистовств непогоды.
Палочные удары не миновали даже связанных веревками больных, неподвижно лежавших на седьмой телеге, точно сваленные туда мешки с мусором.
Внезапно взошло солнце; с востока брызнул огромный луч и как будто воспламенил все эти страшные головы. Языки развязались, полился бурный поток насмешек, проклятий и песенок. Широкая горизонтальная струя света разрезала надвое всю эту вереницу повозок, озарив головы и туловища, оставив ноги и колеса в темноте. На лицах проступили мысли; это мгновение было ужасно: то демоны глянули из-под упавших масок, то обнажили себя свирепые души. Даже освещенное, это сборище оставалось темным. Некоторые, развеселившись, вставили в рог трубочки от перьев и выдували на толпу насекомых, стараясь попасть в женщин. Заря резко подчеркивала черными тенями жалкие профили; каждый был изуродован нищетой; это было настолько чудовищно, что, казалось, солнечный свет потускнел, превратившись в мерцающий отблеск молнии. Повозка, открывшая поезд, затянула во всю мочь и загнусавила с дикой игривостью попурри из прославленной в то время «Весталки» Дезожье; деревья уныло шелестели листьями; в боковой аллее буржуа слушали с идиотским блаженством эти шуточки, исполняемые призраками.
В этой процессии, как в первозданном хаосе, смешались все человеческие бедствия. Там можно было увидеть лицевой угол всех животных, там были старики, юноши, голые черепа, седые бороды, чудовищная циничность, угрюмая покорность, дикие оскалы, нелепые позы, свиные рыла под фуражками, подобия девичьих головок с выпущенными на виски завитками, детские и поэтому страшные лица, тощие лики скелетов, которым не хватало только смерти. На первой телеге сидел негр, быть может, когда-то невольник, который мог сравнить свои прежние цепи с настоящими. Страшный уравнитель низов, позор, тронул все лица; на этой ступени падения, в последних глубинах общественного дна, испытали они последнее свое превращение: невежество, перешедшее в тупость, сравнялось с разумом, перешедшим в отчаяние. Никакой выбор не был возможен среди этих людей, являвших взору как бы самые сливки грязи. Было ясно, что случайный распорядитель гнусной процессии не распределял их по группам. Эти существа были связаны и соединены наудачу, вероятно, по произволу алфавита, и, как попало, погружены на повозки. Однако ужасы, собранные вместе, в конце концов выявляют свою равнодействующую; всякое объединение несчастных дает некий итог; каждая цепь имела общую душу, каждая телега – свое лицо. Рядом с той, которая пела, была другая, на которой вопили; на третьей выпрашивали милостыню; можно было заметить такую, на которой скрежетали зубами; на следующей стращали прохожих; на шестой богохульствовали; последняя была молчалива, как могила. Данте решил бы, что он видит семь кругов ада в движении.
Это был зловещий марш осужденных к месту наказания, но совершался он не на ужасной огненной колеснице апокалипсиса, а, что еще более мрачно, на позорных тюремных повозках.
Один из конвойных, державший палку с крючком на конце, время от времени обнаруживал намерение поворошить ею эту кучу человеческого отребья. Какая-то старуха в толпе показывала на них пальцем мальчику лет пяти, говоря при этом: «Это тебе урок, негодник!».
Так как пение и брань все усиливались, тот, кто казался командиром охраны, щелкнул бичом, и по этому сигналу ужасающие палочные удары, глухие и слепые, подобно граду, обрушились на семь повозок; люди рычали, бесновались, что удвоило веселье уличных мальчишек, налетевших на этот гнойник, подобно рою мух.
Взгляд Жана Вальжана стал страшен. То были уже не глаза; то было непроницаемое стекло, заменяющее зрачок у некоторых несчастных, не отражающее действительности, но словно горящее отсветами ужасов и катастроф. Он не замечал открывшегося перед ним зрелища; его взору предстало страшное видение. Он хотел встать, бежать, исчезнуть – и не мог двинуть пальцем. Иногда то, что видишь, как бы хватает и удерживает нас. Он застыл, пригвожденный к месту, окаменевший, остолбенелый, спрашивая себя в невыразимой смутной тревоге, что означает это преследование из-за гроба, откуда взялось это скопище демонов, обратившееся против него. Внезапно он поднял руку ко лбу – обычное движение у тех, к кому внезапно возвращается память, – он вспомнил, что таков был постоянный маршрут, что сюда обычно сворачивали, чтобы избежать встречи с королем, всегда возможной по дороге в Фонтенебло, и что тридцать пять лет тому назад он сам проезжал через эту заставу.
Козетта была испугана по-другому, но не меньше. Она ничего не понимала; у нее перехватило дыхание; то, что она видела, казалось ей невозможным. Наконец она воскликнула:
– Отец, что же там такое в этих повозках?
Жан Вальжан ответил:
– Каторжники.
– Куда же они едут?
– На каторгу.
В это время палочные удары посыпались особенно щедро и часто, к ним прибавились удары саблей плашмя, – то было какое-то неистовство бичей и палок; каторжники скорчились, наказание привело их к отвратительной покорности, все замолчали, бросая по сторонам взгляды затравленных волков.
Козетта дрожала с головы до ног; она снова спросила:
– Отец, и все это – люди?
– Некоторые из них, – ответил несчастный.
Действительно, то был этап, выступивший до рассвета из Бисетра и направлявшийся по дороге в Ман, чтобы обогнуть Фонтенебло, где тогда пребывал король. Этот объезд должен был продлить ужасный путь на три или четыре дня, но, чтобы уберечь августейшую особу от неприятного зрелища, можно, разумеется, продолжить пытку.
Жан Вальжан вернулся домой совершенно подавленным. Такая встреча равносильна удару, и память, которую она по себе оставляет, похожа на потрясение.
Однако Жан Вальжан, возвратившись с Козеттой на Вавилонскую улицу, не заметил, чтобы она еще задавала вопросы по поводу того, что им довелось увидеть; возможно, он был слишком погружен в себя и угнетен, чтобы воспринять ее слова и ответить на них. Только вечером, когда Козетта уходила спать, он услышал, как она вполголоса, словно разговаривая сама с собой, сказала: «О господи, мне кажется, если бы я встретилась с кем-нибудь из этих людей, я умерла бы только оттого, что увидела его вблизи!».
К счастью, на следующий день после этой трагической встречи в Париже по случаю какого-то официального торжества состоялись празднества: парад на Марсовом поле, фехтование шестами лодочников на Сене, представление на Елисейских полях, фейерверки на площади Звезды, иллюминация повсюду. Жан Вальжан, вопреки своим привычкам, повел Козетту на этот праздник, чтобы рассеять воспоминания о вчерашнем дне и заслонить веселой суматохой, поднявшейся во всем Париже, отвратительную картину, промелькнувшую перед ней накануне.
Парад, бывший приправой к празднеству, естественно, вызвал круговращение мундиров; Жан Вальжан надел форму национального гвардейца, смутно испытывая чувство укрывшегося от опасности человека. Так или иначе, цель прогулки была, казалось, достигнута. Козетта, считавшая для себя законом угождать отцу, согласилась на это развлечение с легкой и непритязательной радостью, свойственной юности; впрочем, для нее всякое зрелище было внове, и она не отнеслась слишком пренебрежительно к этому общему котлу веселья, именуемому «народное гулянье»; таким образом, Жан Вальжан мог полагать, что он добился своего и что в памяти Козетты не осталось и следа от мерзкого видения.
Несколько дней спустя, утром, когда ярко светило солнце, они оба вышли на крыльцо в сад – это было новым нарушением правил, установленных для себя Жаном Вальжаном, и привычки сидеть в своей комнате, которую привила Козетте ее печаль; Козетта, в пеньюаре, восхитительно окутанная этим небрежным утренним нарядом, подобно звезде, прикрытой облачком, вся розовая после сна и озаренная светом, стоя возле старика, молча ее созерцавшего растроганным взглядом, обрывала лепестки маргаритки. Она не знала прелестного гадания: «любит – не любит» и т. д., да и кто мог ее этому научить? Она ощипывала цветок инстинктивно, невинно, не подозревая, что обрывать маргаритку – значит обнажать свое сердце. Если бы существовала четвертая Грация, именуемая Меланхолией и при этом улыбавшаяся, то она походила бы на эту Грацию. Жан Вальжан был заворожен созерцанием беленьких пальчиков, обрывавших цветок; он забыл обо всем, растворившись в сиянии, окружавшем эту девушку. Рядом, в кустарнике, щебетала малиновка. Белые облачка так весело неслись по небу, словно только что вырвались на свободу. Козетта продолжала сосредоточенно обрывать цветок; казалось, она мечтала о чем-то, и ее мечта должна была быть очаровательной. Внезапно, с изящной медлительностью лебедя, она повернула голову и спросила: «Отец, а что это такое – каторга?».
Книга четвертая. Помощь снизу может быть помощью свыше.
Глава 1. Рана снаружи, исцеление внутри.
Так, день за днем, омрачалась их жизнь.
У них осталось только одно развлечение, некогда бывшее счастьем, – оделять хлебом голодных и одеждой страдавших от холода. Навещая бедняков, Жан Вальжан и Козетта, которая часто сопровождала его, чувствовали, как вновь оживает в них что-то от былой задушевной их близости; иногда, если случался хороший день и удавалось облегчить нужду многих страдальцев, согреть и порадовать многих малышей, Козетта вечером была несколько веселее. Именно в эту пору их жизни они и посетили конуру Жондрета.
На следующее же утро после этого посещения Жан Вальжан появился в доме спокойный, как всегда, но с широкой раной на левой руке, сильно воспаленной, злокачественной и похожей на ожог; о причине ее он сказал весьма уклончиво. Из-за этой раны его целый месяц лихорадило, и он сидел дома. Обращаться к врачу он не хотел. Когда Козетта настаивала, он отвечал: «Позови ветеринара».
Козетта перевязывала рану утром и вечером с такой божественной кротостью, с таким выражением ангельского счастья быть ему полезной, что Жан Вальжан чувствовал, как к нему возвращается прежняя радость, как рассеиваются его опасения и тревоги. И, глядя на Козетту, он твердил: «О целебная рана! О целебная болезнь!».
Пока отец был болен, Козетта покинула особняк, она снова полюбила маленький флигель и задний дворик. Почти весь день она проводила с Жаном Вальжаном и читала ему книги по его выбору, главным образом путешествия. Жан Вальжан воскресал; его счастье вновь расцветало, сияя неизъяснимым светом; Люксембургский сад, молодой неизвестный бродяга, охлаждение Козетты – все эти тучи не застилали больше его души. Он даже сказал себе: «Я выдумал все это. Я старый сумасброд».
Его счастье было так велико, что страшная и столь неожиданная встреча с семейством Тенардье в конуре Жондрета, можно сказать, почти не затронула его. Он успел ускользнуть, его след был потерян. Что ему до остального! Если он и вспоминал о ней, то лишь с чувством жалости к этим несчастным. «Теперь они в тюрьме, – думал он, – и уже не в состоянии мне вредить, но какая жалкая, несчастная семья!».
Что до отвратительного видения на Менской заставе, то Козетта больше не заговаривала об этом.
В монастыре сестра Мехтильда преподавала Козетте музыку. У Козетты был голос малиновки, наделенной душой, и порой, вечерами, в скромном жилище раненого она пела печальные песенки, радовавшие Жана Вальжана.
Наступила весна, сад в это время года был так прекрасен, что Жан Вальжан сказал Козетте: «Ты никогда не гуляешь в саду, поди прогуляйся». – «Хорошо, отец», – сказала Козетта.
И, повинуясь его желанию, она снова начала гулять в саду, большею частью одна, потому что, как мы уже упоминали, Жан Вальжан, по всей вероятности боясь быть замеченным через решетку, почти никогда не ходил в сад.
Его рана дала другое направление мыслям обоих.
Козетта, увидев, что отцу стало легче, что он выздоравливает и кажется счастливым, испытывала удовлетворение, которого она даже не приметила сама, настолько естественно и незаметно оно пришло. Кроме того, был март, дни становились длиннее, зима проходила, а она всегда уносит с собой что-то от наших горестей; потом наступил апрель – этот рассвет лета, свежий, как всякая заря, веселый, как всякое детство, иногда немного плаксивый, как всякий новорожденный. Природа в этом месяце исполнена пленительного мерцающего света, льющегося с неба, из облаков, от деревьев, лугов и цветов прямо в человеческое сердце.
Козетта была еще слишком молода, чтобы не проникнуться этой радостью апреля, который был сам похож на нее. Нечувствительно и незаметно для нее мрачные мысли исчезали. Весной в опечаленной душе становится светлее, как ярким полднем в подвале. Козетта даже и не печалилась уж так сильно. Это было очевидно, хотя она и не отдавала себе в том отчета. Утром, часов около десяти, после завтрака, когда ей удавалось увлечь отца на четверть часа в сад и погулять с ним на солнышке возле крылечка, поддерживая его больную руку, она сама не замечала, что то и дело смеялась и была счастлива.
Жан Вальжан в упоении убеждался, что она снова становилась свежей и румяной.
– О целебная рана! – тихонько повторял он.
И он был благодарен Тенардье.
Как только рана зажила, он возобновил свои одинокие вечерние прогулки.
Но было бы заблуждением думать, что можно по вечерам гулять одному по малонаселенным окраинам Парижа, не натолкнувшись на какое-нибудь приключение.
Глава 2. Тетушка Плутарх без труда объясняет некое явление.
Как-то вечером маленькому Гаврошу нечего было есть; он вспомнил, что не обедал и накануне; это становилось скучным. Он решил попытаться поужинать и отправился побродить в пустынных местах за Сальпетриер; именно там и можно было рассчитывать на удачу. Где нет никого, что-нибудь да найдется. Он добрался до какого-то поселка, ему показалось, что это деревня Аустерлиц.
Однажды, разгуливая там, он заметил старый сад, где появлялись старик и старуха, и в этом саду – довольно сносную яблоню. Возле яблони находилось нечто вроде неплотно прикрытого ларя для хранения плодов, откуда можно было стащить яблоко. Яблоко – это ужин; яблоко – это жизнь. Яблоко погубило Адама, но могло спасти Гавроша. К саду примыкала пустынная немощеная улочка, за отсутствием домов окаймленная кустарником; сад от улицы отделяла изгородь.
Гаврош направился к этому саду, нашел улочку, узнал яблоню, убедился, что ларь для плодов на месте, и внимательно обследовал изгородь; а что такое изгородь? – раз-два, и перескочил. Вечерело, на улице не было ни души, время казалось подходящим. Гаврош собрался уже идти на приступ, но вдруг остановился. В саду разговаривали. Гаврош посмотрел сквозь щель в изгороди.
В двух шагах от него, по другую сторону изгороди, как раз против того места, которое он наметил, чтобы проникнуть внутрь, лежал камень, служивший скамьей; на этой скамье сидел старик, хозяин сада, а перед ним стояла старуха. Старуха брюзжала. Гаврош, не отличавшийся скромностью, прислушался.
– Господин Мабеф! – сказала старуха.
«Мабеф! – подумал Гаврош. – Да это прямо смех».
Старик не шевельнулся. Старуха повторила:
– Господин Мабеф!
Старик, не поднимая глаз, наконец ответил:
– Что скажете, тетушка Плутарх?
«Тетушка Плутарх! – подумал Гаврош. – Да это прямо умора».
Тетушка Плутарх заговорила, и старик вынужден был вступить с ней в беседу.
– Хозяин недоволен.
– Почему?
– Мы ему должны за девять месяцев.
– Через три месяца мы ему будем должны за двенадцать.
– Он говорит, что выставит нас на улицу.
– Что ж, я пойду.
– Зеленщица просит денег. И нет больше ни одной охапки поленьев. Чем вы будете отапливаться зимой? У нас совершенно нет дров.
– Зато есть солнце.
– Мясник больше не дает в долг и не хочет отпускать говядину.
– Это очень кстати. Я плохо переношу мясо. Оно для меня слишком тяжело.
– Что же подавать на обед?
– Хлеб.
– Булочник требует по счету и говорит, что, раз нет денег, не будет и хлеба.
– Хорошо.
– Что же вы будете есть?
– У нас есть яблоки.
– Но, сударь, ведь нельзя жить просто так, без денег.
– У меня их нет.
Старуха ушла, старик остался один. Он погрузился в размышления. Гаврош тоже размышлял. Уже почти совсем стемнело.
Вместо того чтобы перебраться через изгородь, Гаврош уселся под ней – таково было первое следствие его размышлений. Внизу ветки кустарника были немного реже.
«Смотри-ка, – воскликнул про себя Гаврош, – да тут настоящая спальня!» И, забравшись поглубже, свернулся в комочек. Спиной он почти прислонился к скамье дедушки Мабефа. Он слышал дыхание старика.
Затем, вместо того чтобы пообедать, он попытался заснуть.
Сон кошки – сон вполглаза. Гаврош и сквозь дремоту караулил.
Бледное сумеречное небо отбрасывало белый отсвет на землю, и улица обозначалась сизой полосой между двумя рядами темных кустов.
Внезапно на этой белесоватой ленте возникли два силуэта. Один шел впереди, другой – на некотором расстоянии сзади.
– А вон и еще двое, – пробормотал Гаврош.
Первый силуэт напоминал старого, согбенного и задумчивого буржуа, одетого более чем просто, ступавшего медленно, по-стариковски и вышедшего побродить вечерком под звездным небом.
Другой был тонкий, стройный, подобранный. Он соразмерял свои шаги с шагом первого, но в преднамеренной медлительности его походки чувствовались гибкость и проворство. В нем было что-то хищное и внушавшее беспокойство, вместе с тем весь его облик выдавал «модника», по выражению того времени. У него была отличная шляпа, черный сюртук в талию, хорошо сшитый и, вероятно, из прекрасного сукна. В том, как он держал голову, сквозили сила и изящество, а под шляпой в сумерках можно было различить бледный юношеский профиль с розой во рту. Этот второй силуэт был хорошо знаком Гаврошу: то был Монпарнас.
Что же касается первого, то о нем нельзя было ничего сказать, кроме того, что это добродушный на вид старик.
Гаврош тотчас уставился на них.
Один из этих двух прохожих, по-видимому, имел какие-то намерения относительно другого. Гаврош мог отлично видеть, что произойдет дальше. Его спальня очень кстати оказалась удобным укрытием.
Монпарнас на охоте, в такой час, в таком месте – это не обещало ничего хорошего. Гаврош почувствовал, как его мальчишеская душа прониклась жалостью к старику.
Что делать? Вмешаться? Это будет помощью одного слабосильного другому! Монпарнас бы только посмеялся. Гаврош был уверен, что этот страшный восемнадцатилетний бандит справится со стариком и ребенком в два счета.
Пока Гаврош раздумывал, нападение было совершено, внезапное и отвратительное. Нападение тигра на оленя, паука на муху. Монпарнас, неожиданно бросив розу, прыгнул на старика, схватил его за ворот, сжал руками и повис на нем. Гаврош едва удержался от крика. Мгновение спустя один из этих людей лежал под другим, придавленный, хрипящий, бьющийся; каменное колено упиралось ему в грудь. Но только произошло не совсем то, чего ожидал Гаврош. Лежавший на земле был Монпарнас; победителем был старик. Все это произошло в нескольких шагах от Гавроша.
Старик устоял на ногах и на удар ответил ударом с такой страшной силой, что нападающий и его жертва мгновенно поменялись ролями.
«Ай да старик!» – подумал Гаврош.
И, не удержавшись, захлопал в ладоши. Но его рукоплескания не были услышаны. Они не донеслись до слуха занятых борьбой и прерывисто дышавших противников, оглушенных друг другом.
Воцарилась тишина. Монпарнас перестал отбиваться. Гаврош подумал: «Уж не прикончил ли он его?».
Старик не произнес ни слова, ни разу не крикнул. Потом он выпрямился, и Гаврош услышал, как он сказал Монпарнасу:
– Вставай.
Монпарнас поднялся, но старик продолжал его держать. У Монпарнаса был униженный и разъяренный вид волка, пойманного овцой.
Гаврош смотрел и слушал во все глаза и во все уши. Он забавлялся от души.
Он был вознагражден за свое добросовестное беспокойство зрителя. До него долетел следующий разговор, приобретавший в ночной тьме какой-то трагический оттенок. Старик спрашивал, Монпарнас отвечал.
– Сколько тебе лет?
– Девятнадцать.
– Ты силен и здоров. Почему ты не работаешь?
– Ну, это скучно.
– Чем же ты занимаешься?
– Бездельничаю.
– Говори серьезно. Можно ли сделать что-нибудь для тебя? Кем бы ты хотел быть?
– Вором.
Воцарилось молчание. Казалось, старик глубоко задумался. Он стоял неподвижно, не выпуская, однако, Монпарнаса.
Время от времени молодой бандит, сильный и ловкий, делал внезапные движения животного, пойманного в капкан. Он вырывался, пытался дать подножку, бешено извивался всем телом, стараясь ускользнуть. Старик, казалось, этого не замечал, держа обе его руки в одной своей с властным спокойствием беспредельной силы.
Задумчивость старика длилась несколько минут, потом, пристально взглянув на Монпарнаса, он слегка повысил голос и среди обступившей их тьмы обратился к нему с чем-то вроде торжественной речи, которую Гаврош выслушал, не проронив ни звука:
– Дитя мое, из-за своей лени ты начинаешь самое тяжкое существование. Ты объявляешь себя бездельником? Так готовься же работать! Видел ли ты одну страшную машину? Она называется прокатным станом. Следует ее остерегаться – она кровожадна и коварна; стоит ей только схватить человека за полу платья, как он весь будет втянут в нее. Праздность подобна этой машине. Остановись, пока еще есть время, и спасайся! Иначе конец; ты не успеешь оглянуться, как попадешь в шестерню. И раз ты пойман, не надейся больше ни на что. За работу, лентяй! Отдых кончился. Железная рука неумолимого труда схватила тебя. Зарабатывать на жизнь, делать свое дело, выполнять свой долг – ты этого не хочешь? Жить как другие тебе скучно? Ну так вот! Ты будешь жить иначе. Работа – закон; кто отказывается от нее, видя в ней скуку, узнает ее как мучительное наказание. Ты не хочешь быть тружеником, так станешь рабом. Труд если и отпускает нас, то только для того, чтобы снова схватить, но уже по-иному; ты не хочешь быть его другом, так будешь его невольником. Ты не хотел честной человеческой усталости, так будешь обливаться потом грешника в преисподней! Когда другие будут петь, ты будешь хрипеть. Ты увидишь издали, снизу, как другие работают, и тебе покажется, что они отдыхают. Пахарь, жнец, матрос, кузнец явятся тебе, залитые светом, подобно блаженным в раю. Что за свет излучает наковальня! Вести плуг, вязать снопы – какое наслаждение! Барка на свободе под ветром – ведь это праздник! А ты, лентяй, работай киркой, таскай, ворочай, двигайся! Плетись в своем ярме, ты уже стал вьючным животным в адской запряжке! Ничего не делать – это твоя цель? Ну так вот! Ни одной недели, ни одного дня, ни одного часа без чувства изнеможения. Поднять что-нибудь станет для тебя мукой. Каждая минута заставит трещать твои мускулы. То, что для других будет легким, как перышко, для тебя будет каменной глыбой. Вещи самые простые обернутся крутым откосом. Жизнь станет чудовищной для тебя. Ходить, двигаться, дышать – какая ужасная работа! Твои легкие будут казаться тебе стофунтовой тяжестью. Здесь ли пройти или там – станет для тебя трудноразрешимой задачей. Любой человек, желающий выйти из дому, отворяет дверь, и готово – он на улице. Для тебя же выйти из дому – значит пробуравить стену. Чтобы очутиться на улице, что обычно делают? Спускаются по лестнице; ты же разорвешь простыни, совьешь полоска за полоской веревку, потом ты вылезешь в окно и на этой нити повиснешь над пропастью, – и это будет ночью, в дождь, в бурю, в ураган; если же веревка окажется слишком короткой, у тебя останется только один способ спуститься – упасть. Упасть как придется. Или же тебе придется карабкаться в дымовой трубе, рискуя сгореть, или ползти по стокам отхожих мест, рискуя там утонуть. Я уж не говорю о дырах, которые нужно маскировать, о камнях, которые нужно вынимать и снова вставлять по двадцать раз в день, о штукатурке, которую нужно прятать в своем тюфяке. Допустим, перед тобой замок, у горожанина в кармане есть ключ, изготовленный слесарем. А ты, если захочешь обойтись без ключа, будешь обречен на изготовление страшной и диковинной вещи. Ты возьмешь монету в два су и разрежешь ее на две пластинки. При помощи каких инструментов? Ты их изобретешь. Это уж твоя забота. Потом ты выскоблишь внутри эти две пластинки, стараясь не попортить наружной их поверхности, и нарежешь их винтом так, чтобы они плотно скреплялись друг с другом, как дно и крышка. Свинченные таким образом, они ничем себя не выдадут. Для надзирателей, – ведь за тобой будут следить, – это просто монета в два су, для тебя – ящичек. Что же ты спрячешь в него? Маленький кусочек стали. Часовую пружинку, на которой ты сделаешь зубцы и которая превратится в пилочку. Этой пилочкой, длиной с булавку и спрятанной в твою монету, ты должен будешь перепилить замочный язычок и задвижку, дужку висячего замка, перекладину в твоем окне и железное кольцо на твоей ноге. Изготовив этот изумительный, дивный инструмент, свершив все эти чудеса искусства, ловкости, сноровки, терпения, что ты получишь в награду, если обнаружат твое изобретение? Карцер. Вот твое будущее. Лень, удовольствие – да ведь это бездонный омут! Ничего не делать – печальное решение, знаешь ли ты об этом? Жить праздно за счет общества! Быть бесполезным, то есть вредным! Это ведет прямо в глубь нищеты. Горе тому, кто хочет быть тунеядцем! Он станет отвратительным червем. А, тебе не нравится работать? У тебя только одна мысль – хорошо попить, хорошо поесть, хорошо поспать? Так ты будешь пить воду, ты будешь есть черный хлеб, ты будешь спать на досках, в железных цепях, сковывающих твое тело, и ночью будешь ощущать их холод. Ты разобьешь эти цепи, ты убежишь? Отлично. Ты поползешь на животе в кусты, и ты будешь есть траву, как звери лесные. И ты будешь пойман. И тогда ты проведешь целые годы в подземной тюрьме, прикованный к стене, нащупывая кружку, чтобы напиться, будешь грызть ужасный тюремный хлеб, от которого отказались бы даже собаки, и будешь есть бобы, изъеденные до тебя червями. Ты станешь мокрицей, живущей в погребе. Пожалей же себя, несчастное дитя, ведь ты еще совсем молод, не прошло и двадцати лет с тех пор, как ты лежал у груди кормилицы; наверно, и мать у тебя еще жива! Заклинаю тебя, послушайся меня. Ты хочешь платья из тонкого черного сукна, лакированных туфель, завитых волос, ты хочешь умащать свои кудри душистым маслом, нравиться женщинам, быть красивым? Так ты будешь обрит наголо, одет в красную куртку и деревянные башмаки. Ты хочешь носить перстни – на тебя наденут ошейник. Если ты взглянешь на женщину – получишь удар палкой. Ты войдешь в тюрьму двадцатилетним юношей, а выйдешь пятидесятилетним стариком! Ты войдешь туда молодой, румяный, свежий, у тебя сверкающие глаза, прекрасные зубы, великолепные волосы, а выйдешь согнувшийся, разбитый, морщинистый, беззубый, страшный, седой! О бедное мое дитя, ты на ложном пути, безделье подает тебе дурной совет! Воровство – самая тяжелая работа! Поверь мне, не бери на себя этот мучительный труд – лень. Быть мошенником нелегко. Гораздо легче быть честным человеком. А теперь иди и подумай о том, что я тебе сказал. Кстати, чего ты хотел от меня? Тебе нужен мой кошелек? На, бери.
И старик, выпустив Монпарнаса, положил ему в руку кошелек. Монпарнас сразу взвесил его на руке и с привычной осторожностью, как если бы он украл его, тихонько опустил в задний карман своего сюртука.
Затем старик повернулся и спокойно продолжал прогулку.
– Дуралей! – пробормотал Монпарнас.
Кто был этот добрый старик? Читатель, без сомнения, догадался.
Озадаченный Монпарнас смотрел, как он исчезал в сумерках. Эти минуты созерцания были для него роковыми.
В то время как старик удалялся, Гаврош приближался.
Бросив искоса взгляд на изгородь, Гаврош убедился, что дедушка Мабеф, по-видимому задремавший, все еще сидит на скамье. Тогда мальчишка вылез из кустов и потихоньку пополз к Монпарнасу, который стоял к нему спиной. Невидимый во тьме, он неслышно подкрался к нему, осторожно засунул руку в задний карман его черного изящного сюртука, схватил кошелек, вытащил руку и снова пополз обратно, как уж, ускользающий в темноте. Монпарнас, не имевший никаких оснований остерегаться и задумавшийся в первый раз в жизни, ничего не заметил. Гаврош, вернувшись к тому месту, где сидел дедушка Мабеф, перекинул кошелек через изгородь и пустился бежать со всех ног.
Кошелек упал на ногу дедушки Мабефа. Это его разбудило. Он наклонился и поднял кошелек. Ничего не понимая, он открыл его. То был кошелек с двумя отделениями; в одном лежало немного мелочи, в другом – шесть золотых монет.
Господин Мабеф, совсем растерявшись, отнес находку своей домоправительнице.
– Это упало с неба, – сказала тетушка Плутарх.
Книга пятая, Конец которой не сходен с началом.
Глава 1. Уединенность в сочетании с казармой.
Горе Козетты, такое острое, такое тяжкое четыре или пять месяцев тому назад, неведомо для нее начало утихать. Природа, весна, молодость, любовь к отцу, ликование птиц и цветов заставили мало-помалу, день за днем, капля за каплей, просочиться в эту столь юную и девственную душу нечто, походившее на забвение. Действительно ли огонь в ней погасал или же только покрывался слоем пепла? Во всяком случае, она почти не ощущала того, что прежде жгло ее и мучило.
Однажды она вдруг вспомнила Мариуса. «Как странно, – сказала она, – я больше о нем не думаю».
На той же неделе, проходя мимо садовой решетки, она заметила блестящего уланского офицера, в восхитительном мундире, с осиной талией, девическими щечками, с саблей на боку, нафабренными усами, блестящим кивером и сигарой в зубах. Вдобавок у него были белокурые волосы, голубые глаза навыкате, круглое, пустое, красивое и наглое лицо – полная противоположность Мариусу. Козетта подумала, что этот офицер, наверное, из полка, размещенного в казармах на Вавилонской улице.
На следующий день она увидела его снова. Она запомнила час.
Начиная с этого момента, – была ли это только случайность? – она видела, как он проходил мимо почти каждый день.
Приятели офицера заметили, что в этом «запущенном» саду, за этой ржавой решеткой в стиле рококо, почти всегда обретается некое довольно миловидное создание в те часы, когда мимо проходит красавец лейтенант, небезызвестный читателю Теодюль Жильнорман.
– Послушай-ка, – говорили они ему, – тут есть малютка, которая умильно на тебя поглядывает, обрати на нее внимание!
– Вот еще! Стану я обращать внимание на всех девчонок, которые на меня поглядывают! – отвечал улан.
Это было как раз в то время, когда Мариус был уже по-настоящему близок к агонии и повторял: «Только бы снова увидеть ее перед смертью!» Если бы его желание осуществилось и он увидел Козетту, поглядывавшую на улана, он, не произнеся ни слова, умер бы с горя. Кто был бы в этом виноват? Никто. Мариус принадлежал к числу людей, которые, погрузившись в печаль, в ней и пребывают; Козетта – к числу тех, которые, окунувшись в нее, выплывают наверх.
Кроме того, Козетта переживала то опасное время, то роковое состояние предоставленной самой себе мечтательной женской души, когда сердце молодой одинокой девушки походит на усики виноградной лозы, цепляющейся по прихоти случая за капитель мраморной колонны или за стойку кабачка. Это быстролетное и решающее время опасно для всякой сироты, бедна она или богата, потому что богатство не защищает от дурного выбора: вступают в неравный брак и в высшем обществе; подлинное неравенство в браке – это неравенство душ. Молодой человек, безвестный, без имени, без состояния, может оказаться мраморной колонной, поддерживающей храм великих чувств и великих идей, а какой-нибудь светский человек, богатый и самодовольный, щеголяющий начищенными сапогами и лакированными словами, если его рассмотреть не извне, а изнутри, что выпадает на долю только его жены, оказывается полным ничтожеством, подверженным свирепым, гнусным и пьяным страстям, – настоящей кабацкой стойкой.
Что же таилось в душе Козетты? Утихшая или заснувшая страсть; витавшая ли там любовь; нечто прозрачное, сверкающее, но замутненное на некоторой глубине и темное на дне? Образ красивого офицера отражался на поверхности этой души. Было ли там, в глуби ее, какое-то воспоминание? В самой глуби? Быть может. Козетта не знала.
Вдруг произошел странный случай.
Глава 2. Страхи Козетты.
В первой половине апреля Жан Вальжан куда-то уехал. Как известно, ему случалось уезжать иногда, хоть и через значительные промежутки времени. Он отсутствовал день или два, самое большее. Куда он отправлялся? Никто этого не знал, даже Козетта. Только раз, в один из этих отъездов, она провожала его в фиакре до маленького глухого переулка, на углу которого можно было прочитать: «Дровяной тупик». Там он сошел, и фиакр отвез Козетту обратно на Вавилонскую улицу. Обычно Жан Вальжан предпринимал эти маленькие путешествия, когда в доме не оставалось денег.
Итак, Жан Вальжан был в отсутствии. Уезжая, он сказал: «Я вернусь через три дня».
Вечером Козетта была одна в гостиной. Чтобы развлечься, она открыла фисгармонию и начала петь, аккомпанируя себе, «В лесу заблудились охотники…» – хор из «Эврианты», быть может, самое прекрасное из всех музыкальных произведений. Окончив, она задумалась.
Внезапно послышались чьи-то шаги в саду.
Это не мог быть ее отец, он отсутствовал. Это не могла быть Тусен, она спала. Было десять часов вечера.
Она подошла к окну гостиной, закрытому внутренней ставней, и приникла к ней ухом.
Ей показалось, что это мужские шаги и что ходят очень осторожно.
Она быстро поднялась на второй этаж, в свою комнату, открыла прорезанную в ставне форточку и выглянула в сад. Стояло полнолуние. Было светло, как днем.
В саду никого не оказалось.
Она открыла окно. В саду было спокойно, а на улице, насколько удавалось разглядеть, – пустынно, как всегда.
Козетта подумала, что ошиблась, очевидно, ей только показалось, что она слышала шум. Это была галлюцинация, вызванная чудесным и мрачным хором Вебера, который открывает духу пугающие неведомые глубины и трепещет перед вами, подобно дремучему лесу, – хором, где слышится потрескивание сухих веток под торопливыми шагами скрывающихся в сумраке охотников. Она перестала об этом думать…
Впрочем, по натуре Козетта не была слишком робкой. В ее жилах текла кровь простолюдинки, босоногой искательницы приключений. Припомним, что она более походила на жаворонка, чем на голубку. В основе ее характера лежали нелюдимость и смелость.
На другой день вечером, но пораньше, когда еще только стало темнеть, она гуляла в саду. Среди смутных мыслей, занимавших ее, ей казалось, что время от времени она ясно различает шум, подобный вчерашнему, словно кто-то ходил в темноте под деревьями, не очень далеко от нее. Но она подумала, что ничто так не напоминает шаги человека в траве, как шорох двух качающихся веток, задевающих друг друга, и не встревожилась. Впрочем, она ничего и не видела.
Она вышла из «заросли»; ей оставалось лишь пересечь маленькую зеленую лужайку, чтобы дойти до крыльца. Когда Козетта направилась к дому, луна, всходившая позади, отбросила ее тень на эту лужайку.
Козетта остановилась в испуге.
Рядом с ее тенью луна отчетливо вырисовывала на траве другую тень, внушившую ей особенный страх и ужас, – тень в круглой шляпе.
Казалось, это была тень человека, стоявшего на опушке зарослей кустарника, в двух-трех шагах от Козетты.
Несколько мгновений она не могла ни заговорить, ни крикнуть, ни позвать, ни пошевельнуться, ни повернуть голову.
Наконец она собралась с духом и решительно оглянулась.
Никого не было.
Она посмотрела на землю. Тень исчезла.
Она снова вернулась в заросли кустарника, смело обыскала все углы, дошла до решетки и ничего не обнаружила.
Она вся похолодела. Неужели это новая галлюцинация? Может ли быть? Два дня подряд! Одна галлюцинация – это еще куда ни шло, но две галлюцинации? Особенно тревожило ее то, что тень, безусловно, не была привидением. Привидения никогда не носят круглых шляп.
На следующий день Жан Вальжан возвратился. Козетта рассказала ему все, что ей прислышалось и привиделось. Она ожидала, что отец ее успокоит и, пожав плечами, скажет: «Ты маленькая дурочка».
Но Жан Вальжан задумался.
– Тут что-нибудь да есть, – сказал он.
Под каким-то предлогом он оставил ее и отправился в сад, и она заметила, что он очень внимательно осматривал решетку.
Ночью она проснулась; на этот раз она ясно услышала, что кто-то ходит возле крыльца под ее окном. Она подбежала к форточке и открыла ее. В саду на самом деле был какой-то человек с большой палкой в руке. Она уже собралась крикнуть, как вдруг луна осветила профиль этого человека. То был ее отец.
Она снова улеглась, подумав: «Значит, он очень встревожен!».
Жан Вальжан провел в саду эту ночь и две следующие ночи. Козетта видела его в щель ставни.
На третью ночь убывающая луна начала подниматься позже, и, возможно, был уже час ночи, когда она услышала взрыв громкого хохота и голос отца, который звал ее:
– Козетта!
Она вскочила с постели, надела капот и открыла окно.
Ее отец стоял внизу, на лужайке.
– Я разбудил тебя, чтобы ты успокоилась, – сказал он, – смотри. Вот твой призрак в круглой шляпе.
И он показал ей лежащую на траве длинную тень, обрисованную луной, действительно очень похожую на силуэт человека в круглой шляпе. Это была тень железной печной трубы с колпаком, возвышавшейся над соседней крышей.
Козетта тоже рассмеялась, все ее мрачные предположения исчезли, и на следующий день, завтракая с отцом, она потешалась над этим зловещим садом, который посещали призраки печных труб.
К Жану Вальжану вернулось его спокойствие; что же до Козетты, то она даже хорошенько не приметила, могла ли печная труба отбрасывать свою тень туда, где она ее видела или думала, что видит, и находилась ли луна в той же точке неба. Она не задалась вопросом относительно странного поведения печной трубы, боявшейся быть захваченной с поличным и скрывшейся при взгляде на ее тень, ибо тень исчезла, как только Козетта обернулась, – Козетта была в этом уверена. Однако она успокоилась совершенно. Доказательство отца показалось ей неоспоримым, и мысль о том, что кто-то вечером или ночью мог ходить по саду, оставила ее.
Но через несколько дней случилось новое происшествие.
Глава 3, Обогащенная комментариями Тусен.
В саду, возле решетки, выходившей на улицу, стояла каменная скамья, скрытая от взглядов любопытных ветвями граба, тем не менее при желании прохожий мог дотянуться до нее рукой через решетку и ветви.
Как-то вечером, в том же апреле месяце, Жана Вальжана не было дома, и Козетта после заката солнца пришла посидеть на этой скамье. Свежий ветер шумел в деревьях. Козетта задумалась, беспредметная печаль мало-помалу овладела ею – та непреодолимая печаль, которую приносит вечер и которую, быть может, навевает приоткрывшая себя в этот час загробная тайна.
Как знать, не присутствовала ли здесь Фантина, скрытая в этой вечерней тьме?
Козетта встала, медленно обошла сад, ступая по росистой траве, и, несмотря на меланхолический сон наяву, в который она погрузилась, все же промолвила про себя: «Чтобы ходить по саду в это время, непременно нужны деревянные башмаки. А то можно простудиться».
Она снова направилась к скамье.
Опускаясь на нее, она заметила на том месте, где раньше сидела, довольно большой камень, которого там, несомненно, не было за несколько мгновений до этого.
Козетта смотрела на камень, спрашивая себя: что это может означать? Внезапно в ней возникла мысль, испугавшая ее, – мысль о том, что этот камень появился на скамье не сам собой, что кто-то положил его сюда, что чья-то рука дотянулась сюда сквозь прутья решетки. На этот раз страх имел основания; камень был налицо. Сомнений не оставалось; даже не прикоснувшись к нему, она убежала, боясь оглянуться, влетела в дом и тотчас закрыла на ставень, на замок и засов стеклянную входную дверь.
– Отец вернулся? – спросила она Тусен.
– Нет еще, барышня.
(Мы как-то уже указали на заикание Тусен. Да будет позволено нам больше его не отмечать. Нам претит звуковое изображение прирожденного недостатка.).
Жан Вальжан, склонный к задумчивости, любил ночные прогулки и часто возвращался довольно поздно.
– Тусен, – продолжала Козетта, – хорошо ли вы запираете ставни на болты, хотя бы в сад? Закладываете ли вы в петли железные клинышки?
– О, будьте спокойны, барышня.
Тусен делала все добросовестно, и хотя Козетта хорошо знала об этом, все же она не могла не прибавить:
– Ведь здесь так пустынно вокруг!
– Вот уж правда, барышня, – подхватила Тусен. – Убьют, и пикнуть не успеешь! А наш хозяин еще и дома не ночует. Но не бойтесь ничего, барышня, я запираю окна все равно как в крепости. Одни женщины в доме! Ну как тут не дрожать от страха! Только подумать! Вдруг ночью к тебе в комнату ввалятся мужчины, прикажут «молчи» и начнут полосовать тебе горло… И не так уж боишься смерти, все умирают, ничего тут не поделаешь, ведь все равно когда-нибудь помрешь, но, поди, противно чувствовать, как эти люди берутся за тебя. А потом, наверно, и ножи у них тупые! О господи!
– Полно вам, – сказала Козетта. – Заприте все хорошенько.
Козетта, испуганная мелодрамой, выдуманной Тусен, а быть может, и ожившим в ней воспоминанием о привидении прошлой недели, даже не посмела сказать: «Ступайте же, посмотрите, там кто-то положил камень на скамью!» Она боялась открыть двери в сад из страха перед тем, как бы «мужчины» не вошли в дом. Она приказала тщательно запереть двери и окна, заставила Тусен обойти весь дом от погреба до чердака, заперла дверь в своей комнате, посмотрела под кроватью и легла спать, но спала плохо. Всю ночь ей мерещился камень, огромный, как гора, и весь изрытый пещерами.
Утром, когда взошло солнце, – а восходящему солнцу свойственно вызывать у нас смех над всеми ночными страхами, и смех этот тем радостнее, чем сильнее испытанный нами страх, – Козетта, проснувшись, ощутила свой ужас, как мучительный сон. «Что это мне привиделось? – сказала она себе. – Вот и на прошлой неделе померещились мне ночью шаги в саду! А потом я испугалась тени печной трубы! Неужели я стала трусихой?» Яркое солнце, пробившееся сквозь щели ставен и окрасившее пурпуром шелковые занавеси, настолько ободрило ее, что все эти ужасы померкли в ее воображении, даже камень.
«Никакого камня нет на скамейке, как не было и человека в круглой шляпе в саду, – решила она. – Мне приснился этот камень, как и все остальное».
Она оделась, спустилась в сад, подбежала к скамье и облилась холодным потом. Камень был там.
Но это длилось одно мгновение. То, что пугает ночью, днем возбуждает любопытство.
«Какой вздор! – сказала она себе. – Ну-ка посмотрим, что тут такое!».
Она приподняла камень, оказавшийся довольно тяжелым. Под ним лежало что-то похожее на письмо.
Это был конверт из белой бумаги. Козетта схватила его. На нем не было ни адреса, ни печати на обратной стороне. Тем не менее конверт, хотя и незаклеенный, не был пуст. Внутри лежали какие-то бумаги.
Козетта открыла его. Теперь ею уже владели не страх и не любопытство, а тревога.
Она вынула из конверта маленькую тетрадь, где каждая страница была пронумерована и заключала несколько строк, написанных довольно красивым, как подумала Козетта, и очень мелким почерком.
Козетта стала искать имя – его не было; подпись – ее не было. Кому это адресовано? Вероятно, ей, так как чья-то рука положила пакет на ее скамью. От кого бы это? Она почувствовала себя во власти каких-то непреодолимых чар, она попыталась отвести глаза от этих листков, трепетавших в ее руке, взглянула на небо, на улицу, на акации, залитые светом, на голубей, летавших над соседней кровлей, потом вдруг взор ее упал на рукопись, и она подумала, что должна узнать, о чем там написано. Вот что она прочла.
Глава 4. Сердце под камнем.
Сосредоточение вселенной в одном существе, претворение одного существа в божество – вот любовь.
Любовь – это приветствие, которое ангелы шлют звездам.
Как печальна душа, когда она опечалена любовью!
Как пусто вокруг, когда нет рядом существа, которое одним собою заполняет весь мир! Как верно, что любимое существо становится богом! Как понятно, что бог возревновал бы, если бы он, отец всего сущего, не создал, а это очевидно, вселенную для души, а душу для любви.
Достаточно одной улыбки из-под белой креповой шляпки с лиловым бантом, чтобы душа вступила в чертог мечты.
Бог за всем, но все скрывает бога. Вещи темны, живые творения непроницаемы. Любить живое существо – значит проникнуть в его душу.
Некоторые мысли – те же молитвы. Есть мгновения, когда душа, независимо от положения тела, – на коленях.
Разлученные возлюбленные обманывают разлуку тысячью химер, которые, однако, по-своему реальны. Им не дают видеться, они не могут переписываться; тогда они находят множество таинственных средств общения. Они посылают друг другу пение птиц, аромат цветов, детский смех, солнечный свет, вздохи ветра, звездные лучи, весь мир. Почему же нет? Все творения божии созданы служить любви. Любовь достаточно могущественна, чтобы обязать всю природу передавать свои послания. О весна! Ты – письмо, которое я ей пишу.
Будущее в гораздо большей степени принадлежит сердцу, нежели уму. Любить – вот то единственное, что может завладеть вечностью и наполнить ее. Бесконечное требует неисчерпаемого.
В любви есть что-то от самой души. Она той же природы. Подобно душе, она – божественная искра, подобно душе, она неуязвима, неделима, неистребима. Это огненное средоточие, бессмертное и бесконечное, которое ничто не может ограничить и ничто не может в нас погасить. Чувствуешь его жар, пронизывающий до мозга костей, и видишь его сияние, достигающее самой глуби небес.
О любовь! Обожание! Наслаждение двух душ, понимающих друг друга, двух сердец, отдающихся друг другу, двух взглядов, проникающих друг в друга! Ведь ты придешь, не правда ли, о счастье? Одинокие прогулки вдвоем! Дни благословенные и лучезарные! Иногда мне грезилось, что время от времени от жизни ангелов отделяются мгновения и спускаются сюда на землю, чтобы пронестись сквозь человеческую судьбу.
Бог ничего не может прибавить к счастью тех, кто любит друг друга, кроме бесконечной длительности этого счастья. После жизни, полной любви, – вечность, полная любви; это действительно продление ее; но увеличить саму силу невыразимого счастья, которое любовь дает душе в этом мире, невозможно даже для бога. Бог – это полнота неба; любовь – это полнота человеческого существа.
Мы смотрим на звезду по двум причинам: потому, что она излучает свет, и потому, что она непостижима. Но возле нас есть еще более нежное сияние и еще более великая тайна – женщина!
У всех нас, кто бы мы ни были, есть существо, которым мы дышим. Лишенные его, мы лишены воздуха, мы задыхаемся. И тогда – смерть. Умереть из-за отсутствия любви – ужасно. Это смерть от удушья.
Когда любовь соединила и слила два существа в небесное и священное единство, тайна жизни найдена ими; теперь они лишь две грани единой судьбы; теперь они лишь два крыла единого духа. Любите, парите!
В тот день, когда вам покажется, что от проходящей мимо вас женщины исходит свет, вы погибли, вы любите. Тогда вам остается только одно: думать о ней так неотступно, что она будет принуждена думать о вас.
То, что начинает любовь, может быть завершено только богом.
Истинная любовь приходит в отчаяние или в восхищение из-за потерянной перчатки или найденного носового платка и нуждается в вечности для своего самоотвержения и своих надежд. Любовь слагается одновременно из бесконечно великого и из бесконечно малого.
Если вы камень – будьте магнитом; если вы растение – будьте мимозой, если вы человек – будьте любовью.
Ничем не удовлетворяется любовь. Человек обрел счастье – он хочет рая; он обрел рай – он хочет неба.
О, любящие друг друга, все это заключает в себе любовь. Умейте лишь найти это в ней. У любви есть то же, что у неба, – созерцание, и больше, чем у неба, – наслаждение.
– Бывает ли она еще в Люксембургском саду? – Нет, сударь. – Она ходит к мессе в эту церковь, не правда ли? – Она больше в нее не ходит. – Она по-прежнему живет в этом доме? – Она переехала. – Где же она теперь живет? – Она не сказала.
Как безотрадно не знать адреса своей души!
Любви свойственна ребячливость, другим страстям – мелкость. Позор страстям, делающим человека мелким! Честь той, которая превращает его в ребенка!
Как странно! Знаете? Я – во тьме. Одно существо, уходя, унесло с собою небо.
О, лежать рядом, бок о бок, в одной гробнице и время от времени во мраке тихонько касаться пальцев друг друга – этого было бы достаточно мне на целую вечность!
Вы, страдающие, потому что любите, любите еще сильней. Умирать от любви – значит жить ею.
Любите. Непостижимое мерцающее звездами преображение соединено с этой мукой. В агонии есть упоение.
О, радость птиц! У них есть песни, потому что у них есть гнезда.
Любовь – божественное вдыхание воздуха рая.
Глубокие сердца, мудрые умы, берите жизнь такой, какой ее создал бог; это длительное испытание, непонятное приготовление к неведомой судьбе. Эта судьба – истинная судьба – открывается перед человеком на первой ступени, ведущей внутрь гробницы. Тогда нечто предстает ему, и он начинает различать конечное. Конечное! Вдумайтесь в это слово. Живые видят бесконечное; конечное зримо только мертвым. В ожидании любите и страдайте, надейтесь и созерцайте. Увы, горе тому, кто любил только тела, формы, видимость! Смерть отнимет у него все. Старайтесь любить души, и вы найдете их вновь.
Я встретил на улице молодого человека, очень бедного и влюбленного. Он был в поношенной шляпе, в потертой одежде; у него были дыры на локтях; вода проникала в его башмаки, а звездные лучи – в его душу.
Какое великое дело быть любимым! И еще более великое – любить! Сердце становится героическим силою страсти. Оно хранит в себе лишь то, что чисто; оно опирается лишь на то, что возвышенно и велико. Недостойная мысль уже не может в нем пустить росток, как не может прорасти крапива на льду. Душа, высокая и ясная, недоступна для грубых чувств и страстей; вознесясь над облаками и тенями земного мира, над безумствами, ложью, ненавистью, тщеславием, суетой, она живет в небесной синеве и ощущает лишь глубинные, скрытые колебания судьбы; так горные вершины ощущают подземные толчки.
Не найдись на свете хоть один любящий, солнце угасло бы.
Глава 5. Козетта после письма.
Читая, Козетта мало-помалу погружалась в мечтательную задумчивость. Как раз в ту минуту, когда она подняла глаза от последней строки, красивый офицер – это было время его обычного появления – победоносно прошествовал мимо решетки. Козетта нашла его отвратительным.
Она снова принялась созерцать тетрадку. Почерк записей показался Козетте восхитительным; они были сделаны одной и той же рукой, но разными чернилами, иногда бледноватыми, иногда густо черными, как бывает, когда в чернильницу подливают чернила, – следовательно, они сделаны были в разные дни. Значит, это была мысль, изливавшаяся там, вздох за вздохом, беспорядочно, неровно, без выбора, без цели, случайно. Козетта никогда не читала ничего подобного. Эта рукопись, в которой для нее было больше сияния, чем тьмы, действовала на нее, как приоткрывшееся перед ней святилище. Ей казалось, что каждая из этих таинственных строк сверкает, заливая ее сердце странным светом. Полученное ею воспитание всегда твердило ей о душе и никогда – о любви; так можно говорить о костре, не упоминая о пламени. Эта рукопись в пятнадцать страниц внезапно и мягко открыла ей всю любовь, скорбь, судьбу, жизнь, вечность, начало, конец. Словно чья-то рука разжалась и бросила ей вдруг пригоршню лучей. Она почувствовала в этих нескольких строках страстную, пылкую, великодушную, честную натуру, твердую волю, бесконечную скорбь и бесконечную надежду, страдающее сердце, пылкий восторг. Что собой представляла эта рукопись? Письмо. Письмо без адреса, без имени, без числа, без подписи, настойчивое и ничего не требующее, загадка, составленная из истин, весть любви, достойная быть принесенной ангелом и прочитанной девственницей, свидание, состоявшееся вне земных пределов, любовная записка от призрака к тени. Это был некто отсутствующий, изнемогший и смиренный, казалось, готовый скрыться в обитель смерти и посылавший той, которая ушла, тайну судьбы, ключ к жизни, любовь. Это было написано на краю могилы, со взором, поднятым к небу. Эти строки, оброненные одна за другой на бумагу, могли быть названы каплями души.
Но от кого могли быть эти страницы? Кто мог их написать?
Козетта не колебалась ни одного мгновения. Только один человек.
Он!
Душа ее вновь озарилась светом. Все ожило в ней. Она испытывала небывалую радость и глубокую тревогу. То был он! Он писал ей! Он был здесь! Его рука проникла сквозь решетку! Она уже стала забывать о нем, а он снова разыскал ее! Но разве она его забыла? Нет, никогда! Она сошла с ума, если могла на мгновение этому поверить. Она всегда любила его, всегда обожала. Огонь в ней подернулся пеплом и некоторое время тлел внутри, но – она ясно это видела – он успел пробраться еще глубже и теперь, вспыхнув снова, охватил ее всю целиком. Эта тетрадь была как бы искрой, упавшей из другой души в ее душу. Она чувствовала, как разгорается пожар. Она впитывала в себя каждое слово рукописи. «О да! – говорила она. – Как мне знакомо все это. Я уже раньше прочитала все в его глазах».
Когда она в третий раз кончала чтение тетради, лейтенант Теодюль снова возник перед решеткой, позванивая шпорами по мостовой. Это заставило Козетту взглянуть на него. Она нашла его бесцветным, нелепым, глупым, никчемным, пошлым, отталкивающим, наглым и очень безобразным. Офицер счел долгом улыбнуться. Она отвернулась, пристыженная и негодующая. С удовольствием швырнула бы она ему чем-нибудь в голову.
Она убежала и, войдя в дом, заперлась в своей комнате, чтобы еще раз прочитать рукопись, выучить ее наизусть и помечтать. Хорошенько перечитав тетрадь, она поцеловала ее и спрятала у себя на груди.
Итак, свершилось. Козетта снова предалась глубокой ангельски-чистой любви. Райская бездна снова открылась перед ней.
Весь день Козетта провела в каком-то чаду. Она почти не в состоянии была думать, ее мысли походили на спутанный клубок, она терялась в догадках; объятая трепетом, она таила надежду. На что? На что-то неясное. Она не осмеливалась ничего обещать себе и не хотела ни от чего отказываться. Лицо ее то и дело бледнело, по всему телу пробегала дрожь. Мгновениями ей казалось, что она начинает бредить; она спрашивала себя: «Неужели это правда?» И тогда она дотрагивалась до скрытой под платьем драгоценной тетради, прижимала ее к сердцу, чувствовала ее прикосновение к телу, и если бы Жан Вальжан видел ее в это время, он содрогнулся бы, глядя на неведомую лучезарную радость, изливавшуюся из ее глаз. «О да, – думала она, – это, наверное, он! Это он написал для меня».
И она твердила себе, что он возвращен ей благодаря вмешательству ангелов, благодаря божественной случайности.
О, превращения любви! О, мечты! Этой божественной случайностью, этим вмешательством ангелов был хлебный шарик, переброшенный одним вором другому со двора Шарлемань во Львиный ров через крыши тюрьмы Форс.
Глава 6. Старики существуют, чтобы вовремя уходить из дома.
С наступлением вечера, когда Жан Вальжан ушел, Козетта нарядилась. Она причесалась к лицу и надела платье с вырезанным несколько глубже обычного корсажем, приоткрывавшим шею и плечи и поэтому, как говорили молодые девушки, «немножко неприличным». Это ни в какой мере не было неприличным, но зато как нельзя более красивым. Она сама не знала, для чего так принарядилась.
Собиралась ли она выйти из дому? Нет.
Ожидала ли чьего-нибудь посещения? Нет.
В сумерках она спустилась в сад. Тусен была занята в кухне, выходившей окнами в задний дворик.
Она тихо бродила по аллеям, время от времени отстраняя рукой низко свисавшие ветви деревьев.
Так она дошла до скамьи.
Камень по-прежнему лежал на ней.
Она уселась и положила нежную белую руку на этот камень, точно желая его приласкать и поблагодарить.
Вдруг ею овладело то неопределимое чувство, которое испытывает человек, когда кто-нибудь, пусть даже не видимый им, стоит позади.
Она повернула голову и встала.
Это был он.
Он стоял с обнаженной головой. Он казался бледным и исхудавшим. Во тьме едва можно было различить его черную одежду. В сумерках белел его прекрасный лоб, тонули в тени глаза. Под дымкой необычайного умиротворения в нем было что-то от смерти и ночи. Свет угасавшего дня и мысль отлетавшей души озаряли его лицо.
Казалось, то был еще не призрак, но уже не человек.
Его шляпа лежала неподалеку на траве.
Козетта, готовая лишиться сознания, не вскрикнула. Она медленно отступала назад, потому что чувствовала, как ее влечет к нему. Он не шевельнулся. От него веяло чем-то неизреченным и печальным, и она чувствовала его взгляд, хотя глаз его не видела.
Отступая, Козетта встретила дерево и прислонилась к нему. Не будь этого дерева, она бы упала.
Тогда она услышала его голос, этот голос, которого она никогда еще не слыхала, чуть различимый в шелесте листьев и шептавший ей:
– Простите меня, я здесь. Сердце мое истосковалось, я не мог больше так жить, и вот я пришел сюда. Читали вы то, что я положил здесь на скамью? Узнаете ли вы меня? Не бойтесь. Помните ли тот день, когда вы на меня взглянули? С тех пор прошло так много времени. Это было в Люксембургском саду, возле статуи Гладиатора. И день, когда вы прошли мимо? То было шестнадцатого июня и второго июля. Почти год тому назад. Я не видел вас очень давно. Я спрашивал у женщины, сдающей стулья, и она мне сказала, что больше не видала вас. Вы жили в новом доме на Западной улице на третьем этаже, окнами на улицу, – видите, я знаю и это. Я провожал вас. Что же мне оставалось делать? И потом вы исчезли. Однажды, когда я читал газеты под аркадой Одеона, мне показалось, что вы прошли. Я побежал. Но нет. То была какая-то женщина в такой же шляпке, как у вас. Ночью я прихожу сюда. Не бойтесь, никто меня не видит. Я прихожу посмотреть на ваши окна вблизи. Я ступаю очень тихо, чтобы вы не услышали, потому что вы, может быть, испугались бы. Недавно вечером я стоял позади вас, но вы обернулись, и я убежал. Один раз я слышал, как вы пели. Я был счастлив. Ведь правда, вам не могло помешать то, что я слушал, когда вы пели в комнате? В этом нет ничего дурного. Правда, нет? Видите ли, вы – мой ангел. Позвольте мне изредка приходить; мне кажется, что я скоро умру. О, если бы вы знали! Я обожаю вас! Простите меня, я не знаю, что говорю вам. Быть может, вы сердитесь на меня? Скажите, вы рассердились?
– О, матушка! – промолвила она.
И, словно умирая, начала медленно склоняться долу.
Он ее подхватил, она не держалась на ногах, он обнял ее, он крепко сжал ее в объятиях, не сознавая, что делает. Он поддерживал ее, сам шатаясь. Его голова была как в чаду; перед глазами вспыхивали молнии, мысли исчезали куда-то; ему казалось, что он выполняет религиозный обряд и что он совершает святотатство. И все же у него не было никакого вожделения к этой пленительной женщине, которую он прижимал к груди. Он обезумел от любви.
Она взяла его руку и приложила к своему сердцу. Он почувствовал бумагу, спрятанную под платьем, и пролепетал:
– Так вы меня любите?
Она ответила так тихо, словно то был чуть слышный вздох:
– Молчи! Ты это знаешь!
И спрятала раскрасневшееся лицо на груди у гордого и опьяненного юноши.
Он опустился на скамью, она села возле него. Слов больше не было. В небе зажигались звезды. Как случилось, что их уста встретились? Как случается, что птица поет, что снег тает, что роза распускается, что май расцветает, что за черными деревьями на зябкой вершине холма загорается заря?
Один поцелуй – это было все.
Оба вздрогнули и посмотрели друг на друга сиявшими в темноте глазами.
Они не чувствовали ни свежести ночи, ни холодного камня, ни влажной земли, ни мокрой травы, они глядели друг на друга, и сердца их были полны воспоминаний. Они сами не заметили, как их руки сплелись.
Она его не спрашивала, она даже не думала о том, как он вошел сюда, как проник в сад. Ей казалось таким естественным, что он здесь!
Иногда колено Мариуса касалось колена Козетты, и они оба вздрагивали.
Время от времени Козетта что-то невнятно шептала. Казалось, на устах ее трепещет душа, подобно капле росы на цветке.
Мало-помалу они разговорились. За молчанием, которое означает полноту чувств, последовали излияния. Над ними простиралась ясная, блистающая звездами ночь. Эти два существа, чистые, как духи, поведали все свои сны, свои восторги, свои упоения, мечты, тоску, поведали о том, как они обожали друг друга издали, как они стремились друг к другу, как отчаивались, когда перестали видеться. Ощущая ту идеальную близость, которую ничто уже не могло сделать полнее, они поделились всем, что было у них самого тайного, самого сокровенного. Они рассказали с чистосердечной верой в свои иллюзии все, что любовь, юность и еще не изжитое детство вложили в их мысль. Эти два сердца излились друг в друга так, что через час юноша обладал душой девушки, а девушка – душой юноши. Они постигли, очаровали, ослепили друг друга.
Когда они сказали все, она положила голову на его плечо и спросила:
– Как вас зовут?
– Мариус. А вас?
– Козетта.
Книга шестая. Маленький Гаврош.
Глава 1. Злая шалость ветра.
С 1823 года, пока монфермейльская харчевня приходила в упадок и погружалась мало-помалу не столько в пучину разорения, сколько в помойную яму мелких долгов, супруги Тенардье обзавелись еще двумя детьми, двумя мальчиками. Всего их теперь было пятеро: две девочки и три мальчика. Это было много.
Тетка Тенардье отделалась от двух последних, совсем еще младенцев, с особым удовольствием.
Отделалась – подходящее слово. В этой женщине осталась лишь частица человеческой природы. Подобный феномен, впрочем, встречается не так редко. Как жена маршала де ла Мот-Гуданкур, Тенардье была матерью только для своих дочерей. Ее материнского чувства хватало лишь на них. С мальчиков же начиналась ее ненависть к человеческому роду. По отношению к сыновьям ее злоба достигала предела, и ее сердце вставало перед ними зловещей крутизной. Как мы уже видели, она питала отвращение к старшему и ненависть к обоим младшим. Почему? Потому. Самый страшный повод и самый неоспоримый ответ – это «потому». «Мне не нужна такая куча пискунов», – говорила мамаша.
Объясним, каким образом супругам Тенардье удалось избавиться от двух младших детей и даже извлечь из этого пользу.
Маньон – о ней речь шла выше – была та самая девица, которой удалось предоставить попечению добряка Жильнормана своих двух детей. Она жила на набережной Целестинцев, на углу старинной улицы Малая Кабарга, которая сделала все возможное, чтобы заменить свой дурной запах доброй славой. Все помнят сильную эпидемию крупа, опустошившую тридцать пять лет тому назад прибрежные кварталы Парижа; наука широко воспользовалась ею, чтобы проверить полезность вдувания квасцов, столь целесообразно замененного теперь наружным смазыванием йодом. Во время этой эпидемии Маньон потеряла в один день – одного утром, другого вечером – своих двух мальчиков, еще совсем малюток. То был удар. Дети были очень дороги своей матери; они представляли собой восемьдесят франков ежемесячного дохода. Эти восемьдесят франков аккуратно выплачивались от имени г-на Жильнормана его управляющим г-ном Баржем, отставным судебным приставом, проживавшим на улице Сицилийского короля. Со смертью детей на доходе надо было поставить крест. Маньон искала выхода из положения. В том темном братстве зла, членом которого она состояла, все знают обо всем, взаимно хранят тайны и помогают друг другу. Маньон нужно было найти двух детей. У Тенардье они оказались – того же пола, того же возраста. Выгодное дело для одной, выгодное помещение капитала для другой. Маленькие Тенардье стали маленькими Маньон. Маньон покинула набережную Целестинцев и переехала на улицу Клошперс. В Париже при переезде с одной улицы на другую тождественность личности исчезает.
Гражданская власть, не будучи ни о чем извещена, не возражала, и подмен детей был произведен легче легкого. Но Тенардье потребовал за своих детей, отданных на подержание, десять франков в месяц, которые Маньон обещала платить и даже выплачивала. Само собой разумеется, что г-н Жильнорман продолжал выполнять свои обязательства. Каждые полгода он навещал малышей. Он не заметил никакой перемены. «Как они похожи на вас, сударь!» – твердила ему Маньон.
Тенардье, для которого превращения были делом привычным, воспользовался этим случаем, чтобы стать Жондретом. Обе его дочери и Гаврош едва имели время заметить, что у них были два маленьких братца. На известной ступени нищеты человеком овладевает какое-то равнодушие призрака, и он смотрит на живые существа, как на выходцев с того света. Самые близкие люди часто оказываются смутными формами мрака, едва различимыми на туманном фоне жизни, и легко сливаются с невидимым.
Вечером того дня, когда тетка Тенардье доставила Маньон двух своих малюток, с нескрываемым желанием отказаться от них навсегда, она испытала или притворилась, что испытывает, какие-то угрызения совести. Она сказала мужу: «Но ведь это значит покинуть своих детей!» Тенардье, самоуверенный и бесстрастный, излечил эту недомогающую совесть следующими словами: «Жан-Жак Руссо делал еще почище!» От угрызений совести мать перешла к беспокойству: «А что, если полиция возьмется за нас? Скажи, Тенардье, то, что мы сделали, это разрешается?» Тенардье ответил: «Все разрешается. Никто ни черта не узнает. А кроме того, кому охота интересоваться ребятами, у которых нет ни гроша?».
Маньон была в некотором роде модницей в преступном мире. Она любила наряжаться. У нее на квартире, обставленной убого, но с притязаниями на роскошь, проживала опытная воровка – одна офранцузившаяся англичанка. Эта англичанка, ставшая парижанкой и пользовавшаяся доверием благодаря обширным связям, имела близкое отношение к краже медалей библиотеки и бриллиантов м-ль Марс и впоследствии стала знаменитостью в судейских летописях. Ее называли «мамзель Мисс».
Двум детям, попавшим к Маньон, не на что было жаловаться. Препорученные ей восемьюдесятью франками, они были ухожены, как все, что приносит выгоду, недурно одеты, неплохо накормлены, почти на положении «барчуков»; им было лучше с подставной матерью, чем с настоящей. Маньон разыгрывала «даму» и не говорила на арго в их присутствии.
Так прошло несколько лет. Тетка Тенардье увидела в этом хорошее предзнаменование. Как-то раз она даже сказала Маньон, вручавшей ей ежемесячную мзду в десять франков: «Надо, чтобы отец дал им образование».
И вдруг эти дети, до сих пор достаточно опекаемые даже своей злой судьбой, были грубо брошены в жизнь и принуждены начинать ее самостоятельно.
Арест целой шайки злодеев, как это имело место в притоне Жондрета, и неизбежно следующие за этим обыски и тюремное заключение – настоящее бедствие для этих отвратительных противообщественных тайных сил, гнездящихся под узаконенной общественной формацией; событие подобного рода влечет за собой всяческие крушения в этом темном мире. Катастрофа с Тенардье вызвала катастрофу с Маньон.
Однажды, вскоре после того как Маньон передала Эпонине записку относительно улицы Плюме, полиция произвела неожиданную облаву на улице Клошперс; Маньон была схвачена, мамзель Мисс также, и все подозрительное население дома попало в расставленные сети. Оба мальчика играли на заднем дворе и не видели полицейского налета. Когда им захотелось вернуться домой, дверь оказалась запертой, а дом пустым. Башмачник, державший лавочку напротив, позвал их и сунул им бумажку, оставленную для них «матерью». На бумажке был адрес: «Г-н Барж, управляющий, улица Сицилийского короля, № 8». «Вы больше здесь не живете, – сказал им башмачник. – Идите туда. Это совсем близко. Первая улица налево. Спрашивайте дорогу по этой бумажке».
Дети двинулись в путь; старший вел младшего, держа в руке бумажку, которая должна была указать им дорогу. Было холодно, плохо сгибавшиеся окоченелые пальчики едва удерживали бумажку. На повороте улицы Клошперс порыв ветра вырвал ее, а так как время было к ночи, ребенок не мог ее найти.
Они пустились блуждать по улицам наугад.
Глава 2, В которой маленький Гаврош извлекает выгоду из великого Наполеона.
Весною в Париже довольно часто дуют пронизывающие насквозь резкие северные ветры, от которых если и не леденеешь в буквальном смысле слова, то сильно зябнешь; эти ветры, омрачавшие самые погожие дни, производят совершенно такое же действие, как те холодные дуновения, которые проникают в теплую комнату через щели окна или плохо притворенную дверь. Кажется, что мрачные ворота зимы остались приоткрытыми и оттуда вырывается ветер. Весной 1832 года – время, когда в Европе вспыхнула первая в нынешнем столетии огромная эпидемия, – ветры были жестокими и пронизывающими как никогда. Приоткрылись ворота еще более леденящие, чем ворота зимы. То были ворота гробницы. В этих северных ветрах чувствовалось дыхание холеры.
С точки зрения метеорологической особенностью этих холодных ветров было то, что они вовсе не исключали сильного скопления электричества в воздухе. И в ту весну разражались частые грозы с громом и молнией.
Однажды вечером, когда ветер дул с такой силою, как будто возвратился январь, и когда горожане снова надели теплые плащи, маленький Гаврош, веселый, как всегда, хотя и дрожащий от холода в своих лохмотьях, словно замирая от восхищения, стоял перед лавочкой парикмахера близ Орм-Сен-Жерве. Он был наряжен в женскую шерстяную неизвестно где подобранную шаль, из которой сам соорудил себе шарф на шею. Маленький Гаврош, казалось, был очарован восковой невестой в платье с открытым лифом, с венком из флердоранжа, которая вращалась в окне между двух кенкетов, улыбаясь прохожим. На самом же деле он наблюдал за лавочкой, соображая, не удастся ли ему «слямзить» с витрины кусок мыла, чтобы потом продать его за одно су парикмахеру из предместья. Ему нередко случалось позавтракать с помощью такого вот кусочка. Он называл этот род работы, к которому имел призвание, «брить брадобреев».
Созерцая невесту и все время посматривая на кусок мыла, он бормотал сквозь зубы: «Во вторник… Нет, не во вторник… Разве во вторник?.. А может, и во вторник… Да, во вторник».
Так и осталось неизвестным, к чему относился этот монолог.
Если бы он случайно имел отношение к последнему обеду Гавроша, то с тех пор прошло уже три дня, так как сейчас была пятница.
Цирюльник, бривший постоянного клиента в своей хорошо натопленной лавочке, время от времени косо поглядывал на этого врага, на этого наглого озябшего мальчишку, руки которого были засунуты в карманы, а мысли, по-видимому, бродили бог весть где.
Покамест Гаврош изучал невесту, витрину и виндзорское мыло, двое ребят, один меньше другого и оба меньше его, довольно чистенько одетые, на вид один семи лет, другой лет пяти, робко повернули дверную ручку и вошли в лавочку, попросив чего-то, может быть, милостыни, жалобным шепотом, больше похожим на стон, чем на мольбу. Они говорили оба сразу, и разобрать их слова было невозможно, потому что голос младшего прерывали рыдания, а старший стучал зубами от холода. Рассвирепевший цирюльник, не выпуская бритвы, обернулся к ним и, подталкивая старшего правой рукой, а младшего коленом, выпроводил их на улицу и запер дверь со словами:
– Только холоду зря напустили!
Дети, плача, отправились дальше. Тем временем надвинулась туча и заморосил дождь.
Гаврош догнал их и спросил:
– Что с вами стряслось, птенцы?
– Мы не знаем, где нам спать, – ответил старший.
– Только-то? – удивился Гаврош. – Подумаешь, большое дело! Стоит из-за этого реветь. Вот так глупыши!
И, сохраняя все тот же вид несколько насмешливого превосходства, принял покровительственный мягкий тон растроганного начальства:
– Пошли за мной, малявки.
– Хорошо, сударь, – сказал старший.
И двое детей послушно последовали за ним, как последовали бы за архиепископом. Они даже перестали плакать.
Гаврош поднялся с ними на улицу Сент-Антуан, по направлению к Бастилии.
На ходу он обернулся и бросил негодующий взгляд на лавку цирюльника.
– Экий бесчувственный, настоящая вобла! – разразился он. – Верно, англичанишка какой-нибудь.
Гулящая девица, увидев трех мальчишек, идущих гуськом, с Гаврошем во главе, разразилась громким смехом. Смех указывал на отсутствие уважения к этой компании.
– Здравствуйте, мамзель Для-всех, – приветствовал ее Гаврош.
Минуту спустя, вспомнив опять парикмахера, он прибавил:
– Я ошибся насчет той скотины, это не вобла, а кобра. Эй, брадобрей, я найду слесарей, мы приладим тебе погремушку на хвост!
Парикмахер пробудил в нем воинственность. Перепрыгивая через ручей, он обратился к бородатой привратнице, стоявшей с метлой в руках и достойной встретить Фауста на Брокене:
– Сударыня, вы всегда выезжаете на собственной лошади?
И тут же забрызгал грязью лакированные сапоги какого-то прохожего.
– Шалопай! – крикнул взбешенный прохожий.
Гаврош высунул нос из своей шали.
– На кого изволите жаловаться?
– На тебя, – ответил прохожий.
– Контора закрыта, – выпалил Гаврош. – Я больше не принимаю жалоб.
Между тем, продолжая подниматься по улице, он заметил под воротами окоченевшую нищенку лет тринадцати-четырнадцати в такой короткой одежонке, что видны были ее колени. Она уже слишком выросла из своих нарядов. Рост может сыграть такую штуку. Юбка становится короткой к тому времени, когда нагота становится неприличной.
– Бедняжка! – сказал Гаврош. – У ихней братии и штанов-то нету. Замерзла небось. На-ка, держи!
Размотав на своей шее теплую шерстяную ткань, он накинул ее на худые, посиневшие плечики нищенки, и шарф снова превратился в шаль.
Девочка изумленно посмотрела на него и приняла шаль молча. На известной ступени нужды бедняк, отупев, не жалуется больше на зло и не благодарит за добро.
– Бр-р-р, – застучал зубами Гаврош, дрожа сильнее, чем святой Мартин, который сохранил по крайней мере половину своего плаща.
При этом «бр-р-р» дождь, словно еще сильней обозлившись, полил как из ведра. Так злые небеса наказуют за добрые деяния.
– Ах, так? – воскликнул Гаврош. – Это еще что такое? Опять полилось? Господь бог, если так будет продолжаться, я отказываюсь платить за воду!
И он снова зашагал.
– Все равно, – прибавил он, взглянув на нищенку, съежившуюся под шалью, – у ней-то надежная шкурка.
И, взглянув на тучу, крикнул:
– Вот тебя и провели!
Дети старались поспевать за ним.
Когда они проходили мимо одной из витрин, забранных частой решеткой, указывающей на булочную, – ибо хлеб, подобно золоту, держат за железной решеткой, – Гаврош обернулся:
– Да, вот что, малыши, вы обедали?
– Сударь, – ответил старший, – мы не ели с самого сегодняшнего утра.
– Значит, у вас нет ни отца, ни матери? – величественно спросил Гаврош.
– Прошу извинить, сударь, у нас есть и папа, и мама, только мы не знаем, где они.
– Иной раз это лучше, чем знать, – заметил Гаврош, который был мыслителем.
– Вот уже два часа, как мы идем, – продолжал старший, – мы искали чего-нибудь около тумб, но ничего не нашли.
– Знаю, – сказал Гаврош. – Собаки подобрали, они все пожирают.
И, помолчав, прибавил:
– Так, значит, мы потеряли родителей. И мы не знаем, что нам делать. Это никуда не годится, ребята. Людям в летах просто глупо вдруг заблудиться. Да, вот что! Нужно, однако, пожевать чего-нибудь.
Больше вопросов он им не задавал. Остаться без жилья – что может быть проще?
Старший мальчуган, почти совсем вернувшись к свойственной детству беззаботности, воскликнул:
– Как смешно! Ведь мама-то говорила, что в Вербное воскресенье поведет нас за освященной вербой…
– Для порки, – закончил Гаврош.
– Моя мама, – начал снова старший, – настоящая дама, она живет с мамзель Мисс…
– Фу-ты-ну-ты-ножки-гнуты, – подхватил Гаврош.
Тут он остановился и стал рыться и шарить во всех тайниках своих лохмотьев.
Наконец он поднял голову с видом, долженствовавшим выражать лишь удовлетворение, но на самом деле торжествующим.
– Спокойствие, младенцы! Хватит на ужин всем троим.
Не дав малюткам времени изумиться, он втолкнул их обоих в булочную, швырнул свое су на прилавок и крикнул:
– Продавец, на пять сантимов хлеба!
«Продавец», оказавшийся самим хозяином, взялся за нож и хлеб.
– Три куска, продавец! – снова крикнул Гаврош.
И он прибавил с достоинством:
– Нас трое.
Заметив, что булочник, внимательно оглядев трех покупателей, взял пеклеванный хлеб, он глубоко засунул палец в нос и, втянув воздух с таким надменным видом, будто угостился понюшкой из табакерки Фридриха Великого, негодующе крикнул булочнику прямо в лицо:
– Этшкое?
Тех из наших читателей, которые имели бы поползновение счесть восклицание Гавроша русским или польским словом или тем воинственным кличем, каким перебрасываются через пустынные пространства, от реки до реки, иоваи и ботокудосы, мы предупреждаем, что слово это они (наши читатели) употребляют ежедневно и что оно заменяет фразу «Это что такое?». Булочник это прекрасно понял и ответил:
– Ну и что ж? Это хлеб очень хороший, хлеб второго сорта.
– Вы хотите сказать – железняк? – возразил Гаврош спокойно и холодно-негодующе. – Белого хлеба, продавец! Чистяка! Я угощаю.
Булочник не мог не улыбнуться и, нарезая белого хлеба, жалостливо посматривал на них, что оскорбило Гавроша.
– Эй вы, хлебопек, – сказал он, – с чего это вы вздумали снимать с нас мерку?
Если бы их всех трех поставить друг на друга, то они вряд ли составили бы сажень.
Когда хлеб был нарезан и булочник бросил в ящик су, Гаврош обратился к детям:
– Лопайте.
Мальчики с недоумением посмотрели на него.
Гаврош рассмеялся:
– А, вот что! Верно, они этого еще не понимают, не выросли. – И затем прибавил: – Ешьте.
И протянул каждому из них по куску хлеба.
Решив, что старший, по его мнению, более достойный беседовать с ним, заслуживает особого поощрения и должен быть избавлен от всякого беспокойства при удовлетворении своего аппетита, он прибавил, сунув ему самый большой кусок:
– Залепи-ка это себе в дуло.
Один кусок был меньше других; он взял его себе.
Бедные дети изголодались, да и Гаврош тоже. Усердно уписывая хлеб, они толклись в лавочке, и булочник, которому было уплачено, теперь уже смотрел на них недружелюбно.
– Выйдем на улицу, – сказал Гаврош.
Они снова пошли по направлению к Бастилии.
Время от времени, если им случалось проходить мимо освещенных лавочных витрин, младший останавливался и смотрел на оловянные часики, висевшие у него на шее на шнурочке.
– Ну не глупыши разве? – говорил Гаврош.
Потом, задумавшись, он бормотал сквозь зубы:
– Как-никак, будь у меня малыши, я бы за ними получше смотрел.
Когда они доедали хлеб и дошли уже до угла мрачной Балетной улицы, в глубине которой виднеется низенькая и зловещая калитка тюрьмы Форс, кто-то сказал:
– Смотри-ка, это ты, Гаврош?
– Смотри-ка, это ты, Монпарнас? – ответствовал Гаврош.
К нему подошел какой-то человек, и человек этот был не кто иной, как Монпарнас; хоть он и переоделся и нацепил синие окуляры, тем не менее Гаврош узнал его.
– Вот так штука! – продолжал Гаврош. – Твоя хламида как раз такого цвета, как припарки из льняного семени, а синие очки – точь-в-точь докторские. Все как следует, одно к одному, верь старику!
– Тише, – одернул его Монпарнас, – не ори так громко!
И он быстро оттащил Гавроша подальше от освещенных лавочек.
Двое малышей машинально пошли за ними, держась за руки.
Когда они оказались под черным сводом каких-то ворот, укрытые от взглядов прохожих и от дождя, Монпарнас спросил:
– Знаешь, куда я иду?
– В монастырь Вознесение-Поневоле[124], – ответил Гаврош.
– Шутник! – И Монпарнас продолжал: – Я хочу разыскать Бабета.
– Ах, ее зовут Бабетой! – ухмыльнулся Гаврош.
Монпарнас понизил голос:
– Не она, а он.
– Ах, так это ты насчет Бабета?
– Да, насчет Бабета.
– Я думал, он попал в конверт.
– Он его распечатал, – ответил Монпарнас.
И он быстро рассказал мальчику, что утром Бабет, которого перевели в Консьержери, бежал, взяв налево, вместо того чтобы пойти направо, в «коридор допроса».
Гаврош подивился его ловкости.
– Ну и мастак! – сказал он.
Монпарнас прибавил несколько подробностей относительно бегства Бабета и окончил так:
– О, это еще не все!
Гаврош, слушая Монпарнаса, взялся за трость, которую тот держал в руке, машинально потянул за набалдашник, и наружу вышло лезвие кинжала.
– Ого! – сказал он, быстро вдвинув кинжал обратно. – Ты захватил с собой телохранителя, одетого в штатское.
Монпарнас подмигнул.
– Черт возьми! – продолжал Гаврош. – Уж не собираешься ли ты схватиться с фараонами?
– Как знать, – с равнодушным видом ответил Монпарнас, – никогда не мешает иметь при себе булавку.
Гаврош настаивал:
– Что же ты думаешь делать сегодня ночью?
Монпарнас снова напустил на себя важность и сказал, цедя сквозь зубы:
– Так, кое-что. – И сразу, переменив разговор, воскликнул: – Да, кстати!
– Ну?
– На днях случилась история. Вообрази только. Встречаю я одного буржуа. Он преподносит мне в подарок проповедь и свой кошелек. Я кладу все это в карман. Минуту спустя я шарю рукой в кармане, а там – ничего.
– Кроме проповеди, – добавил Гаврош.
– Ну, а ты, – продолжал Монпарнас, – куда ты сейчас идешь?
Гаврош показал ему на своих подопечных и ответил:
– Иду укладывать спать этих ребят.
– Где же ты их уложишь?
– У себя.
– Где это у тебя?
– У себя.
– Значит, у тебя есть квартира?
– Есть.
– Где же это?
– В слоне, – ответил Гаврош.
Хотя Монпарнас по своей натуре и мало чему удивлялся, но невольно воскликнул:
– В слоне?
– Ну да, в слоне! – подтвердил Гаврош. – Штотуткоо?
Вот еще одно слово из того языка, на котором никто не пишет, но все говорят. «Штотуткоо» обозначает: «Что ж тут такого?».
Глубокомысленное замечание гамена вернуло Монпарнасу спокойствие и здравый смысл. По-видимому, он проникся наилучшими чувствами к квартире Гавроша.
– А в самом деле! – сказал он. – Слон так слон. А что, там удобно?
– Очень удобно, – ответил Гаврош. – Там и вправду отлично. И нет таких сквозняков, как под мостами.
– Как же ты туда входишь?
– Так и вхожу.
– Значит, там есть лазейка? – спросил Монпарнас.
– Черт возьми! Об этом помалкивай. Между передними ногами. Шпики ее не заметили.
– И ты взбираешься наверх? Так, я понимаю.
– Простой фокус. Раз, два – и готово, тебя уж нет.
Помолчав, Гаврош прибавил:
– Для этих малышей у меня найдется лестница.
Монпарнас расхохотался:
– Где, черт тебя побери, ты раздобыл этих мальчат?
Гаврош просто ответил:
– Это мне один цирюльник подарил на память.
Вдруг Моппарнас задумался.
– Ты узнал меня слишком легко, – пробормотал он.
И, вынув из кармана две маленькие штучки, попросту две трубочки от перьев, обмотанные ватой, он всунул их по одной в каждую ноздрю. Нос сразу изменился.
– Это тебе к лицу, – сказал Гаврош, – сейчас ты уже не кажешься таким уродливым. Оставь это навсегда.
Монпарнас был красивый малый, но Гаврош был насмешник.
– Без шуток, – сказал Монпарнас, – как ты меня находишь?
И голос тоже у него стал совсем другой. В мгновение ока Монпарнас стал неузнаваем.
– Покажи-ка нам Петр-р-рушку! – воскликнул Гаврош.
Малютки, которые до сих пор ничего не слушали и были сами заняты делом, ковыряя у себя в носу, приблизились, услышав это имя, и с радостным восхищением воззрились на Монпарнаса.
К сожалению, Монпарнас был озабочен.
Он положил руку на плечо Гавроша и произнес, подчеркивая каждое слово:
– Слушай, парень, следи глазом, ежели бы я на площади гулял с моим догом, моим дагом и моим дигом, да если бы вы мне подыграли десять двойных су, а я не прочь ведь игрануть, – так и быть, гляди, глупыши! Но ведь сейчас не Масленица.
Эта странная фраза произвела на мальчика особое впечатление. Он живо обернулся, с глубоким вниманием оглядел все вокруг своими маленькими блестящими глазами и заметил в нескольких шагах полицейского, стоявшего к ним спиной. У Гавроша вырвалось: «Вон оно что!» – но он сразу сдержался и, пожав руку Монпарнасу, сказал:
– Ну, прощай, я пойду с моими малышами к слону. В случае если я тебе понадоблюсь ночью, ты можешь меня там найти. Я живу на антресолях. Привратника у меня нет. Спросишь господина Гавроша.
– Ладно, – ответил Монпарнас.
И они расстались. Монпарнас направился к Гревской площади, а Гаврош – к Бастилии. Пятилетний мальчуган, тащившийся за своим братом, которого, в свою очередь, тащил Гаврош, несколько раз обернулся назад, чтобы поглядеть на уходившего «Петр-р-рушку».
Непонятная фраза, которою Монпарнас предупредил Гавроша о присутствии полицейского, содержала только один секрет: звуковое сочетание диг, повторенное раз пять или шесть различным способом. Слог диг не произносится отдельно, но, искусно вставленный в слова какой-нибудь фразы, обозначает: «Будем осторожны, нельзя говорить свободно». Кроме того, в фразе Монпарнаса были еще литературные красоты, ускользнувшие от Гавроша: мой дог, мой даг и мой диг – выражение на арго тюрьмы Тампль, обозначавшее: «моя собака, мой нож и моя жена», весьма употребительное среди шутов и скоморохов того великого века, когда писал Мольер и рисовал Калло.
Лет двадцать тому назад в юго-восточном углу площади Бастилии, близ пристани, у канала, прорытого на месте старого рва крепости-тюрьмы, виднелся причудливый монумент, теперь уже исчезнувший из памяти парижан, но достойный оставить в ней какой-нибудь след, потому что он был воплощением мысли «члена Института, главнокомандующего египетской армией».
Мы говорим «монумент», хотя это был только его макет. Но этот самый макет, этот великолепный черновой набросок, этот грандиозный труп наполеоновской идеи, развеянной двумя-тремя порывами ветра событий и отбрасываемой ими каждый раз все дальше от нас, стал историческим и приобрел нечто завершенное, противоречащее его временному назначению. Это был слон вышиной в сорок футов, сделанный из досок и камня, с башней на спине, наподобие дома; когда-то маляр выкрасил его в зеленый цвет, теперь же небо, дождь и время перекрасили его в черный. В этом пустынном и открытом углу площади широкий лоб колосса, его хобот, клыки, башня, необъятный круп, черные, подобные колоннам ноги вырисовывались ночью на звездном фоне неба страшным, фантастическим силуэтом. Что он обозначал – неизвестно. Это было нечто вроде символического изображения народной мощи. Это было мрачно, загадочно и огромно. Это было какое-то исполинское привидение, вздымавшееся у вас на глазах ввысь, рядом с невидимым призраком Бастилии.
Иностранцы редко осматривали это сооружение, прохожие вовсе не смотрели на него. Слон разрушался с каждым годом; отвалившиеся куски штукатурки оставляли на его боках после себя отвратительные язвины. «Эдилы», как выражаются на изящном арго салонов, забыли о нем с 1814 года. Он стоял здесь, в своем углу, угрюмый больной, разрушающийся, окруженный сгнившей изгородью, загаженный пьяными кучерами; трещины бороздили его брюхо, из хвоста выпирал прут от каркаса, высокая трава росла между ногами. Так как уровень площади в течение тридцати лет становился вокруг него все выше благодаря тому медленному и непрерывному наслоению земли, которое незаметно поднимает почву больших городов, то он очутился во впадине, как будто земля осела под ним. Он стоял загрязненный, непризнанный, отталкивающий и надменный – безобразный на взгляд мещан, грустный на взгляд мыслителя. Он чем-то напоминал груду мусора, который скоро выметут, и одновременно нечто исполненное величия, что будет вскоре развенчано.
Как мы уже сказали, ночью его облик менялся. Ночь – это подлинная стихия всего, что сродни мраку. Как только спускались сумерки, старый слон преображался; он приобретал спокойный и страшный облик в грозной невозмутимости тьмы. Принадлежа прошлому, он принадлежал ночи; мрак был к лицу исполину.
Этот памятник, грубый, шершавый, коренастый, тяжелый, суровый, почти бесформенный, но, несомненно, величественный и отмеченный печатью какой-то великолепной и дикой важности, исчез, и теперь там безмятежно царствует что-то вроде гигантской печи, украшенной трубой и заступившей место сумрачной девятибашенной Бастилии, почти так же как буржуазный строй заступает место феодального. Совершенно естественно для печи быть символом эпохи, могущество которой таится в паровом котле. Эта эпоха пройдет, она уже прошла; начинают понимать, что если сила и может заключаться в котле, то могущество заключается лишь в мозгу; другими словами, ведут вперед и влекут за собой мир не локомотивы, а идеи. Прицепляйте локомотивы к идеям, это хорошо, но не принимайте коня за всадника.
Как бы там ни было, но, возвращаясь к площади Бастилии, скажем одно: творец слона и при помощи гипса достиг великого; творец печной трубы и из бронзы создал ничтожное.
Эта печная труба, которую окрестили звучным именем, назвав ее Июльской колонной, этот неудавшийся памятник революции-недоноска был в 1832 году еще закрыт огромной деревянной рубашкой, об исчезновении которой мы лично сожалеем, и обширным дощатым забором, окончательно отгородившим слона.
К этому-то углу площади, едва освещенному отблеском далекого фонаря, Гаврош и направился со своими двумя «малышами».
Да будет нам дозволено здесь прервать наш рассказ и напомнить о том, что мы не извращаем действительности и что двадцать лет тому назад суд исправительной полиции осудил ребенка, застигнутого спящим внутри того же бастильского слона, за бродяжничество и повреждение общественного памятника.
Отметив этот факт, продолжаем.
Подойдя к колоссу, Гаврош понял, какое действие может оказать бесконечно большое на бесконечно малое, и сказал:
– Птенцы, не бойтесь!
Затем он пролез через щель между досок забора, очутился внутри ограды, окружавшей слона, и помог малышам пробраться сквозь отверстие. Дети, слегка испуганные, молча следовали за Гаврошем, доверяясь этому маленькому привидению в лохмотьях, которое дало им хлеба и обещало ночлег.
Вдоль забора здесь лежала лестница, которою днем пользовались рабочие соседнего дровяного склада. Гаврош, с неожиданной в нем силой, поднял ее и прислонил к одной из передних ног слона. Там, куда упиралась лестница, можно было заметить в брюхе колосса черную дыру. Гаврош указал своим гостям на лестницу и дыру и сказал:
– Взбирайтесь и входите.
Мальчики испуганно переглянулись.
– Вы боитесь, малыши! – вскричал Гаврош. – И прибавил: – Сейчас увидите.
Он плотно обхватил шершавую ногу слона и в мгновение ока, не удостоив лестницу внимания, очутился у трещины. Он проник в нее наподобие ужа, скользнувшего в щель, и провалился внутрь, а мгновение спустя дети неясно различили его бледное лицо, появившееся, подобно беловатому, тусклому пятну, на краю дыры, затопленной мраком.
– Ну вот, – крикнул он, – лезьте же, младенцы! Увидите, как тут хорошо! Лезь ты! – крикнул он старшему. – Я подам тебе руку.
Дети подталкивали друг друга. Гаврош одновременно внушал им и страх, и доверие, а кроме того, шел сильный дождь. Старший осмелился. Младший, увидев, что его брат поднимается, оставив его совсем одного между лап этого огромного зверя, хотел разреветься, но не посмел.
Старший, пошатываясь, карабкался по перекладинам лестницы; Гаврош тем временем подбадривал его восклицаниями, словно учитель фехтования – своего ученика или погонщик – своего мула:
– Не трусь!
– Так, правильно!
– Лезь же, лезь!
– Ставь ногу сюда!
– Руку туда!
– Смелей!
И когда уже можно было дотянуться до мальчика, он вдруг крепко схватил его за руку и подтянул к себе.
– Попался! – сказал Гаврош.
Малыш проскочил в трещину.
– Теперь, – сказал Гаврош, – подожди меня. Сударь, потрудитесь присесть.
И, выйдя из трещины таким же образом, каким вошел в нее, он с проворством обезьяны скользнул вдоль ноги слона, спрыгнул в траву, схватил пятилетнего мальчугана в охапку, поставил его на самую середину лестницы, потом начал подниматься позади него, крича старшему:
– Я его буду подталкивать, а ты тащи к себе.
В одно мгновение малютка был поднят, втащен, втянут, втолкнут, засунут в дыру, так что не успел опомниться, а Гаврош, вскочив вслед за ним, пинком ноги сбросил лестницу в траву, захлопал в ладоши и закричал:
– Вот мы и приехали! Да здравствует генерал Лафайет!
После этого взрыва веселья он прибавил:
– Ну, карапузы, вы у меня дома!
Гаврош на самом деле был у себя дома.
О, неожиданная полезность бесполезного! Благостыня великих творений! Доброта исполинов! Этот необъятный памятник, заключавший мысль императора, стал гнездышком гамена. Ребенок был принят под защиту великаном. Разряженные буржуа, проходившие мимо слона на площади Бастилии, презрительно меряя его выпученными глазами, самодовольно повторяли: «Для чего это нужно?» Это нужно было для того, чтобы спасти от холода, инея, града, дождя, чтобы защитить от зимнего ветра, чтобы избавить от ночлега в грязи, кончающегося лихорадкой, и от ночлега в снегу, кончающегося смертью, маленькое существо, не имевшее ни отца, ни матери, ни хлеба, ни одежды, ни пристанища. Это нужно было для того, чтобы приютить невинного, которого общество оттолкнуло от себя. Это нужно было для того, чтобы уменьшить общественную вину. Это была берлога, открытая для того, перед кем все двери были закрыты. Казалось, что жалкий, дряхлый, заброшенный мастодонт, покрытый грязью, наростами, плесенью и язвами, шатающийся, весь в червоточине, покинутый, осужденный, похожий на огромного нищего, который тщетно выпрашивал, как милостыню, доброжелательного взгляда на перекрестках, сжалился над другим нищим – над жалким пигмеем, который разгуливал без башмаков, не имел крыши над головой, согревал руки дыханием, был одет в лохмотья, питался отбросами. Вот для чего нужен был бастильский слон. Мысль Наполеона, презренная людьми, была подхвачена богом. То, что могло стать только славным, стало величественным. Императору, для того чтобы осуществить задуманное, нужны были порфир, бронза, железо, золото, мрамор; богу было достаточно старых досок, балок и гипса. У императора был замысел гения: в этом исполинском слоне, вооруженном, необыкновенном, с поднятым хоботом, с башней на спине, с брызжущими вокруг него веселыми живительными струями воды, он хотел воплотить народ. Бог сделал нечто более великое: он дал в нем пристанище ребенку.
Дыра, через которую проник Гаврош, была, как мы упомянули, едва видимой снаружи, скрытой под брюхом слона трещиной, столь узкой, что сквозь нее могли пролезть только кошки и дети.
– Начнем вот с чего, – сказал Гаврош, – скажем привратнику, что нас нет дома.
И, нырнув во тьму с уверенностью человека, знающего свое жилье, он взял доску и закрыл ею дыру.
Затем Гаврош снова нырнул во тьму. Дети услышали потрескивание спички, погружаемой в бутылочку с фосфорным составом. Химических спичек тогда еще не существовало; огниво Фюмада олицетворяло в ту эпоху прогресс.
Внезапный свет заставил их зажмурить глаза; Гаврош зажег конец фитиля, пропитанного смолой, так называемую «погребную крысу». «Погребная крыса» больше дымила, чем освещала, и едва позволяла разглядеть внутренность слона.
Гости Гавроша, оглянувшись вокруг, испытали нечто подобное тому, что испытал бы человек, запертый в большую гейдельбергскую бочку, или, еще точнее, что должен был испытать Иона во чреве библейского кита. Огромный скелет вдруг предстал пред ними и словно обхватил их. Длинная потемневшая верхняя балка, от которой на одинаковом расстоянии друг от друга отходили массивные выгнутые решетины, представляла собой хребет с ребрами; гипсовые сталактиты свешивались с них наподобие внутренностей; широкие полотнища паутины, простиравшиеся из конца в конец между боками слона, образовывали его запыленную диафрагму. Там и сям, в углах, можно было заметить большие, кажущиеся живыми, черноватые пятна, которые быстро перемещались резкими пугливыми движениями.
Обломки, упавшие сверху, со спины слона, заполнили впадину его брюха, так что там можно было ходить, словно по полу.
Младший прижался к старшему и сказал вполголоса:
– Тут темно.
Эти слова вывели Гавроша из себя. Оцепенелый вид малышей настоятельно требовал некоторой встряски.
– Что вы мне голову морочите? – воскликнул он. – Мы изволим потешаться? Мы разыгрываем привередников? Вам нужно Тюильри? Ну, не скоты ли вы после этого? Отвечайте! Предупреждаю, я не из простаков! Подумаешь, детки из позолоченной клетки!
Немного грубости при испуге не мешает. Она успокаивает. Дети подошли к Гаврошу.
Гаврош, растроганный таким доверием, перешел «от строгости к отеческой мягкости» и обратился к младшему.
– Дуралей, – сказал он, смягчая ругательство ласковым тоном, – это на дворе темно. На дворе идет дождь, а здесь нет дождя; на дворе холодно, а здесь ни ветерка; на дворе куча народа, а здесь никого; на дворе нет даже луны, а у нас свеча, черт возьми!
Дети смелее начали осматривать помещение; но Гаврош не позволил им долго заниматься созерцанием.
– Живо! – крикнул он.
И подтолкнул их к тому месту, которое мы можем, к нашему великому удовольствию, назвать существенной частью комнаты.
Там находилась его постель.
Постель у Гавроша была настоящая, с тюфяком, с одеялом, в алькове, под пологом.
Тюфяком служила соломенная циновка, одеялом – довольно широкая попона из грубой серой шерсти, очень теплая и почти новая. А вот что представлял собой альков.
Три довольно длинные жерди, воткнутые – две спереди и одна позади – в землю, то есть в гипсовый мусор, устилавший изнутри брюхо слона, и связанные веревкой на верхушке, образовывали нечто вроде пирамиды. На ней держалась сетка из латунной проволоки, которая была просто-напросто наброшена сверху, но, искусно прилаженная и привязанная железной проволокой, целиком охватывала все три жерди. Ряд больших камней вокруг этой сетки прикреплял ее к полу, так что нельзя было проникнуть внутрь. Эта сетка была не чем иным, как полотнищем проволочной решетки, которой огораживают птичьи вольеры в зверинцах. Постель Гавроша под этой сетью была словно в клетке. Все вместе походило на чум эскимоса.
Эта сетка и служила пологом.
Гаврош отодвинул немного в сторону камни, придерживающие ее спереди, и два ее полотнища, прилегавшие одно к другому, раздвинулись.
– Ну, малыши, на четвереньки! – скомандовал Гаврош.
Он осторожно ввел своих гостей в клетку, затем ползком пробрался вслед за ними, подвинул на место камни и плотно закрыл отверстие.
Все втроем растянулись на циновке.
Дети, как ни были они малы, не могли бы выпрямиться во весь рост в этом алькове. Гаврош все еще держал в руке «погребную крысу».
– Теперь, – сказал он, – дрыхните! Я сейчас потушу мой канделябр.
– Сударь, – спросил старший, показывая на сетку, – а что это такое?
– Это, – важно ответил Гаврош, – от крыс. Дрыхните!
Все же он счел нужным прибавить несколько слов в поучение этим младенцам и продолжал:
– Эти штуки из Ботанического сада. Они для диких зверей. Тамыхъесь (там их есть) целый набор. Тамтольнада (там только надо) перебраться через стену, влезть в окно и проползти под дверь. И бери этого добра сколько хочешь.
Сообщая им все эти сведения, он в то же время закрывал краем одеяла самого младшего, который пролепетал:
– Как хорошо! Как тепло!
Гаврош устремил довольный взгляд на одеяло.
– Это тоже из Ботанического сада, – сказал он. – У обезьян забрал.
И, указав старшему на циновку, на которой он лежал, очень толстую и прекрасно сплетенную, прибавил:
– А это было у жирафа.
Помолчав, он продолжал:
– Все это принадлежало зверям. Я отобрал у них. Они не обиделись. Я им сказал: «Это для слона».
Снова немного помолчав, он заметил:
– Перелезешь через стену, и плевать тебе на начальство. И дело с концом.
Мальчики изумленно, с боязливым почтением взирали на этого смелого и изобретательного человечка. Бездомный, как они, одинокий, как они, слабенький, как они, но в каком-то смысле изумительный и всемогущий, с физиономией, на которой гримасы старого паяца сменялись самой простодушной, самой очаровательной детской улыбкой, он казался им сверхъестественным существом.
– Сударь, – робко сказал старший, – а разве вы не боитесь полицейских?
Гаврош ограничился ответом:
– Малыш, не говорят: «полицейские», а говорят: «фараоны»!
Младший смотрел широко открытыми глазами, но ничего не говорил. Так как он лежал на краю циновки, а старший посредине, то Гаврош подоткнул ему одеяло, как это сделала бы мать, а циновку, где была его голова, приподнял, положив под нее старые тряпки, и устроил таким образом малышу подушку. Потом он обернулся к старшему:
– Ну как? Хорошо тут?
– Очень! – ответил старший, взглянув на Гавроша с видом спасенного ангела.
Бедные дети, промокшие насквозь, начали согреваться.
– Кстати, – снова заговорил Гаврош, – почему же это вы давеча плакали? – И, показав на младшего, продолжал: – Такой карапуз, как этот, пусть его; но взрослому, как ты, и вдруг реветь, это совсем глупо: точь-в-точь теленок.
– Ну да! – ответил тот. – Ведь у нас не было никакой квартиры, и некуда было деваться.
– Птенец! – заметил Гаврош. – Не говорят: «квартира», а говорят: «домовуха».
– А потом мы боялись остаться ночью одни.
– Не говорят: «ночь», а говорят: «потьмуха».
– Благодарю вас, сударь, – ответил ребенок.
– Послушай, – снова начал Гаврош, – никогда не нужно хныкать из-за пустяков. Я буду заботиться о вас. Ты увидишь, как нам будет весело. Летом пойдем с Наве, моим приятелем, в Гласьер, будем там купаться и бегать голышом по плотам у Аустерлицкого моста, чтобы побесить прачек. Они кричат, злятся, если бы ты знал, какие они потешные! Потом мы пойдем смотреть на человека-скелета. Он живой. На Елисейских полях. Он худой, как щепка, этот чудак. Пойдем в театр. Я вас поведу на Фредерика Леметра. У меня бывают билеты, я знаком с актерами. Один раз я даже играл в пьесе. Мы были тогда малышами, как вы, и бегали под холстом, получалось вроде моря. Я вас определю в мой театр. И мы посмотрим с вами дикарей. Только это не настоящие дикари. На них розовое трико, видно, как оно морщится, а на локтях заштопано белыми нитками. После этого мы отправимся в оперу. Войдем туда вместе с клакерами. Клака в опере очень хорошо налажена. Ну, на бульвары-то я, конечно, не пошел бы с клакерами. В опере, представь себе, есть такие, которым платят по двадцать су, но это дурачье. Их называют затычками. А еще мы пойдем посмотреть, как гильотинируют. Я вам покажу палача. Он живет на улице Марэ. Господин Сансон. У него на дверях ящик для писем. Да, мы можем здорово поразвлечься!
В это время на палец Гавроша упала капля смолы, это и вернуло его к действительности.
– Ах, черт! – воскликнул он. – Фитиль-то кончается! Внимание! Я не могу тратить больше одного су в месяц на освещение. Если уж лег, так спи. У нас нет времени читать романы господина Поль де Кока. К тому же свет может пробиться наружу сквозь щель наших ворот, и фараоны его заметят.
– А потом, – робко вставил старший, один только и осмеливавшийся разговаривать с Гаврошем и отвечать ему, – уголек может упасть на солому, надо быть осторожным, чтобы не сжечь дом.
– Не говорят: «сжечь дом», – поправил Гаврош, – а говорят: «подсушить мельницу».
Ненастье усиливалось. Сквозь раскаты грома было слышно, как барабанил ливень по спине колосса.
– Обставили мы тебя, дождик! – сказал Гаврош. – Забавно слышать, как по ногам нашего дома льется вода, точно из графина. Зима дураковата; зря губит свой товар, напрасно старается, ей не удастся нас подмочить; оттого она и брюзжит, старая водоноска.
Вслед за этим дерзким намеком на грозу, все последствия которого Гаврош в качестве философа XIX века взял на себя, сверкнула молния, столь ослепительная, что отблеск ее через щель проник в брюхо слона. Почти в то же мгновение неистово загремел гром. Дети вскрикнули и вскочили так быстро, что сетка почти слетела; но Гаврош повернул к ним свою смелую мордочку и разразился громким смехом:
– Спокойно, ребята! Не толкайте так наше здание. Великолепный гром, отлично! Это тебе не тихоня-молния. Браво, боженька! Честное слово, сработано не хуже, чем в театре Амбигю.
После этого он привел в порядок сетку, тихонько толкнул детей на постель, нажал им на колени, чтобы заставить хорошенько вытянуться, и вскричал:
– Раз боженька зажег свою свечку, я могу задуть мою. Ребятам нужно спать, молодые люди. Не спать – это очень плохо. Будет разить из дыхала, или, как говорят в хорошем обществе, вонять из пасти. Завернитесь-ка хорошенько в одеяло! Я сейчас гашу свет. Готовы?
– Да, – прошептал старший, – мне хорошо. Под головой словно пух.
– Не говорят: «голова», – крикнул Гаврош, – а говорят: «сорбонна».
Дети прижались друг к другу. Гаврош, наконец, уложил их на циновке как следует, натянул на них попону до самых ушей, потом в третий раз повторил на языке посвященных приказ:
– Дрыхните!
И погасил фитилек.
Едва потух свет, как сетка, под которой лежали мальчики, стала трястись от каких-то странных толчков. Послышалось глухое трение, сопровождавшееся металлическим звуком, точно множество когтей и зубов скребло медную проволоку. Все это сопровождалось разнообразным пронзительным писком.
Пятилетний малыш, услыхав у себя над головой этот оглушительный шум и похолодев от ужаса, толкнул локтем старшего брата, но старший брат уже «дрых», как ему велел Гаврош. Тогда, не помня себя от страха, он отважился обратиться к Гаврошу, но совсем тихо, сдерживая дыхание:
– Сударь!
– Что? – спросил уже засыпавший Гаврош.
– А что это такое?
– Это крысы, – ответил Гаврош.
И снова опустил голову на циновку.
Действительно, крысы, сотнями кишевшие в остове слона, – они-то и были теми живыми черными пятнами, о которых мы говорили, – держались на почтительном расстоянии, пока горела свеча, но как только эта пещера, представлявшая собой как бы их владения, погрузилась во тьму, они, учуяв то, что добрый сказочник Перро назвал «свежим мясцом», бросились стаей на палатку Гавроша, взобрались до самой верхушки и принялись грызть проволоку, словно пытаясь прорвать этот накомарник нового типа.
Между тем мальчуган не засыпал.
– Сударь! – снова начал он.
– Ну?
– А что это такое – крысы?
– Это мыши.
Объяснение Гавроша немного успокоило ребенка. Он уже видел белых мышей и не боялся их. Однако он еще раз спросил:
– Сударь!
– Ну?
– Почему у вас нет кошки?
– У меня была кошка, – ответил Гаврош, – я ее сюда принес, но они ее съели.
Это второе объяснение уничтожило благотворное действие первого: малыш снова задрожал от страха. И разговор между ним и Гаврошем возобновился в четвертый раз.
– Сударь!
– Ну?
– А кого же это съели?
– Кошку.
– А кто съел кошку?
– Крысы.
– Мыши?
– Да, крысы.
Ребенок, изумляясь, что здешние мыши едят кошек, продолжал:
– Сударь, значит, такие мыши и нас могут съесть?
– Понятно! – ответил Гаврош.
Страх ребенка достиг предела. Но Гаврош прибавил:
– Не бойся! Они до нас не доберутся. И кроме того, я здесь! На, возьми мою руку. Молчи и дрыхни!
И Гаврош взял маленького за руку, протянув свою через голову его брата. Тот прижался к этой руке и почувствовал себя успокоенным. Мужество и сила обладают таинственным свойством передаваться другим. Вокруг них снова воцарилась тишина, шум голосов напугал и отогнал крыс; когда через несколько минут они возвратились, то могли бесноваться вволю, – трое мальчуганов, погрузившись в сон, ничего больше не слышали.
Ночные часы текли. Тьма покрывала огромную площадь Бастилии, зимний ветер с дождем дул порывами. Дозоры обшаривали ворота, аллеи, ограды, темные углы и, в поисках ночных бродяг, молча проходили мимо слона; чудище, застыв в своей неподвижности и устремив глаза во мрак, имело мечтательный вид, словно радовалось доброму делу, которое свершало, укрывая от непогоды и от людей трех беглых спящих детишек.
Чтобы понять все нижеследующее, нелишним будет вспомнить, что в те времена полицейский пост Бастилии располагался на другом конце площади, и все происходившее возле слона не могло быть ни замечено, ни услышано часовым.
На исходе того часа, который предшествует рассвету, какой-то человек вынырнул из Сент-Антуанской улицы, бегом пересек площадь, обогнул большую ограду Июльской колонны и, проскользнув между досок забора, оказался под самым брюхом слона. Если бы хоть малейший луч света упал на этого человека, то по его насквозь промокшему платью легко было бы догадаться, что он провел ночь под дождем. Очутившись под слоном, он издал странный крик, не имевший отношения ни к какому человеческому языку; его мог бы воспроизвести только попугай. Он повторил дважды этот крик, приблизительное понятие о котором может дать следующее начертание:
– Кирикикиу!
На второй крик из брюха слона ответил звонкий и веселый детский голос:
– Здесь!
Почти тут же дощечка, закрывавшая дыру, отодвинулась и открыла проход для ребенка, скользнувшего вниз по ноге слона и легко опустившегося подле этого человека. То был Гаврош. Человек был Монпарнас.
Что касается крика «кирикикиу», то, без сомнения, он обозначал именно то, что хотел сказать мальчик фразой: «Ты спросишь господина Гавроша».
Услышав этот крик, он сразу вскочил, выбрался из своего «алькова», слегка отодвинул сетку, которую потом опять тщательно задвинул, затем открыл люк и спустился вниз.
Мужчина и мальчик молча встретились в темноте. Монпарнас ограничился словами:
– Ты нам нужен. Поди, помоги нам.
Мальчик не потребовал дальнейших объяснений.
– Ладно, – сказал он.
И оба отправились к Сент-Антуанской улице, откуда и появился Монпарнас; быстро шагая, они пробирались сквозь длинную цепь тележек огородников, обычно спешивших в этот час на рынок.
Сидящие в своих тележках меж грудами салата и овощей полусонные огородники, закутанные из-за проливного дождя до самых глаз в плотные балахоны, даже не заметили этих странных прохожих.
Глава 3. Перипетии побега.
Вот что случилось в ту же самую ночь в тюрьме Форс.
Бабет, Брюжон, Живоглот и Тенардье, хотя последний и сидел в одиночке, договорились о побеге. Что до Бабета, то он «обработал дело» еще днем, как это явствует из сообщения Монпарнаса Гаврошу. Монпарнас должен был помогать им всем извне.
Брюжон, проведя месяц в исправительной камере, на досуге, во-первых, ссучил веревку, во-вторых, зрело обдумал план. В прежние времена эти места строгого заключения, где тюремная дисциплина предоставляет осужденного самому себе, состояли из четырех каменных стен, каменного потолка, пола из каменных плит, походной койки, зарешеченного окошечка, обитой железом двери и назывались «карцерами»; но карцер был признан слишком гнусным учреждением; теперь же места заключения состоят из железной двери, зарешеченного окошечка, походной койки, пола из каменных плит, каменного потолка, каменных четырех стен и называются «исправительными камерами». В полдень туда проникает слабый свет. Неудобство этих камер, которые, как ясно из вышеизложенного, не суть карцеры, заключается в том, что в них позволяют размышлять тем существам, которых следовало бы заставить работать.
Итак, Брюжон поразмыслил и, выйдя из исправительной камеры, захватил с собой веревку. Его считали слишком опасным для двора Шарлемань, поэтому посадили в Новое здание. Первое, что он обрел в Новом здании, был Живоглот, второе – гвоздь; Живоглот означал преступление, гвоздь означал свободу.
Брюжон, о котором уже пора составить себе полное представление, несмотря на тщедушный свой вид и умышленную, тонко рассчитанную вялость движений, был малый себе на уме, вежливый и смышленый, а кроме того, опытный вор, с ласковым взглядом и жестокой улыбкой. Его взгляд был продиктован его волей, а улыбка – натурой. Первые опыты в своем искусстве он произвел над крышами; он далеко двинул вперед мастерство «свинцодеров», которые грабят кровли домов, срезая дождевые желоба приемом, именуемым «бычий пузырь».
Назначенный день был особенно благоприятен для попытки побега, потому что кровельщики как раз в это время перекрывали и обновляли часть шиферной крыши тюрьмы. Двор Сен-Бернар теперь уже не был совершенно обособлен от двора Шарлемань и Сен-Луи. Наверху появились строительные леса и лестницы, другими словами – мосты и ступени на пути к свободе.
Новое здание, самое потрескавшееся и обветшалое здание на свете, было слабым местом тюрьмы. Стены от сырости были до такой степени изглоданы селитрой, что в общих камерах пришлось положить деревянную обшивку на своды, потому что от них отрывались камни, падавшие прямо на койки заключенных. Несмотря на такую ветхость Нового здания, администрация, совершая оплошность, сажала туда самых беспокойных арестантов, «особо опасных», как говорится на тюремном языке.
Новое здание состояло из четырех общих камер, одна над другой, и чердачного помещения, именуемого «Вольный воздух». Широкая печная труба, вероятно из какой-нибудь прежней кухни герцогов де ла Форс, начинавшаяся внизу, пересекала все четыре этажа, разрезала надвое все камеры, где она казалась чем-то вроде сплющенного столба, и даже пробивалась сквозь крышу.
Живоглот и Брюжон жили в одной камере. Из предосторожности их поместили в нижнем этаже. Случайно изголовья их постелей упирались в печную трубу.
Тенардье находился как раз над ними, на чердаке, на так называемом «Вольном воздухе».
Прохожий, который, минуя казарму пожарных, остановится на улице Нива св. Екатерины перед воротами бань, увидит двор, усаженный цветами и кустами в ящиках; в глубине двора развертываются два крыла небольшой белой ротонды, оживленной зелеными ставнями, – сельская греза Жан-Жака. Не больше десяти лет тому назад над ротондой поднималась черная, огромная, страшная, голая стена, к которой примыкал этот домик. За нею-то и пролегала дорожка дозорных тюрьмы Форс.
Эта стена позади ротонды напоминала Мильтона, виднеющегося позади Беркена.
Как ни была высока эта стена, над ней вставала еще выше, еще чернее кровля по другую ее сторону. То была крыша Нового здания. В ней можно было различить четыре чердачных окошечка, забранных решеткой, – то были окна «Вольного воздуха». Крышу прорезала труба – то была труба, проходившая через общие камеры.
«Вольный воздух», чердак Нового здания, был своего рода огромным сараем, разделенным на отдельные мансарды, с тройными решетками на окнах и дверьми, обитыми листовым железом, сплошь усеянным шляпками огромных гвоздей. Если туда войти с северной стороны, то четыре слуховых оконца окажутся слева, а справа – четыре квадратные камеры, довольно обширные, обособленные, разделенные узкими проходами, сложенные до подоконников из кирпича, а дальше, до самой крыши, – из железных брусьев.
Тенардье сидел в одной из этих камер с ночи 3 февраля. Так никогда и не было выяснено, каким образом, благодаря чьему соучастию ему удалось раздобыть и спрятать бутылку вина, смешанного с тем снотворным зельем, которое изобрел, как говорят, Деро, а шайка «усыпителей» прославила.
Во многих тюрьмах есть служащие-предатели, не то тюремщики, не то воры, способствующие побегам, вероломные слуги полиции, наживающиеся всякими правдами и неправдами.
Итак, в ту самую ночь, когда Гаврош подобрал двух заблудившихся детей, Брюжон и Живоглот, зная, что Бабет, бежавший утром, поджидает их на улице вместе с Монпарнасом, тихонько встали и гвоздем, найденным Брюжоном, принялись сверлить печную трубу, возле которой стояли их кровати. Мусор падал на кровать Брюжона, таким образом, не было слышно никакого стука. Сильный ливень с градом и раскаты грома сотрясали двери и весьма кстати производили ужасный шум. Проснувшиеся арестанты притворились, что снова заснули, предоставив Живоглоту и Брюжону заниматься своим делом. Брюжон был ловок, Живоглот силен. Прежде чем какой бы то ни было звук достиг слуха надзирателя, спавшего в зарешеченной каморке с окошечком на камеру, стенка трубы была пробита, дымоход преодолен, железная решетка, закрывавшая верхнее отверстие трубы, взломана, и два опасных бандита оказались на кровле. Дождь и ветер усилились, крыша была скользкой.
– Хороша потьмуха для вылета! – сказал Брюжон.
Пропасть, футов шести в ширину и восьмидесяти в глубину, отделяла их от стены у дорожки дозорных. Они видели, как в глубине этой пропасти поблескивало в темноте ружье часового. Прикрепив конец веревки, сплетенной Брюжоном в одиночке, к прутьям проломленной ими решетки на верху трубы и перекинув другой конец через стену дозорных, они перескочили смелым прыжком через пропасть, уцепились за гребень стены, перевалили через нее, соскользнули друг за другом по веревке на маленькую крышу, примыкавшую к баням, подтянули веревку, спрыгнули во двор бани, перебежали его, толкнули у будки привратника форточку, подле которой висел шнур, открывавший ворота, дернули его, отворили ворота и очутились на улице.
Не прошло и часа с тех пор, как они поднялись в темноте на своих койках, с гвоздем в руке, с планом бегства в мыслях.
Несколько мгновений спустя они присоединились к Бабету и Монпарнасу, бродившим поблизости.
Подтягивая веревку к себе, они ее оборвали, и один ее конец, привязанный к трубе, остался на крыше. Итак, ничего дурного с ними не случилось, если не считать почти целиком содранной с ладоней кожи.
В эту ночь Тенардье был предупрежден, – каким образом, выяснить не удалось, – и не спал.
Около часа пополуночи, хотя ночь и была очень темна, он увидел, что по крыше, в дождь и бурю, мимо слухового оконца против его камеры промелькнули две тени. Одна из них на миг задержалась перед оконцем. То был Брюжон. Тенардье узнал его и понял. Большего ему не требовалось.
Тенардье, попавшего в рубрику весьма опасных грабителей и заключенного по обвинению в устройстве ночной засады с вооруженным нападением, зорко охраняли. Перед его камерой взад и вперед ходил сменявшийся каждые два часа караульный с заряженным ружьем. Свеча в стенном подсвечнике освещала «Вольный воздух». На ногах заключенного были железные кандалы весом в пятьдесят фунтов. Ежедневно, в четыре часа пополудни, сторож, под охраной двух догов, – в те времена так еще делалось, – входил в камеру, клал возле его койки двухфунтовый черный хлеб, ставил кружку воды и миску с жидким супом, где плавало несколько бобов, затем осматривал кандалы и проверял рукой решетку. Этот сторож со своими догами наведывался также два раза ночью.
Тенардье добился разрешения оставить при себе нечто вроде железного шипа, чтобы «прикалывать» свой хлеб к стене, втыкая конец шипа в одну из щелей. «Это, – говорил он, – убережет его от крыс». Так как Тенардье был под непрерывным наблюдением, то ничего предосудительного в этом шипе не нашли. Однако позднее вспомнили, что один сторож сказал: «Было бы лучше оставить ему деревянный шип».
В два часа ночи часового, старого солдата, сменил новичок. Немного погодя появился сторож с собаками и ушел, ничего не заметив, разве только слишком юный возраст и «глуповатый вид» этой «пехтуры» – часового. Два часа спустя, то есть в четыре часа, когда пришли сменить новичка, он спал, свалившись, как колода, на пол, возле клетки Тенардье. Самого же Тенардье в ней уже не было. Разбитые кандалы лежали на каменном полу. В потолке клетки виднелась дыра, а над нею – другая, в крыше. Одна доска из кровати была вырвана и, несомненно, унесена, так как ее не нашли. В камере также обнаружили наполовину пустую бутылку, содержавшую остаток одурманивающего вина, которым был усыплен солдат. Штык солдата исчез.
В ту минуту, когда было сделано это открытие, Тенардье считали вне пределов досягаемости. На самом же деле он хотя и был вне стен Нового здания, но далеко не в безопасности.
Добравшись до крыши Нового здания, Тенардье нашел обрывок веревки Брюжона, свисавший с решетки, закрывающей верхнее отверстие печной трубы, но этот оборванный конец был слишком короток, и он не мог перемахнуть через дорожку дозорных, подобно Брюжону и Живоглоту.
Если свернуть с Балетной улицы на улицу Сицилийского короля, то почти тотчас же направо вам встретится грязный пустырь. В прошлом столетии там находился дом, от которого осталась только задняя развалившаяся стена, достигавшая высоты третьего этажа соседних зданий. Эта развалина приметна по двум большим квадратным окнам, сохранившимся и посейчас; то, которое ближе к правому углу, перегорожено источенной червями перекладиной, напоминающей изогнутую полоску на геральдическом щите. Сквозь эти окна в прошлые времена можно было увидеть высокую мрачную стену, которая являлась частью ограды вдоль дозорной дорожки тюрьмы Форс.
Пустоту, образовавшуюся среди улицы на месте разрушенного дома, наполовину заполнял забор из сгнивших досок, подпертый пятью каменными тумбами, за ним притаилась маленькая хибарка, плотно прижавшаяся к уцелевшей стене. В заборе была калитка, несколько лет тому назад запиравшаяся только на щеколду.
На самом верху этой развалины и очутился Тенардье чуть попозже трех часов утра.
Как он добрался сюда? Этого никогда не могли ни объяснить, ни понять. Молнии должны были одновременно и мешать ему и помогать. Пользовался ли он лестницами и мостками кровельщиков, чтобы, перебираясь с крыши на крышу, с ограды на ограду, с одного участка на другой, достигнуть строений на дворе Шарлемань, потом строений на дворе Сен-Луи, потом дорожки дозорных и отсюда уже развалины на улице Сицилийского короля? Но на этом пути были такие препятствия, что преодолеть их казалось невозможным. Положил ли он доску от своей кровати в виде мостков с крыши «Вольного воздуха» на ограду дозорной дорожки и прополз на животе по гребню этой стены вокруг всей тюрьмы до самой развалины? Но стена тюрьмы Форс шла неровной и зубчатой линией. То поднимаясь, то опускаясь, она снижалась возле казармы пожарных, вздымалась подле здания бань; ее перерезали строения; она была неодинаковой высоты как над особняком Ламуаньона, так и на всей Мощеной улице, всюду на ней были скаты и прямые углы. Кроме того, часовые должны были видеть темный силуэт беглеца. Таким образом, путь, проделанный Тенардье, остается почти необъяснимым. Одним ли способом, другим ли – все равно бегство казалось невозможным. Но, воспламененный той страшной жаждой свободы, которая превращает пропасти в канавы, железные решетки в ивовые плетенки, калеку в богатыря, подагрика в птицу, тупость в инстинкт, инстинкт в разум и разум в гениальность, Тенардье, быть может, изобрел и применил третий способ? Этого никогда не узнали.
Не всегда возможно понять, каким чудом осуществляется побег. Человек, спасающийся бегством, повторяем это, вдохновлен свыше; свет неведомых звезд и зарниц указует путь беглецу; порыв к свободе не менее поразителен, чем взлет крыльев к небесам; и об убежавшем воре говорят: «Как ему удалось перебраться через эту крышу?» так же, как говорят о Корнеле: «Где он нашел эту строчку: «Пусть умирает он»?».
Как бы там ни было, обливаясь потом, промокнув под дождем, порвав одежду в лохмотья, ободрав руки, разбив в кровь локти, изранив колени, Тенардье добрался до того места разрушенной стены, которое дети на своем образном языке называют «ножиком»; там он растянулся во всю свою длину, и силы оставили его. Отвесная крутизна высотой в три этажа отделяла его от мостовой.
Взятая им с собой веревка была слишком коротка.
Он ожидал здесь, бледный, измученный, потерявший всякую надежду, пока еще скрытый ночью, но уже думая о приближающемся рассвете и испытывая ужас при мысли о том, что через несколько мгновений он услышит, как на соседней колокольне Сен-Поль пробьет четыре часа – время, когда придут сменять часового и найдут его заснувшим под пробитой крышей; в оцепенении смотрел он при свете фонарей на черневшую внизу, в страшной глубине, мокрую мостовую – желанную и пугающую мостовую, которая была и смертью и свободой.
Он спрашивал себя, удалось ли бежать его трем соучастникам, слышали ли они его, придут ли к нему на помощь? Он прислушивался. За исключением одного патруля, никто не прошел по улице с тех пор, как он был здесь. Почти все огородники из Монтрейля, Шарона, Венсена и Берси едут к рынку через улицу Сент-Антуан.
Пробило четыре часа. Тенардье вздрогнул. Немного спустя в тюрьме начался тот смутный и беспорядочный шум, который следует за обнаруженным побегом. До беглеца доносилось хлопанье открывавшихся и закрывавшихся дверей, скрежет решеток на петлях, шум переполоха и хриплые окрики тюремной стражи, стук ружейных прикладов о каменные плиты дворов. В зарешеченных окнах камер виднелись подымавшиеся и спускавшиеся с этажа на этаж огоньки. По чердаку Нового здания метался факел, из соседней казармы были вызваны пожарные. Их каски, освещенные факелом, блестели под дождем, мелькая там и сям вдоль крыш. В то же время Тенардье увидел со стороны Бастилии белесый отсвет, зловеще побеливший край неба.
А он лежал, вытянувшись на верху стены шириной в десять дюймов, под ливнем, меж двух пропастей, слева и справа, боясь шевельнуться, терзаемый страхом перед возможностью падения, отчего у него кружилась голова, и ужасом перед неминуемым арестом, и мысль его, подобно языку колокола, колебалась между двумя исходами: «Смерть, если я упаду, каторга, если я здесь останусь».
Весь во власти этой мучительной тревоги, он, хотя было еще совсем темно, вдруг увидел человека, пробиравшегося вдоль стен; миновав Мощеную улицу, тот остановился у пустыря, над которым как бы повис Тенардье. К этому человеку присоединился второй, шедший с такой же осторожностью, затем третий, затем четвертый. Когда эти люди собрались, один из них поднял щеколду дверцы в заборе, и все четверо вошли в ограду, где была хибарка. Они оказались как раз под Тенардье. Очевидно, эти люди сошлись на пустыре, чтобы переговорить незаметно для прохожих и часового, охранявшего калитку тюрьмы Форс в нескольких шагах от них. Нелишним будет отметить, что дождь держал этого стража под арестом в его будке. Тенардье не мог рассмотреть лица неизвестных и стал прислушиваться к их разговору с тупым вниманием несчастного, который чувствует себя погибшим.
Перед глазами Тенардье мелькнул слабый проблеск надежды: эти люди говорили на арго.
Первый сказал тихо, но отчетливо:
– Шлепаем дальше. Чего нам тутго маячить?
Второй отвечал:
– Этот дождь заплюет самое дедерово пекло. Да и легавые могут прихлить. Вон один держит свечу на взводе. Еще засыпемся туткайль.
Эти два слова тутго и туткайль, оба обозначавшие «тут» – первое на арго застав, второе – Тампля, были лучами света для Тенардье. По «тутго» он узнал Брюжона, «хозяина застав», а по «туткайль» – Бабета, который, не считая других своих специальностей, побывал и перекупщиком в тюрьме Тампль.
Старое арго восемнадцатого века было в употреблении только в Тампле, и только один Бабет чисто говорил на нем. Без этого «туткайль» Тенардье не узнал бы его, так как он совсем изменил свой голос.
Тем временем в разговор вмешался третий:
– Торопиться некуда. Подождем немного. Кто сказал, что он не нуждается в нашей помощи?
По этим словам, по этой правильной французской речи Тенардье узнал Монпарнаса, который простер свое изящество до понимания всех арго, однако сам не пользовался ни одним из них.
Четвертый молчал, но его выдавали широкие плечи. Тенардье не сомневался: то был Живоглот.
Брюжон возразил запальчиво, но все так же тихо:
– Что ты там звонишь? Обойщик не мог плейтовать. Он штукарить не умеет, куда ему! Расстрочить свой балахон, подрать пеленки, скрутить шнурочек, продырявить заслонки, смастерить липу, отмычки, распилить железки, вывесить шнурочек наружу, нырнуть, подрумяниться – тут нужно быть жохом! Старикан этого не может, он не деловой парень!
Бабет все на том же классическом арго, на котором говорили Пулалье и Картуш и которое относится к наглому, новому красочному и смелому арго Брюжона так же, как язык Расина к языку Андре Шенье, добавил:
– Твой обойщик сгорел. Нужно быть мазом, а это мазурик. Его провел шпик, может быть, даже наседка, с которой он покумился. Слушай, Монпарнас, ты слышишь, как вопят в академии? Видишь огни? Он завалился, ясно! Заработал двадцать лет. Я не боюсь, не трусливого десятка, сами знаете, но пора дать винта, иначе мы у них попляшем. Не дуйся, пойдем, высушим бутылочку старого винца.
– Друзей в беде не оставляют, – проворчал Монпарнас.
– Я тебе звоню, что у него боль, – ответил Брюжон. – Сейчас обойщика душа не стоит и гроша. Мы ничего не можем сделать. Смотаемся отсюда. Я уже чувствую, как фараон берет меня за шиворот.
Монпарнас сопротивлялся слабо; действительно, эта четверка, с той верностью друг другу в беде, которая свойственна бандитам, всю ночь бродила вокруг тюрьмы Форс, как ни было это опасно, в надежде увидеть Тенардье на верхушке какой-нибудь стены. Но эта ночь, становившаяся, пожалуй, уж чересчур удачной, – был такой ливень, что все улицы опустели, – пробиравший их холод, промокшая одежда, дырявая обувь, тревожный шум, поднявшийся в тюрьме, истекшее время, встреченные патрули, остывшая надежда, снова возникший страх – все это склоняло их к отступлению. Сам Монпарнас, который, возможно, приходился в некоторой степени зятем Тенардье, и тот сдался. Еще одна минута, и они бы ушли. Тенардье тяжело дышал на своей стене, подобно потерпевшему крушение с «Медузы», который, сидя на плоту, видит, как появившийся было корабль снова исчезает на горизонте.
Он не осмеливался их позвать: если бы его крик услышал часовой, это погубило бы все; но у него возникла мысль, последний чуть брезжущий луч надежды: он вытащил из кармана конец веревки Брюжона, которую отвязал от печной трубы Нового здания, и бросил ее за ограду.
Веревка упала к их ногам.
– Удавка! – сказал Бабет.
– Мой шнурочек! – подтвердил Брюжон.
– Трактирщик здесь, – заключил Монпарнас.
Они подняли глаза, Тенардье немного приподнял голову над стеной.
– Живо! – сказал Монпарнас. – Другой конец веревки у тебя, Брюжон?
– Да.
– Свяжи концы вместе, мы бросим ему веревку, он прикрепит ее к стене, этого хватит, чтобы спуститься.
Тенардье отважился подать голос:
– Я промерз до костей.
– Согреешься.
– Я не могу шевельнуться.
– Ты только скользнешь вниз, мы тебя подхватим.
– У меня окоченели руки.
– Привяжи только веревку к стене.
– Я не могу.
– Нужно кому-нибудь из нас подняться к нему, – сказал Монпарнас.
– На третий этаж! – заметил Брюжон.
Старый оштукатуренный дымоход, выходивший из печки, которую некогда топили в лачуге, тянулся вдоль стены и доходил почти до того места, где был Тенардье. Эта труба, в то время сильно потрескавшаяся и выщербленная, позже совсем обрушилась, но следы ее видны и сейчас. Она была очень узкой.
– Можно взобраться по ней, – сказал Монпарнас.
– По этой трубе? – вскричал Бабет. – Мужчине – никогда. Здесь нужен малек.
– Нужен малыш, – подтвердил Брюжон.
– Где бы найти ребятенка? – спросил Живоглот.
– Подождите, – сказал Монпарнас. – Я придумал.
Он тихонько приоткрыл калитку ограды, удостоверился, что на улице нет ни одного прохожего, осторожно вышел, закрыл за собою калитку и бегом пустился к Бастилии.
Прошло семь или восемь минут – восемь тысяч веков для Тенардье; Бабет, Брюжон и Живоглот не проронили ни слова; калитка, наконец, снова открылась, и в ней показался запыхавшийся Монпарнас в сопровождении Гавроша. Улица из-за дождя была по-прежнему совершенно пустынна.
Гаврош вошел в ограду и спокойно посмотрел на эти разбойничьи физиономии. Вода капала с его волос.
– Малыш, мужчина ты или нет? – обратился к нему Живоглот.
Гаврош пожал плечами и ответил:
– Такой малыш, как я, – мужчина, а такие мужчины, как вы, – мелюзга.
– Как у малька здорово звякает звонок! – вскричал Бабет.
– Пантенский малыш – не мокрая мышь, – добавил Брюжон.
– Ну, что же вам нужно? – спросил Гаврош.
Монпарнас ответил:
– Вскарабкаться по этой трубе.
– С этой удавкой, – заметил Бабет.
– И прикрутить шнурок, – продолжал Брюжон.
– К верху стены, – снова вступил Бабет.
– К перекладине в стекляшке, – прибавил Брюжон.
– А дальше? – спросил Гаврош.
– Все! – заключил Живоглот.
Мальчуган осмотрел веревку, трубу, стену, окна и произвел губами тот непередаваемый и презрительный звук, который обозначает:
– Только и всего!
– Там наверху человек, надо его спасти, – заметил Монпарнас.
– Согласен? – спросил Брюжон.
– Дурачок! – ответил мальчик, как будто вопрос представлялся ему оскорбительным, и снял башмаки.
Живоглот подхватил Гавроша рукой, поставил его на крышу лачуги, прогнившие доски которой гнулись под его тяжестью, и передал ему веревку, связанную Брюжоном надежным узлом во время отсутствия Монпарнаса. Мальчишка направился к трубе, в которую было легко проникнуть благодаря широкой расселине у самой крыши. В ту минуту, когда он собирался влезть в трубу, Тенардье, увидев приближающееся спасение и жизнь, наклонился над стеной; слабые лучи зари осветили его потный лоб, его посиневшие скулы, заострившийся и хищный нос, всклокоченную седую бороду, и Гаврош его узнал.
– Смотри-ка, – сказал он, – да это папаша!.. Ну ладно, пускай его!
И, взяв веревку в зубы, он решительно начал подниматься. Добравшись до верхушки развалины, он сел верхом на старую стену, точно на лошадь, и крепко привязал веревку к поперечине окна.
Мгновение спустя Тенардье был на улице.
Как только он коснулся ногами мостовой, как только почувствовал себя вне опасности, он словно и не уставал вовсе, не коченел от холода, не дрожал от страха; все ужасное, от чего он избавился, рассеялось, как дым; его странный и дикий ум пробудился и, осознав свободу, воспрянул, готовый к дальнейшей деятельности.
Вот каковы были первые слова этого человека:
– Кого мы теперь будем есть?
Не стоит объяснять смысл этого слова, до ужаса ясного, обозначавшего одновременно: убивать, мучить и грабить. Истинный смысл слова есть – это пожирать.
– Надо смываться, – сказал Брюжон. – Кончим в двух словах и разойдемся. Попалось тут хорошенькое дельце на улице Плюме, улица пустынная, дом на отшибе, сад со старой ржавой решеткой, в доме одни женщины.
– Отлично! Почему же нет? – спросил Тенардье.
– Твоя дочка Эпонина ходила туда, – ответил Бабет.
– И принесла сухарь Маньон, – прибавил Живоглот. – Делать там нечего.
– Дочка не дура, – заметил Тенардье. – А все-таки надо будет посмотреть.
– Да, да, – сказал Брюжон, – надо будет посмотреть.
Однако никто из этих людей, казалось, не обращал больше внимания на Гавроша, который во время этого разговора сидел на одном из столбиков, подпиравших забор; он подождал несколько минут, быть может, надеясь, что отец вспомнит о нем, затем надел башмаки и сказал:
– Ну все? Я вам больше не нужен, господа мужчины? Вот вы и выпутались из этой истории. Я ухожу. Мне пора поднимать своих ребят.
И он ушел.
Пять человек вышли один за другим из ограды.
Когда Гаврош скрылся из виду, свернув на Балетную улицу, Бабет отвел Тенардье в сторону.
– Ты разглядел этого малька?
– Какого малька?
– Да того, который взобрался на стену и принес тебе веревку?
– Не очень.
– Ну так вот, я не уверен, но мне кажется, что это твой сын.
– Ба, – ответил Тенардье, – ты думаешь?
Книга седьмая. Арго.
Глава 1. Происхождение.
Рigгitiа[125] – страшное слово.
Оно породило целый мир – la pégre, читайте: воровство; и целый ад – la pégrenne, читайте: голод.
Таким образом, лень – это мать.
У нее сын – воровство, и дочь – голод.
Где мы теперь? В сфере арго.
Что же такое арго? Это одновременно национальность и наречие; это воровство под двумя его личинами – народа и языка.
Когда тридцать четыре года тому назад рассказчик этой мрачной и знаменательной истории ввел в одно из своих произведений[126], написанных с такой же целью, как и это, вора, говорящего на арго, это вызвало удивление и негодующие вопли: «Как? Арго? Может ли быть! Но ведь арго – ужасно! Ведь это язык галер, каторги, тюрем, всего самого отвратительного, что только есть в обществе!» и т. д. и т. д.
Мы никогда не понимали возражений такого рода.
Потом, когда два великих романиста, один из которых являлся глубоким знатоком человеческого сердца, а другой – неустрашимым другом народа, Бальзак и Эжен Сю, заставили говорить бандитов на их естественном языке, как это сделал в 1828 году автор книги «Последний день приговоренного к смерти», снова раздались вопли. Повторяли: «Чего хотят от нас писатели с этим возмутительным наречием? Арго омерзительно! Арго приводит в содрогание!».
Кто же отрицает? Конечно, это так.
Когда речь идет о том, чтобы исследовать рану, пропасть или общество, то с каких же это пор стремление проникнуть вглубь, добраться до дна стало вызывать порицание? Мы всегда считали это проявлением мужества и, во всяком случае, делом полезным и достойным того сочувственного внимания, которого заслуживает принятый на себя и выполненный долг. Почему же не разведать все, не изучить всего, зачем останавливаться на полпути? Останавливаться – это дело зонда, а не того, в чьей руке он находится.
Конечно, отправиться на поиски в самые низы общества, туда, где кончается твердая почва и начинается грязь, рыться в этих вязких пластах, ловить, хватать и выбрасывать на поверхность совсем живым и трепещущим это вытащенное на свет божий презренное наречие, сочащееся грязью, этот гнойный словарь, где каждое слово кажется мерзким звеном какого-то кольчатого чудовища, обитателя тины и мрака, – все это задача и непривлекательная, и нелегкая. Нет ничего более удручающего, чем созерцать при свете мысли отвратительное в своей наготе кишение арго. Действительно, кажется, что пред вами предстало гнусное исчадие ночной тьмы, внезапно извлеченное из его клоаки. Вы словно видите ужасную живую и взъерошенную заросль, которая дрожит, шевелится, смотрит на вас, угрожает и требует возвращения во мрак. Вот это слово походит на коготь, другое – на потухший и кровавый глаз; вот эта фраза как будто дергается наподобие клешни краба. И все это обладает той омерзительной живучестью, которая свойственна всему зарождающемуся в разложении.
Далее, с каких это пор ужас стал исключать исследование? С каких это пор болезнь стала изгонять доктора? Можно ли представить себе естествоиспытателя, который отказался бы изучать гадюку, летучую мышь, скорпиона, сколопендру, тарантула и швырнул бы их обратно во тьму, воскликнув: «Какая гадость!» Мыслитель, отвернувшийся от арго, походил бы на хирурга, отвернувшегося от бородавки или язвы. Он был бы подобен филологу, не решающемуся заняться каким-нибудь языковым явлением, или философу, не решающемуся вникнуть в какое-нибудь явление общественной жизни. Ибо арго, – да будет известно тем, кто этого не знает, – одновременно и явление литературное, и следствие определенного общественного строя. Что же такое арго в собственном смысле? Арго – это язык нищеты.
Здесь нас могут прервать; могут обобщить приведенный факт, что иногда является средством уменьшить его значительность; могут нам сказать, что все ремесла, все профессии – к ним, пожалуй, можно было бы добавить все ступени общественной иерархии и всякую форму мышления – имеют свое арго. Торговец, который говорит: Монпелье наличный. Марсель хорошего качества; биржевой маклер, говорящий: играю на повышение, страховая премия, текущий счет; игрок, который говорит: хожу по всем, пика бита; пристав на Нормандских островах, говорящий: съемщик, на участок которого наложено запрещение, не может требовать урожая с этого участка во время заявления наследственных прав на недвижимое имущество отказчика; водевилист, заявляющий: пьесу освистали; актер, сказавший: я провалился; философ, который сказал: тройственность явления; охотник, говорящий: красная дичь, столовая дичь; френолог, сказавший: дружелюбие, войнолюбие, тайнолюбие; пехотинец, именующий ружье кларнетом; кавалерист, который называет своего коня индюшонком; учитель фехтования, говорящий: терция, кварта, выпад; типограф, сказавший: набор на шпоны, – все они, типограф, учитель фехтования, кавалерист, пехотинец, френолог, охотник, философ, актер, водевилист, пристав, игрок, биржевой маклер, торговец, говорят на арго. Живописец, который говорит: мой мазилка, нотариус, который говорит: мой попрыгун, парикмахер, который говорит: мой подручный; сапожник, который говорит: мой подпомощник, говорят на арго. В сущности, если угодно, различные способы обозначать правую и левую стороны также принадлежат арго: у матроса – штирборт и бакборт, у театрального декоратора – двор и сад, у причетника – апостольская и евангельская. Есть арго модниц, как было арго жеманниц. Особняк Рамбулье кое в чем граничит с Двором чудес. Есть арго герцогинь – свидетельством является следующая фраза в любовной записочке одной великосветской дамы и красавицы эпохи Реставрации: «Во всех этих сплетках вы найдете тьможество оснований для того, чтобы мне вызволиться».
Дипломатические шифры также составлены на арго: папская канцелярия, употребляющая цифру 26 вместо Рим, grkztntgzyal вместо отправка и abfxustgrnogrkzu tu XI вместо герцог Моденский, говорит на арго. Средневековые врачи, которые вместо морковь, редиска и репа говорили: opoponach, perfroschinum, reptitalmus, dracatholicum angelorum, postmegorum, говорили на арго. Сахарозаводчик, почтенный предприниматель, говорящий: сахарный песок, сахарная голова, клерованный, рафинад, жжёнка, бастер, кусковой, пиленый, изъясняется на арго. Известное направление в критике двадцать лет тому назад, утверждавшее: половина Шекспира состоит из игры слов и из каламбуров, говорило на арго. Поэт и художник, которые совершенно здраво определили бы г-на де Монморанси как «буржуа», если бы он ничего не смыслил в стихах и статуях, выразились бы на арго. Академик-классик, называющий цветы Флорой, плоды Помоной, море Нептуном, любовь огнем в крови, красоту прелестями, лошадь скакуном, белую или трехцветную кокарду розой Беллоны, треуголку треугольником Марса, – этот академик-классик говорит на арго. У алгебры, медицины, ботаники свое арго. Язык, употребляемый на кораблях, этот изумительный язык моряков, столь законченный и столь живописный, на котором говорили Жан Бар, Дюкен, Сюффрен и Дюпере, язык, сливающийся со свистом ветра в снастях, с ревом рупора, со стуком абордажных топоров, с качкой, с ураганом, шквалом, залпами пушек, – это настоящее арго, героическое и блестящее, которое перед пугливым арго нищеты – то же, что лев перед шакалом.
Это так. Но что бы там ни говорили, подобное понимание слова «арго» является расширенным его толкованием, с которым далеко не все согласятся. Что до нас, то мы сохраним за этим словом его прежнее точное значение, ограниченное и определенное, и отделим одно арго от другого. Настоящее арго, арго чистейшее, если только эти два слова соединимы, существующее с незапамятных времен и бывшее целым царством, есть не что иное, мы это повторяем, как уродливый, пугливый, скрытый, предательский, ядовитый, жестокий, двусмысленный, гнусный, глубоко укоренившийся роковой язык нищеты. У последней черты всех унижений и всех несчастий существует крайняя, вопиющая нищета, которая восстает и решается вступить в борьбу со всей совокупностью благополучия и господствующего права – в борьбу страшную, где то хитростью, то насилием, одновременно немощная и свирепая, она нападает на общественный порядок, вонзаясь в него шипами порока или обрушиваясь дубиной преступления. Для надобностей этой борьбы нищета изобрела язык битвы – арго.
Заставить всплыть из глубины и поддержать над бездной забвения пусть даже обрывок некогда живого языка, обреченного на исчезновение, то есть сохранить один из тех элементов, дурных или хороших, из которых слагается или которыми осложняется цивилизация, это значит расширить данные для наблюдения над обществом, это значит послужить самой цивилизации. Желая или не желая, Плавт оказал ей эту услугу, заставив двух карфагенских воинов говорить на финикийском языке; эту услугу оказал и Мольер, заставив говорить стольких своих персонажей на левантинском языке и всевозможных видах местных наречий. Здесь возражения снова оживают: «А, финикийский, чудесно! Левантинский, в добрый час! Даже местные наречия, пожалуйста! Это язык наций или провинций; но арго? Какая нужда сохранять арго? Зачем вытаскивать на свет божий арго?».
На все это мы ответим только одним. Действительно, если язык, на котором говорила нация или провинция, заслуживает интереса, то есть нечто еще более достойное внимания и изучения – это язык, на котором говорила нищета.
Это язык, на котором во Франции, к примеру, говорила более четырех столетий не только какая-нибудь разновидность человеческой нищеты, но нищета вообще, всяческая нищета.
И затем, мы настаиваем на этом, изучать уродливые черты и болезни общества, указывать на них для того, чтобы излечить, – это отнюдь не является работой, где дозволен отбор материала. Историк нравов и идей облечен миссией не менее трудной, чем историк событий. В распоряжении одного – поверхность цивилизации: он наблюдает борьбу династий, рождения престолонаследников, бракосочетания королей, битвы, законодательные собрания, крупных общественных деятелей, революции – все, что совершается на дневном свету, вовне. Другому достаются ее недра, ее глубь: он наблюдает народ, который работает, страдает и ждет, угнетенную женщину, умирающего ребенка, глухую борьбу человека с человеком, никому не ведомые зверства, предрассудки, несправедливости, принимаемые как должное подземные предупреждающие удары закона, тайное перерождение душ, смутное содрогание масс, голодающих, босяков, голяков, бездомных, безродных, несчастных и опозоренных – все эти призраки, бродящие во тьме. Ему должно нисходить туда с сердцем, исполненным милосердия и строгости одновременно, до самых непроницаемых казематов, где вперемежку пресмыкаются тот, кто истекает кровью, и тот, кто нападает, тот, кто плачет, и тот, кто проклинает, тот, кто голодает, и тот, кто пожирает, тот, кто претерпевает от зла, и тот, кто его творит. Облечены ли историки сердец и душ обязанностями меньшими, чем историки внешних событий? Допустимо ли думать, чтобы Данте мог сказать меньше, чем Макиавелли? Разве подземелья цивилизации, будучи столь глубокими и мрачными, меньше значат, нежели надземная ее часть? Можно ли хорошо знать горный кряж, если не знаешь скрытой в нем пещеры?
Впрочем, заметим это мимоходом, из предшествующих кратких замечаний могут заключить, что между двумя категориями историков есть резкое различие; однако, на наш взгляд, его не существует. Никто не может быть назван хорошим историком жизни народов, внешней, зримой, бросающейся в глаза и открытой, если он в то же время в известной мере не является историком скрытой жизни его недр; и никто не может быть назван хорошим историком внутреннего бытия, если он не сумеет стать, каждый раз, когда в этом встретится необходимость, историком бытия внешнего. История нравов и идей пронизывает историю событий и сама, в свою очередь, пронизана последней. Это два порядка различных явлений, отвечающих один другому, всегда взаимно подчиненных, а нередко и порождающих друг друга. Все черты, которыми провидение отмечает лик нации, имеют свое темное, но отчетливое соответствие в ее глубинах, и все содрогания этих глубин вызывают изменения на поверхности. Подлинная история примешана ко всему, и настоящий историк должен вмешиваться во все.
Человек – это не круг с одним центром; это эллипс с двумя средоточиями. События – одно из них, идеи – другое.
Арго – не что иное, как костюмерная, где язык, намереваясь совершить какой-нибудь дурной поступок, переодевается. Там он напяливает на себя маски-слова и лохмотья-метафоры. Таким образом, он становится страшным.
Его с трудом узнают. Неужели это действительно французский язык, великий человеческий язык? Вот он готов взойти на сцену и подать реплику преступлению, пригодный для всех постановок, которые имеются в репертуаре зла. Он уже не идет, а ковыляет; он прихрамывает, опираясь на костыль Двора чудес – костыль, способный мгновенно превратиться в дубинку; он именуется профессиональным нищим; он загримирован своими костюмерами – всеми этими призраками; он то ползет по земле, то поднимается – двойственное движение пресмыкающегося. Отныне он готов ко всем ролям: подделыватель документов сделал его косым, отравитель покрыл ярью-медянкой, поджигатель начернил сажей, а убийца подрумянил кровью своих жертв.
Если подойти изнутри к наружным дверям общества, то можно уловить разговор тех, кто по ту сторону двери. Можно различить вопросы и ответы. Можно расслышать, хоть и не понимая его смысла, отвратительный говор, звучащий почти по-человечески, но более близкий к лаю, чем к речи. Это – арго. Слова его уродливы и отмечены какой-то фантастической животностью. Кажется, слышишь говорящих гидр.
Это – непонятное в сокрытом мглою. Это скрипит и шушукается, дополняя сумерки загадкою. Глубокую тьму источает несчастие, еще более глубокую – преступление; эти две сплавленные тьмы составляют арго. Мрак вокруг, мрак в поступках, мрак в голосах. Страшен этот язык-жаба, он мечется взад и вперед, подскакивает, ползет, пускает слюну и отвратительно копошится в бесконечном сером тумане, созданном из дождя, ночи, голода, порока, лжи, несправедливости, наготы, удушья и зимы, – в тумане, заменяющем ясный полдень отверженным.
Будем же снисходительны к ним. Увы! Что представляем собою мы, мы сами? Что такое я, обращающийся к вам? Кто такие вы, слушающие меня? Откуда мы? Есть ли полная уверенность в том, что мы ничего не совершили, прежде чем родились? Земля отнюдь не лишена сходства с тюремной клеткой. Кто знает, не является ли человек преступником, вторично приговоренным к наказанию божественным судом?
Взгляните на жизнь поближе. Она создана так, что всюду чувствуется кара.
На самом ли деле вы тот, кто зовется счастливцем? Ну, так вот – вы грустны всякий день. Каждому дню своя большая печаль или своя маленькая забота. Вчера вы дрожали за здоровье того, кто вам дорог, сегодня боитесь за свое собственное, завтра вас беспокоят денежные дела, послезавтра наветы клеветника, вслед за этим – несчастие друга; потом дурная погода, потом какая-нибудь разбитая или потерянная вещь, потом удовольствие, за которое вам приходится расплачиваться муками совести и болью в позвоночнике, а иной раз – и положение государственных дел. Все это, не считая сердечных горестей. И так далее, до бесконечности. Одно облако рассеивается, другое лишь меняет очертания. На сто дней едва ли найдется один, полный неомраченной радости и солнца. А ведь вы принадлежите к небольшому числу тех, кто обладает счастьем! Что касается других людей, то ночь, беспросветная ночь над ними.
Умы, размышляющие мало, пользуются выражением: счастливцы и несчастные. В этом мире, по-видимому являющемся преддверием иного, нет счастливцев.
Правильное разделение людей таково: осиянные светом и пребывающие во мраке.
Уменьшить количество темных, увеличить количество просвещенных – такова цель. Вот почему мы кричим: «Обучения! Знания!» Научить читать – это зажечь огонь; каждый разобранный слог сверкает.
Впрочем, сказать: «свет» не всегда означает сказать: «радость». Страдают и залитые светом: его излишек сжигает. Пламя – враг крыльев. Пылать, не прекращая полета, – это и есть чудо, отмечающее гения.
Когда вы познаете, когда вы полюбите, вы будете страдать еще больше. День рождается в слезах. Осиянные светом плачут хотя бы над пребывающими во мраке.
Глава 2. Корни.
Арго – язык пребывающих во мраке.
Это загадочное наречие, одновременно позорное и бунтарское, волнует мысль в самых ее темных глубинах и приводит социальную философию к самым скорбным размышлениям. Именно на нем явственно видна печать кары. Каждый слог отмечен ею. Слова обычного языка являются в нем как бы покоробившимися и заскорузлыми под раскаленным железом палача. Некоторые как будто дымятся еще. Иная фраза производит на вас впечатление внезапно оголенного плеча вора с выжженным клеймом. Мысль почти отказывается быть выраженной этими словами-острожниками. Метафора бывает иногда столь наглой, что чувствуется ее знакомство с позорным столбом.
Но, несмотря на все это и по причине всего этого, столь странное наречие по праву занимает свое отделение в том беспристрастном хранилище, где есть место как для позеленевшего лиара, так и для золотой медали и которое именуется литературой. У арго, – согласны с этим или не согласны, – есть свой синтаксис и своя поэзия. Это язык. Если по уродливости некоторых слов можно распознать, что его коверкал Мандрен, то по блеску некоторых метонимий чувствуется, что на нем говорил Вийон.
Стихотворная строчка, столь изысканная и столь прославленная:
Написана на арго. Antan – ante annum – слово из арго Двора чудес, обозначающее прошедший год и в более широком смысле когда-то. Тридцать лет тому назад, в 1827 году, в эпоху отбытия огромной партии каторжников, еще можно было прочесть следующее изречение, нацарапанное гвоздем на стене одного из казематов Бисетра королем государства Арго, осужденным на галеры: Les dabs d’antan trimaient siempre pour la pierre du соёsге. Иными словами: Короли былых времен всегда отправлялись на коронацию. Для этого «короля» каторга и была «коронацией».
Слово décarade, означающее отъезд тяжелой кареты галопом, приписывается Вийону, и он достоин его. Это слово, будто высекающее искры, передано мастерской ономатопеей в изумительном стихе Лафонтена:
С точки зрения чисто литературной, мало какое исследование могло быть любопытней и плодотворней, чем в области арго. Это настоящий язык в языке, род болезненного нароста, нездоровый черенок, который привился, паразитическое растение, пустившее корни в древний галльский ствол и расстилающее свою зловещую листву по одной из ветвей языкового древа. Таким оно кажется на первый взгляд, таково, можно сказать, общее впечатление от арго. Но перед теми, кто изучает язык, как следует его изучать, то есть как геолог изучает землю, арго возникает подлинным напластованием. В зависимости от того, насколько глубоко разрывают это напластование, в арго под старым французским народным языком находят провансальский, испанский, итальянский, левантинский – этот язык портов Средиземноморья, английский и немецкий, романский в его трех разновидностях – романо-французской, романо-итальянской, романо-романской, латинский, наконец, баскский и кельтский. Это глубоко залегающая и причудливая формация. Подземное здание, построенное сообща всеми отверженными. Каждое отмеченное проклятием племя отложило свой пласт, каждое страдание бросило туда свой камень, каждое сердце положило свой булыжник. Толпа преступных душ, низменных или возмущенных, пронесшихся через жизнь и исчезнувших в вечности, присутствует здесь почти целиком и словно просвечивает сквозь форму какого-нибудь чудовищного слова.
Не угодно ли испанского? Древнее готское арго кишит испанизмами. Вот boffette – пощечина, происшедшее от bofeton; vantane – окно (позднее – vanterne), от vantana; gat – кошка, от gato; acite – масло, от aceyte. He угодно ли итальянского? Вот spade – шпага, происшедшее от spada; carvel – судно, от caravella. He угодно ли английского? Вот bichot – епископ, происшедшее от bishop; raille – шпион, от rascal, rascalion – негодяй; pilche – футляр, от pilcher – ножны. Не угодно ли немецкого? Вот caleur – слуга, от kellner; hers – хозяин, от herzog. He угодно ли латинского? Вот frangir – ломать, от frangere; affurer – воровать, от fur; cadène – цепь, от catena. Есть латинское слово, появлявшееся во всех европейских языках в силу какой-то загадочной верховной его власти, это слово magnus – великий; Шотландия сделала из него свое mac, обозначающее главу клана: Мак-Фарлан, Мак-Каллюмор – великий Фарлан, великий Каллюмор[129]; арго сделало из него meck, а позднее meg, то есть бог. Не угодно ли баскского? Вот gahisto – дьявол, от gaïztoa – злой; sorgabon – доброй ночи, от gabon – добрый вечер. Не угодно ли кельтского? Вот blavin – носовой платок, от blavet – брызжущая вода; ménesse – женщина (в дурном смысле), от meinec — полный камней; barant – ручей, от baranton – фонтан; goffeur – слесарь, от goff – кузнец; guédouze – смерть, от guenn-du, белое-черное. Не угодно ли, наконец, истории? Арго называет экю мальтийка в память монеты, имевшей хождение на галерах Мальты.
Кроме его филологической основы, на которую мы только что указали, у арго имеются и другие корни, еще более естественные и порожденные, так сказать, самим разумом человека.
Во-первых, прямое словотворчество. Вот где тайна созидания языка. Умение рисовать при помощи слов, которые, неведомо как и почему, таят в себе образ. Они простейшая основа всякого человеческого языка – то, что можно было бы назвать его строительным гранитом.
Арго кишит словами такого рода, словами непосредственными, созданными из всякого материала, неизвестно где и кем, без этимологии, без аналогии, без производных, – словами, стоящими особняком, варварскими, иногда отвратительными, но обладающими странной силой выразительности и живыми. Палач – кат; лес – оксим; страх, бегство – плёт; лакей – лакуза; генерал, префект, министр – ковруг; дьявол – дедер. Нет ничего более странного, чем эти слова, которые и укрывают, и обнаруживают. Некоторые, например дедер, в то же время гротескны и страшны и производят на вас впечатление какой-то гримасы циклопа.
Во-вторых, метафора. Особенностью языка, который хочет все сказать и все скрыть, является обилие образных выражений. Метафора – загадка, за которой укрывается вор, замышляющий преступление, заключенный, обдумывающий бегство. Не существует идиомы, более метафорической, чем арго. Отвинтить орех – свернуть шею; хрястать – есть; венчаться – быть судимым; крыса – тот, кто ворует хлеб; алебардит – идет дождь, старая поразительная метафора, сама в известном смысле свидетельствующая о времени своего появления, уподобляющая длинные косые струи дождя плотному строю наклоненных пик ландскнехтов и умещающая в одном слове народную метонимию: дождит алебардами. Иногда, по мере того как арго подвигается от первой стадии своего развития ко второй, слова, находившиеся в диком и первобытном состоянии, обретают метафорическое значение. Дьявол перестает быть дедером и становится пекарем – тем, кто сажает в печь. Это умнее, но мельче; нечто, подобное Расину после Корнеля и Еврипиду – после Эсхила. Некоторые выражения арго, относящиеся к обеим стадиям его развития, одновременно имеющие характер варварский и метафорический, походят на фантасмагории. Потьмушники мозгуют стырить клятуру под месяцем (бродяги ночью собираются украсть лошадь). Все это проходит перед сознанием, как группа призраков. Видишь, но что это такое – не ведаешь.
В-третьих, его изворотливость. Арго паразитирует на живом языке. Оно пользуется им, как ему вздумается, оно черпает из него наудачу и часто довольствуется, когда в этом возникает необходимость, общим грубым искажением. Нередко с помощью обычных слов, изуродованных таким образом, в сочетании со словами из чистого арго оно составляет красочные выражения, где чувствуется смесь двух упомянутых элементов – прямого словотворчества и метафоры: Кеб брешет, сдается, пантенова тарахтелка дыбает по оксиму – собака лает, должно быть, дилижанс из Парижа проезжает по лесу. Фраер – балбень, фраерша – клевая, а баруля фартовая – хозяин глуп, его жена хитра, а дочь красива. Чаще всего, чтобы сбить с толку слушателя, арго ограничивается тем, что без разбора прибавляет ко всем словам гнусный хвост, окончание на айль, орг, ерг или юш. Так: Находитайль ли выерг это жаркоюш хорошорг? – Находите ли вы это жаркое хорошим? Эта фраза была обращена Картушем к привратнику, чтобы узнать, подошла ли ему сумма, предложенная за побег. Окончание мар стали прибавлять сравнительно недавно.
Арго, будучи наречием разложения, быстро разлагается и само. Кроме того, всегда стараясь скрыть свою сущность, оно, едва почувствует себя разгаданным, преобразуется. В противоположность любой иной форме произрастания здесь луч света убивает все, к чему прикасается. Так и шествует вперед арго, непрестанно распадаясь и восстанавливаясь заново; это безвестная и проворная, никогда не останавливающаяся работа. В десять лет арго проходит путь более длинный, чем язык – за десять столетий. Таким образом larton, хлеб, становится lartif; gail, лошадь, – gaye; fertanche, солома, – fertille; momignard, малыш, – momacque; siques, одежда, – frusques; chique, церковь, – érgugeoir; colabre, шея, – colas. Дьявол сначала хаушень, потом дедер, потом пекарь; священник – скребок, потом кабан; кинжал – двадцать два, потом перо, потом булавка; полицейские – кочерги, потом жеребцы, потом рыжие, потом продавцы силков, потом легавые, потом фараоны; палач – дядя, потом Шарло, потом кат, потом костылъщик. В семнадцатом веке бить – угощать табаком, а в девятнадцатом – натабачить. Двадцать различных выражений прошли между этими двумя. Язык Картуша на слух Ласнера казался бы древнееврейским. Все слова этого языка находятся в непрерывном бегстве, подобно людям, их произносящим.
Однако время от времени, и именно вследствие этого движения, старое арго возрождается и опять становится новым. У него есть свои центры, где оно удерживается. Тюрьма Тампль сохраняла арго семнадцатого века, Бисетр в бытность свою тюрьмой хранил арго Тюнского царства. Там можно было услышать окончания на анш старых подданных этого царства. Ты пьёаншь? (ты пьешь?) Он верианш (он верит). Но вечное движение отнюдь не перестает оставаться его законом.
Если философу удается удержать на мгновение этот беспрестанно улетучивающийся язык, чтобы исследовать его, им овладевают горестные, но полезные мысли. Никакое другое исследование не бывает более действенным, более плодотворным и поучительным. Нет ни одной метафоры, ни одного корня в словах арго, которые не содержали бы наглядного урока. Среди этих людей бить означает прикидываться; они бьют болезнь – прикидываются больными; их сила – хитрость.
Для них идея человека неотделима от идеи тьмы. Ночь – потьмуха; человек – тёмник. Человек – производное от ночи.
Они привыкли рассматривать общество как среду, убивающую их, как роковую силу, и о своей свободе они говорят так, как принято говорить о своем здоровье. Арестованный человек – больной; человек осужденный – мертвый.
Самое страшное для заключенного в четырех каменных стенах, где он погребен, это некая леденящая чистота; он называет темницу чистая. В этом мрачном месте жизнь на воле всегда является ему в самом радужном свете. У заключенного на ногах кандалы; быть может, вы полагаете, что, по его мнению, ноги служат для ходьбы? Нет, он думает, что для пляски; поэтому, когда ему удается перепилить кандалы, первая его мысль – о том, что теперь он может танцевать, и он называет пилу скрипка. Имя – это сердцевина; многозначительное уподобление. У бандита две головы: та, которая обдумывает все его действия и руководит им в течение всей жизни, и та, которая ложится под нож гильотины в день его казни; голову, которая подает ему советы в преступных делах, он называет сорбонной, другую, которой он платится, отрубком. Когда у человека на теле ничего не остается, кроме лохмотьев, а в сердце – ничего, кроме пороков, когда он доходит до того двойного падения, материального и нравственного, которое характеризуется в обоих его значениях словом gueux – нищий, то он готов к преступлению, он подобен хорошо отточенному ножу с двумя лезвиями – нуждой и злобой; поэтому арго не говорит gueux, оно говорит réguisé – навостренный. Что такое каторга? Костер для осужденных на вечные муки, ад. Каторжник называется хворостьё. Наконец, каким же словом злодей называет тюрьму? Академия. Целая исправительная система может быть порождена этим словом.
У вора тоже есть свое так называемое «пушечное мясо», те, кого можно обокрасть, – вы, я, любой прохожий: pantre. (Pan – все люди.).
Хотите знать, где появилось большинство песен каторги, эти припевы, именуемые в специальных словарях lirlonfa?[130] Послушайте об этом.
В парижском Шатле существовал длинный подвал. Этот подвал находился на восемь футов ниже уровня Сены. В нем не было ни окон, ни отдушин, единственным отверстием являлась дверь; люди могли туда проникнуть, но воздух не проникал. Каменный свод служил потолком, а полом – десятидюймовый слой грязи. Подвал когда-то был вымощен, но туда просачивалась вода, и каменные плитки пола дали трещины и выкрошились. На высоте восьми футов от пола это подземелье пересекала из конца в конец длинная толстая балка; с балки, на некотором расстоянии друг от друга, свешивались цепи длиною в три фута, а к концам этих цепей были прикреплены ошейники. В подвал сажали людей, осужденных на галеры, до дня их отправки в Тулон. Их загоняли под эту балку, где каждого ожидали поблескивавшие во мраке кандалы. Цепи, будто свешивающиеся руки, и ошейники, точно открытые ладони, хватали несчастных за шею. Их заковывали и оставляли здесь. Цепь была слишком коротка и не давала им лечь. Они стояли неподвижно в этом подвале, в этой тьме, под этой перекладиной, почти повешенные, вынужденные тратить неслыханные усилия, чтобы дотянуться до куска хлеба или кружки с водой под низко нависающим над головой сводом, по щиколотку в грязи, в стекающих по телу собственных нечистотах, истерзанные усталостью, с дрожащими, подкашивающимися ногами, цепляясь руками за цепь, чтобы отдохнуть, не имея возможности уснуть иначе, как стоя, и просыпаясь каждую минуту, удушаемые ошейником. Иные из них так и не просыпались больше. Чтобы поесть, они при помощи ступни одной ноги поднимали по голени другой, пока его могла достать рука, тот хлеб, который им бросали в грязь. Сколько времени находились они в таком положении? Месяц, два месяца, иногда полгода; один пробыл год. Это была прихожая каторги. Сюда бросали за убитого в королевских лесах зайца. Что делали они в этом склепе, в этой преисподней? То, что можно было делать в склепе: умирать, и то, что можно делать в преисподней: петь. Потому что там, где нет больше надежды, остается песня. В мальтийских водах при приближении галеры сначала слышали песню, а уже потом удары весел. Бедняга браконьер Сюрвенсан, прошедший через подвальную тюрьму Шатле, говорил: Только рифмы меня и поддерживали. Говорят о бесполезности поэзии. На что, мол, нужны рифмы? Но именно в этом подвале и родились почти все песни арго. Именно в тюрьме Большого Шатле в Париже появился меланхоличный припев галеры Монгомери: Тималумизен, тимуламизон. Большинство этих песен зловещи; некоторые веселы; одна – нежная:
Сколько ни старайтесь, вы не уничтожите бессмертных останков человеческого сердца – любовь.
В этом мире темных дел хранят тайну друг друга. Тайна – общая собственность. Тайна для этих отверженных – связь, являющаяся основой их союза. Нарушить тайну – значит вырвать у каждого члена этого дикого сообщества какую-то часть его самого. Донести на энергичном языке арго обозначает съесть кусок. Словно доносчик отрывает по частице тела у всех и питается этим мясом.
Что значит дать пощечину? Обычная метафора отвечает: засветить тридцать шесть свечей. Здесь арго вмешивается и добавляет: свеча – это камуфля. Поэтому обычный разговорный язык нашел для пощечины синоним – камуфлет. Таким образом, благодаря своего рода проникновению снизу вверх, пользуясь метафорой, этой траекторией, которую невозможно вычислить, арго поднялось из пещеры до академии. Если Пулайе сказал: Я зажигаю мою камуфлю, то Вольтер писал: Ланглевьель Ла Бомель заслуживает ста камуфлетов.
Раскопки в арго – это открытие на каждом шагу. Углубленное изучение этого странного наречия приводит к таинственной точке пересечения общества добропорядочных людей с обществом людей, заклейменных проклятием.
Арго – это слово, ставшее каторжником.
Трудно поверить, чтобы мыслящее начало человека могло пасть столь низко, чтобы оно могло дать темной тирании рока связать себя по рукам и ногам и ввергнуть в бездну, чтобы оно могло тяготеть к неведомым соблазнам этой бездны.
О, бедная мысль отверженных!
Увы! Неужели в этом мраке никто не придет на помощь душе человеческой? Неужели ее судьба в том, чтобы вечно ждать духа-освободителя, исполинского всадника, правящего пегасами и гиппогрифами, одетого в цвета зари воителя, спускающегося с лазури на крыльях, радостного рыцаря будущего? Неужели она всегда будет тщетно призывать на помощь выкованное из света копье идеала? Неужели она навеки обречена с ужасом слышать, как в непроницаемой тьме этой бездны надвигается на нее Зло, и различать все яснее и яснее под отвратительными водами голову этого дракона, эту пасть, изрыгающую пену, это змеистое колыхание его когтистых лап, его вздувающихся и опадающих колец? Неужели она должна остаться там, без проблеска света, без надежды, отданная во власть приближающегося страшного чудовища, которое смутно чует ее, эта дрожащая, с разметавшимися волосами, ломающая руки, навсегда прикованная к утесу ночи печальная Андромеда, чье нагое тело белеет во мраке?
Глава 3. Арго плачущее и арго смеющееся.
Как видите, все арго целиком, как существовавшее четыре века тому назад, так и арго нынешнего дня, проникнуто тем мрачным символическим духом, который придает всем словам то жалобный, то угрожающий оттенок. В нем чувствуется древняя свирепая печаль тех нищих Двора чудес, которые употребляли для игры свои особые колоды карт; из этих игральных карт некоторые дошли до нас. Трефовая восьмерка, например, представляла собой большое дерево с восемью огромными трилистниками – род символического изображения леса. У подножия этого дерева разложен костер, на котором три зайца поджаривают воздетого на вертел охотника, а позади, на другом костре, стоит дымящийся котелок, из которого высовывается голова собаки. Нет ничего более зловещего, чем это возмездие в живописи, на игральных картах, во времена костров для поджаривания контрабандистов и кипящих котлов, куда бросали фальшивомонетчиков. Различные формы, в которые облекалась мысль в царстве арго, даже песня, даже насмешка, – все отмечены печатью бессилия и угнетенности. Все песни, напевы которых сохранились, смиренны и жалостны до слез. Вор называется бедным вором, и всегда он прячущийся заяц, спасающаяся мышь, улетающая птица. Арго почти не жалуется, оно ограничивается вздохами; одно из его стенаний дошло до нас: «Je n’entrave que le dail comment meck, le daron des orgues, peut atiger ses mômes et ses momignards et les locher criblant sans être atigé lui-même»[132]. Отверженный всякий раз, когда у него есть время подумать, ощущает свое бессилие перед лицом закона и ничтожество перед лицом общества; он пресмыкается, он умоляет, он взывает о сострадании; чувствуется, что он сознает свою вину.
К середине прошлого столетия произошла перемена. Тюремные песни, запевы воров приобрели, так сказать, дерзкие разудалые ухватки. Жалобный припев малюрэ заменился ларифля. В восемнадцатом веке почти во всех песнях галер, каторги и ссылки обнаруживается дьявольская и загадочная веселость. Их сопровождает точно светящийся фосфорическим блеском пронзительный и подпрыгивающий припев, который кажется заброшенной в лес песенкой дудящего в дудку блуждающего огонька:
Так распевали, приканчивая человека где-нибудь в погребе или в лесной глуши.
Это серьезный симптом. В восемнадцатом веке стародавняя печаль этих угрюмых слоев общества рассеивается. Они начинают смеяться. Они осмеивают и великого бога, и великого короля. В царствование Людовика XV они называют короля Франции «маркиз Плясун». Они почти веселы. Какой-то слабый свет исходит от этих отверженных, как будто совесть не тяготит их больше. Эти жалкие племена потемок отличаются не только отчаянным мужеством своих поступков, но и беззаботной дерзновенностью духа. Это служит признаком того, что они теряют чувство своей преступности и что они ощущают даже среди мыслителей и мечтателей какую-то неведомую им самим поддержку. Это служит признаком того, что грабеж и воровство начинают просачиваться даже в доктрины и софизмы, теряя при этом некоторую долю своего безобразия и щедро наделяя им доктрины и софизмы. Наконец, это служит признаком, если только не возникнет никакой помехи, пышного и близкого их расцвета.
Остановимся на мгновение. Кого мы обвиняем здесь? Восемнадцатый век? Его философию? Нет, конечно. Дело восемнадцатого века – доброе и полезное дело. Энциклопедисты, с Дидро во главе, физиократы, с Тюрго во главе, философы, с Вольтером во главе, утописты, с Руссо во главе, – это четыре священных легиона. Огромный рывок человечества вперед, к свету, – их заслуга. Это четыре передовых отряда человеческого рода, движущихся к четырем основным пунктам прогресса: Дидро к прекрасному, Тюрго к полезному, Вольтер к истинному, Руссо к справедливому. Но рядом с философами и ниже их благоденствовали софисты – ядовитая поросль, присоседившаяся к здоровым растениям, цикута в девственном лесу. В то время как палач сжигал на главной лестнице Дворца правосудия великие освободительные книги эпохи, писатели, ныне забытые, издавали с королевского разрешения бог знает какую литературу, оказывающую странное, разлагающее действие и с жадностью проглатываемую отверженными. Некоторые из этих изданий, весьма опекаемых одним принцем, – забавная подробность! – числятся в «Тайной библиотеке». Эти важные, но неизвестные факты остались не замеченными на поверхности. Порою именно сама тьма, окутывающая факт, уже говорит о его опасности. Он темен, потому что происходит в подземелье. Быть может, Ретиф де ла Бретон был из всех писателей тем, кто прорыл тогда в народных толщах самую гибельную для здоровья галерею.
Эта работа, совершавшаяся во всей Европе, произвела в Германии больше опустошения, чем где бы то ни было. В Германии в течение известного периода времени, описанного Шиллером в его знаменитой драме «Разбойники», воровство и грабеж, самовольно завладев правом протеста против собственности и труда и усвоив некоторые общеизвестные, с виду правдоподобные, но ложные по существу, кажущиеся справедливыми, но бессмысленные на самом деле идеи, облачились в них и как бы исчезли, приняв отвлеченное название и получив таким образом видимость теории; они проникали в среду трудолюбивых людей, честных и страдающих, даже без ведома неосторожных химиков, изготовивших эту микстуру, даже без ведома масс, принимавших ее. Возникновение подобного факта всякий раз означает опасность. Страдание порождает вспышки гнева, и в то время как преуспевающие классы самоослепляются или усыпляют себя, – а в одном и другом случае глаза у них закрыты, – ненависть бедствующих классов зажигает свой факел от какого-нибудь огорченного или злобного ума, размышляющего в уединении, и начинает исследовать общество. Это исследование, проводимое ненавистью, ужасно!
Отсюда, если есть на то воля роковых времен, и вытекают ужасные потрясения, некогда названные жакериями, рядом с которыми чисто политические волнения – детская игра. Это уж не борьба угнетенного с угнетателем, но стихийный бунт неблагополучия против благоденствия. И тогда все рушится.
Жакерии – это вулканические толчки в недрах народа.
Именно такой опасности, неизбежной, быть может, для Европы конца восемнадцатого века, поставила предел Французская революция – этот огромный акт человеческой честности.
Французская революция, которая есть не что иное, как идеал, вооруженный мечом, встав во весь рост, одним и тем же внезапным движением закрыла ворота зла и открыла ворота добра.
Она дала свободу мысли, провозгласила истину, развеяла миазмы, оздоровила век, венчала на царство народ.
Можно сказать, что она сотворила человека во второй раз, дав ему вторую душу – право.
Девятнадцатый век унаследовал ее дело и воспользовался им, и сегодня социальная катастрофа, на которую мы только что указывали, попросту невозможна. Слепец, кто о ней предупреждает! Глупец, кто ее страшится! Революция – это прививка против жакерии.
Благодаря революции условия общественной жизни изменились. В нашей крови нет больше болезнетворных бацилл феодализма и монархии. Нет больше Средневековья в нашем государственном строе. Мы больше не живем в те времена, когда ужасающее внутреннее брожение прорывалось наружу, когда под ногами слышались глухие перекаты непонятного гула, когда на поверхности цивилизации выступали невиданные холмы, таящие в себе подземные ходы кротов, когда почва раздавалась, когда свод пещер разверзался – и вдруг из-под земли возникали чудовищные лики.
Революционное чувство – чувство нравственное. Развившись, сознание права развивает сознание долга. Всеобщий закон – это свобода, кончающаяся там, где начинается свобода другого, согласно изумительному определению Робеспьера. С 89-го года народ, весь целиком, вырастает в некую возвышенную личность; нет бедняка, который, сознавая свое право, не видел бы проблеска света; умирающий от голода чувствует в себе честность Франции; достоинство гражданина есть его внутреннее оружие; кто свободен, тот добросовестен; кто голосует – царствует. Отсюда неподкупность; отсюда неуспех нездоровых вожделений; отсюда героически опущенные перед соблазнами глаза. Революционное оздоровление таково, что в день, возвещающий о свободе, будь то 14 июля или 10 августа, нет больше черни. Первый клич просвещенных и нравственно возвеличившихся народных масс – это «Смерть ворам!». Прогресс – честный малый; идеал и абсолют не шарят по карманам. Кто охранял в 1848 году фургоны с богатствами Тюильри? Тряпичники из Сент-Антуанского предместья. Лохмотья стояли на страже сокровищ. Добродетель придала блеск оборванцам. В этих фургонах, в ящиках, едва закрытых, а иных даже и полуоткрытых, среди сотни сверкающих драгоценностями ларцов была древняя корона Франции, вся в алмазах, увенчанная царственным бриллиантом «Регентом» и стоившая тридцать миллионов. И босые люди охраняли эту корону.
Итак, нет больше жакерии. И я соболезную ловким людям. С нею исчез тот давний страх, который в последний раз произвел свое действие и уже никогда больше не может быть применен в политике. Главная пружина красного призрака сломана. Теперь об этом знают все. Страшилище не устрашает больше. Птицы запросто обращаются с пугалом, чайки садятся на него, буржуа над ним смеются.
Глава 4. Два долга: бодрствовать и надеяться.
При всем этом рассеялась ли всякая социальная опасность? Нет, конечно. Жакерии не существует. Общество может быть спокойно в этом отношении, кровь не бросится ему больше в голову; но оно должно поразмыслить о том, как следует ему дышать. Апоплексии оно может не бояться, но есть еще чахотка. Социальная чахотка называется нищетой.
Подтачивающая изнутри болезнь не менее смертельна, чем удар молнии.
Будем же повторять неустанно: прежде всего должно думать о скорбящих и обездоленных, помогать им, дать им дышать свежим воздухом, просвещать, любить, расширять их горизонт, щедро предоставлять им во всех его формах воспитание, всегда подавать им пример трудолюбия, но никогда – праздности, уменьшать тяжесть отдельного, личного бремени, углубляя познание общей цели, ограничивать бедность, не ограничивая богатства, создавать обширное поле для общественной и народной деятельности, иметь, подобно Бриарею, сто рук, чтобы протянуть их во все стороны слабым и угнетенным, общими силами выполнить великий долг, открыв мастерские для всех сноровок, школы – для всех способностей и училища – для всех умов, увеличить заработок, облегчить труд, уравновесить дебет и кредит, то есть привести в соответствие затрачиваемые усилия и возмещение, потребности и удовлетворение, – одним словом, заставить социальную систему давать страдающим и невежественным больше света и больше благ. Вот в чем первая братская обязанность – пусть сочувствующие души этого не забывают; вот в чем первая политическая необходимость – пусть эгоистичные сердца знают об этом.
Отметим, однако, что все это – только начало. Подлинная задача такова: труд не может быть законом, не будучи правом.
Мы отмечаем это, но не развиваем свою мысль, ибо здесь это неуместно.
Если природа называется провидением, общество должно называться предвидением.
Интеллектуальный и нравственный рост не менее важен, чем улучшение материальных условий. Знание – это напутствие, мысль – первая необходимость, истина – пища, подобная хлебу. Разум, изголодавшийся по знанию и мудрости, скудеет. Пожалеем же равно и о желудках и об умах, лишенных пищи. Если есть что-либо более страшное, чем плоть, погибающая от недостатка хлеба, так это душа, умирающая от жажды света.
Прогресс в целом стремится разрешить этот вопрос. Настанет день, когда все будут изумлены. С возвышением человеческого рода глубинные его слои совершенно естественно выйдут из пояса бедствий. Уничтожение нищеты свершится благодаря простому подъему общего уровня.
Такое решение благословенно, и было бы ошибкой усомниться в нем.
Правда, сила прошлого еще очень велика в наше время. Оно опять воспрянуло духом. Это оживление трупа удивительно. Прошлое шествует вперед, оно все ближе. Оно кажется победителем; этот мертвец – завоеватель. Оно идет со своим воинством – суевериями, со своей шпагой – деспотизмом, со своим знаменем – невежеством; с некоторого времени оно выиграло десять сражений. Оно надвигается, оно угрожает, оно смеется, оно у наших дверей. Что до нас, то не будем отчаиваться. Продадим поле, где раскинул лагерь Ганнибал.
Мы верим, чего же нам опасаться?
Идеи не текут вспять, так же как и реки.
Но пусть те, кто не хочет будущего, поразмыслят над этим. Говоря прогрессу «нет», они осуждают отнюдь не будущее, а самих себя. Они приговаривают себя к мрачной болезни: они прививают себе прошлое. Есть только один способ отказаться от Завтра: это умереть.
Мы же не хотим никакой смерти: для тела – как можно позже, для души – никогда.
Да, загадка раскроется, сфинкс заговорит, задача будет решена. Да, образ народа, намеченный восемнадцатым веком, будет завершен девятнадцатым. Только глупец усомнится в этом! Будущий расцвет, близкий расцвет всеобщего благоденствия – явление, предопределенное небом.
Титанические порывы целого правят человеческими делами и приводят их все в установленное время к разумному состоянию, то есть к равновесию, то есть к справедливости. Человечество порождает силу, слагающуюся из земного и небесного, и она же руководит им; эта сила способна творить чудеса, волшебные развязки для нее не более трудны, чем необычайные превращения. С помощью науки, создаваемой человеком, и событий, ниспосылаемых кем-то другим, она мало страшится тех противоречий в постановке проблем, которые посредственности кажутся непреодолимыми. Она одинаково искусно извлекает решение из сопоставляемых идей, как и поучение из сопоставляемых фактов; можно ожидать всего от этого обладающего таинственным могуществом прогресса, который однажды дал очную ставку Востоку и Западу в глубине гробницы, заставив беседовать имамов с Бонапартом внутри пирамиды.
А пока – никаких привалов, колебаний, остановок в величественном шествии умов вперед. Социальная философия по существу есть наука и мир. Как целью, так и необходимым следствием ее деятельности является успокоение бурных страстей путем изучения антагонизмов. Она исследует, она допытывается, она расчленяет; после этого она соединяет наново. Она действует путем приведения к одному знаменателю, никогда не принимая в расчет ненависть.
Мы видели не раз, как рассеивалось общество в бешеном вихре, который обрушивается на людей: история полна крушений народов и государств; в один прекрасный день налетает это неведомое, этот ураган и уносит с собой все – обычаи, законы, религии. Цивилизации Индии, Халдеи, Персии, Ассирии, Египта исчезли одна за другой. Почему? Мы этого не знаем. В чем коренятся причины этих бедствий? Не ведаем. Могли ли быть эти общества спасены? Нет ли здесь их вины? Не были ли они привержены какому-нибудь роковому пороку, который их погубил? Сколько приходится на долю самоубийства в этой страшной смерти наций и рас? Все это вопросы без ответов. Мрак покрывает обреченные цивилизации. Раз они тонут, значит, дали течь; нам больше нечего сказать; и мы с какой-то растерянностью глядим, как в глубине этого моря, которое именуется «прошлым», за этими огромными волнами – веками, гонимые страшным дыханием, вырывающимся из всех устьев тьмы, идут ко дну исполинские корабли – Вавилон, Ниневия, Тир, Фивы, Рим. Но там – мрак, а здесь – ясность. Мы не знаем болезней древних цивилизаций, зато знаем недуги нашей. Мы имеем право освещать ее всюду; мы созерцаем ее красоты и обнажаем ее уродства. Там, где налицо средоточие боли, мы пускаем в дело зонд, и, когда недомогание установлено, изучение причины приводит к открытию лекарства. Наша цивилизация, работа двадцати веков, – одновременно чудовище и чудо; ради ее спасения стоит потрудиться. И она будет спасена. Принести ей облегчение – это уже много; дать ей свет – это еще больше. Все труды новой социальной философии должны быть доведены к этой цели. Великий долг современного мыслителя – выслушать легкие и сердце цивилизации.
Мы повторяем, такое исследование придает мужество, и настойчивым призывом к мужеству мы хотим закончить эти несколько страниц – суровый антракт в скорбной драме. Под бренностью общественных формаций чувствуется человеческое бессмертие. Земной шар не умирает оттого, что там и сям на нем встречаются раны – кратеры и лишаи – серные сопки; не умирает оттого, что вскрывшийся, подобно нарыву, вулкан извергает свою лаву, болезни народа не убивают человека.
И все же тот, кто наблюдает за социальной клиникой, порою покачивает головой. У самых сильных, самых сердечных, самых разумных иногда опускаются руки.
Настанет ли грядущее? Кажется почти естественным задать себе подобный вопрос, когда видишь такую страшную тьму. Так мрачно зрелище столкнувшихся лицом к лицу эгоистов и отверженных. У эгоистов – предрассудки, слепота, порождаемая богатством, аппетит, возрастающий вместе с опьянением, тупость и глухота в результате благоденствия, боязнь страдания, которая доходит у них до отвращения к страдающим, бесчувственная удовлетворенность, «я», столь раздувшееся, что заполняет собой всю душу; у отверженных – вожделение, зависть, ненависть при виде чужих наслаждений, неукротимые порывы человека-зверя к утолению желаний, сердца, полные мглы, печаль, нужда, обреченность, невежество, непристойное и простодушное.
Следует ли еще устремлять наш взор к небу? Не принадлежит ли различаемая нами в высоте светящаяся точка к числу тех, что должны погаснуть? Страшно видеть идеал таким затерянным в глубинах, маленьким, едва заметным, сверкающим, но одиноким среди всех этих чудовищных глыб мрака, грозно сгрудившихся вокруг него; однако он не в большей опасности, чем звезда в пасти туч.
Книга восьмая. Чары и печали.
Глава 1. Яркий свет.
Читатель понял, что Эпонина, узнав сквозь решетку обитательницу улицы Плюме, куда ее послала Маньон, начала с того, что отвела от улицы Плюме бандитов, потом направила туда Мариуса, а Мариус после нескольких дней, проведенных в восторженном состоянии у этой решетки, влекомый той силой, которая притягивает магнит к железу, а влюбленного – к камням, из которых сложено жилище его возлюбленной, проник, наконец, в сад Козетты, как Ромео в сад Джульетты. Ему это далось даже легче, чем Ромео: Ромео пришлось перелезать через стену, а Мариусу – лишь слегка нажать на один из прутьев ветхой решетки, который шатался в своем проржавленном гнезде, словно старческий зуб. Мариус был худощав и легко проскользнул в образовавшееся отверстие.
Обычно на улице почти никого не бывало, к тому же Мариус появлялся в саду только ночью, поэтому ему и не грозила опасность, что его увидят.
Начиная с того благословенного и святого часа, когда поцелуй обручил эти две души, Мариус приходил туда каждый вечер. Если бы Козетта в то время полюбила человека не слишком совестливого и развратного, она бы погибла, ибо есть щедрые сердца, отдающие себя целиком, и Козетта принадлежала к числу таких натур. Одно из великодушных свойств женщины – уступать. Любви на той высоте, где она совершенна, присуща некая дивная слепота стыдливости. Но каким опасностям подвергаетесь вы, благородные души! Часто вы отдаете сердце, мы же берем тело. Ваше сердце мы отвергаем, и вы с трепетом взираете на него во мраке. Любовь не знает середины: она или губит, или спасает. Вся человеческая судьба в этой дилемме. Никакой рок не ставит более неумолимо, чем любовь, эту дилемму: гибель или спасение. Любовь – жизнь, если она не смерть. Колыбель, но и гроб. Одно и то же чувство говорит «да» и «нет» в человеческом сердце. Из всего созданного богом именно человеческое сердце в наибольшей степени излучает свет, но, увы, оно же источает и наибольшую тьму.
По изволению божьему Козетта встретила любовь спасительную.
Пока длился май 1832 года, всякую ночь в этом запущенном скромном саду, под сенью этой чащи, с каждым днем все более благоуханной и густой, появлялись два существа, соединявшие в себе все сокровища целомудрия и невинности, полные небесного блаженства, более близкие ангелам, чем людям, чистые, благородные, опьяненные, лучезарные, сияющие один для другого во мраке. Козетте над головой Мариуса чудился венец, а Мариус вокруг Козетты видел сияние. Они прикасались друг к другу, смотрели друг на друга, держались за руки, прижимались один к другому; но был предел, которого они не преступали. Не потому, что уважали его; они не знали о нем. Мариус чувствовал преграду – чистоту Козетты, а Козетта чувствовала опору – честность Мариуса. Первый поцелуй был вместе с тем и последним. После него Мариус только прикасался губами к руке, косынке или локону Козетты! Козетта была для него ароматом, а не женщиной. Он вдыхал ее. Она ни в чем не отказывала, а он ничего не требовал. Козетта была счастлива, Мариус удовлетворен. Они жили в том восхитительном состоянии, которое можно назвать ослеплением души. То было первое невыразимое идеальное объятие двух девственных существ, двух лебедей, встретившихся на Юнгфрау.
В этот час любви, когда чувственность совершенно умолкает под всемогущим действием душевного упоения, Мариус, безупречный, ангельски-чистый Мариус был способен скорее пойти к продажной женщине, чем приподнять до щиколотки платье Козетты. Однажды, лунной ночью, Козетта наклонилась, чтобы подобрать что-то с земли, и ее корсаж приоткрылся на груди. Мариус отвел взгляд в сторону.
Что же происходило между этими двумя существами? Ничего. Они обожали друг друга.
Ночью, когда они бывали в саду, он казался местом одушевленным и священным. Все цветы раскрывались вокруг них и струили им фимиам, а они раскрывали свои души и изливали их на цветы. Сладострастная и мощная растительность, полная соков, опьяненная, трепетала вокруг этих детей, и они произносили слова любви, от которых вздрагивали деревья.
Что же это были за слова? Дуновения. И только. Этих дуновений было довольно, чтобы потрясти и взволновать природу. Магическую власть их не поймешь, читая на страницах книги эти беседы, созданные для того, чтобы быть унесенными и рассеянными, подобно дыму, ветерком, колеблющим листья. Лишите шепот двух влюбленных мелодии, которая льется из души и вторит ему, подобно лире, и останется лишь тень; вы скажете: «Только и всего?» Да, да, ребячество, повторение одного и того же, смех по пустякам, глупости, вздор, но это все, что только есть в мире возвышенного и глубокого. Единственное, что стоит труда быть произнесенным и выслушанным!
Человек, который никогда не слышал таких пустяков и таких глупостей, человек, который никогда их не произносил, – тупица и дурной человек.
Козетта говорила Мариусу:
– Знаешь?..
(При всем сказанном, несмотря на божественную их невинность, и сами не зная, как это случилось, они перешли на «ты».).
– Знаешь? Меня зовут Эфрази.
– Эфрази? Да нет же, тебя зовут Козетта.
– Нет. Козетта довольно-таки противное имя, его мне дали, когда я была маленькой. А мое настоящее имя Эфрази. Тебе разве не нравится такое имя – Эфрази?
– Нравится, но Козетта вовсе не противное имя.
– Разве тебе оно больше нравится, чем Эфрази?
– Ну… да.
– В таком случае мне тоже. Правда, это красиво, Козетта… Зови меня Козеттой.
И ее улыбка превратила этот разговор в идиллию, достойную райских кущ.
В другой раз она пристально взглянула на него и воскликнула:
– Сударь, вы прекрасны, вы красивы, вы остроумны, вы умны, вы, конечно, гораздо ученее меня, но я померяюсь с вами вот в чем: «Люблю тебя!».
И Мариусу в небесном упоении казалось, что он слышит строфу, пропетую звездой.
Или еще: легонько ударив его, когда он кашлял, она сказала:
– Не кашляйте, сударь. Я не хочу, чтобы у меня кашляли без моего позволения. Очень невежливо кашлять и тревожить меня. Я хочу, чтобы ты чувствовал себя хорошо, иначе я буду очень несчастной. Что мне тогда делать?
Все это было просто божественно.
Как-то Мариус сказал Козетте:
– Представь себе, одно время я думал, что тебя зовут Урсулой.
Они смеялись над этим весь вечер. В другой раз он среди разговора вдруг воскликнул:
– А в один прекрасный день, в Люксембургском саду, мне захотелось прикончить одного инвалида!
Но он сразу оборвал и не стал больше продолжать. Пришлось бы сказать Козетте о ее подвязке, что было для него невозможно. В этом чувствовалось неизведанное прикосновение плоти, перед которой отступала с каким-то священным ужасом эта беспредельная невинная любовь.
Мариус представлял себе жизнь с Козеттой именно так, без чего бы то ни было иного: приходить каждый вечер на улицу Плюме, отодвигать старый податливый прут решетки, садиться рядом, плечом к плечу на этой самой скамейке, смотреть сквозь деревья на мерцание спускающейся на землю ночи, прикасаться коленями к пышному платью Козетты, поглаживать ноготок ее пальчика, говорить ей «ты», по очереди с нею вдыхать запах одного и того же цветка – и так всегда, бесконечно. В это время высоко над ними проплывали облака. Всякий раз, когда подует ветер, он уносит с собой больше человеческих мечтаний, чем тучек небесных.
Но все же эта почти суровая любовь не обходилась без ухаживания. «Говорить комплименты» той, которую любишь, – это первая форма ласки, робко испытывающее себя дерзновение. Комплимент – это нечто похожее на поцелуй сквозь вуаль. Затаенная чувственность прячет в нем сладостное свое острие. Перед сладострастием сердце отступает, чтобы еще сильнее любить. Выражения нежности Мариуса, овеянные мечтой, были, если можно так выразиться, небесно-голубого цвета. Птицы, когда они летают там, в вышине, близ обители ангелов, должны слышать такие слова. К ним, однако, примешивалось все то жизненное, человеческое, положительное, на что был способен Мариус. Это были те слова, что говорятся в гроте, прелюдия к тому, что будет сказано в алькове; лирическое излияние, смешение сонета и гимна, милые гиперболы воркующего влюбленного, все утонченности обожания, собранные в букет и издающие нежный, божественный аромат, несказанный лепет сердца сердцу.
– О, – шептал Мариус, – как ты прекрасна! Я не смею смотреть на тебя. Я могу лишь созерцать тебя. Ты милость божия. Я не знаю, что со мной. Край твоего платья, из-под которого показывается кончик твоей туфельки, сводит меня с ума. А когда твоя мысль приоткрывается – какой волшебный свет разливает она! Ты удивительно умна. Иногда мне кажется, что ты сновидение. Говори, я слушаю, я восторгаюсь тобой. О Козетта! Как это странно и восхитительно! Я совсем обезумел. Вы очаровательны, сударыня. Я гляжу на твои ножки в микроскоп, а на твою душу – в телескоп.
И Козетта отвечала:
– Я люблю тебя немного больше, чем любила все время с сегодняшнего утра.
Ответы и вопросы чередовались как попало в этом разговоре, неизменно сводясь к любви, подобно тому как тяготеют к центру заряженные электричеством бузинные фигурки.
Все существо Козетты было воплощением наивности, простодушия, ясности, невинности, чистоты, света. О ней можно было сказать, что она прозрачна. На каждого, кто ее видел, она производила впечатление весны и утренней зари. В ее глазах словно блестела роса. Козетта была предрассветным сиянием в образе женщины.
Совершенно естественно, что Мариус, обожая ее, восхищался ею. Но, право, эта маленькая монастырка, прямо со школьной скамьи, беседовала с тончайшей проницательностью и порой говорила словами истины и красоты. Ее болтовня была настоящим разговором. Она не ошибалась ни в чем и судила здраво. Женщина чувствует и говорит, повинуясь кроткому инстинкту сердца, – вот откуда ее непогрешимость. Только женщина умеет сказать слова одновременно нежные и глубокие. Нежность и глубина – в этом вся женщина; в этом все небо.
Среди этого полного счастья у них каждое мгновение навертывались на глазах слезы. Раздавленная божья коровка, перо, выпавшее из гнезда, сломанная ветка боярышника вызывали жалость: их упоение, слегка повитое грустью, казалось, просило слез. Вернейший признак любви – это умиленность, иногда почти мучительная.
А наряду с этим, – подобные противоречия лишь игра света и теней в любви, – они охотно смеялись, и с такой восхитительной свободой, так непринужденно, что порой походили на двух мальчишек. И все же неведомо для сердец, опьяненных целомудрием, неусыпная природа всегда возле них. Она здесь, со своей грубой и высокой целью, и как бы ни были непорочны души, в самой невинной встрече наедине есть что-то очаровательное и таинственное, отличающее чету влюбленных от двух друзей.
Они боготворили друг друга.
Непреходящее и вечно движущееся существует одновременно. Люди любят друг друга, улыбаются друг другу, смеются, делают гримаски уголками губ, сплетают пальцы, говорят на «ты», и это не мешает вечности. Двое влюбленных скрываются в вечере, в сумерках, в невидимом, вместе с птицами, с розами; в ночи они обвораживают друг друга взглядом, в который вкладывают все свое сердце, они шепчут, они лепечут, и в это самое время необъятное, равномерное движение светил полнит бесконечность.
Глава 2. Опьянение полным счастьем.
Они жили в полусне, ошеломленные счастьем. Они не замечали холеры, опустошавшей Париж именно в этот месяц. Они доверили друг другу все, что только могли, но это «все» почти не заходило дальше сообщения их имен. Мариус сказал Козетте, что он сирота, что его зовут Мариус Понмерси, что он адвокат, что он живет писанием разных статей для книготорговцев, что его отец был полковник, герой, и что он, Мариус, поссорился со своим дедом, богачом. Однажды он сказал еще, что он барон, но это не произвело никакого впечатления на Козетту. Мариус барон? Она не поняла. Она не знала, что должно означать это слово. Мариус был Мариус. О себе же она рассказала, что воспитывалась в монастыре Малый Пикпюс, что у нее, как и у него, мать умерла, что ее отца зовут Фошлеван, что он очень добрый и много помогает беднякам, но сам беден и ограничивает себя во всем, не ограничивая ее, Козетту, ни в чем.
Как ни странно, но в той своего рода симфонии, в которую обратилась жизнь Мариуса с тех пор, как он увидел Козетту, прошлое, даже самое недавнее, стало таким смутным и далеким для него, что все рассказанное ему Козеттой вполне его удовлетворяло. Он даже не подумал рассказать ей о ночном приключении в лачуге, о Тенардье, об ожоге, странном поведении и непонятном бегстве ее отца. Мариус мгновенно позабыл все это; вечером он даже не помнил о том, что делал утром, где завтракал, с кем разговаривал; в его ушах звучали мелодии, делавшие его глухим ко всему остальному, он существовал только в те часы, когда видел Козетту. И тогда, обретая небо, он совершенно естественно забывал землю. Истомленные, они оба несли непостижимое бремя бесплотных наслаждений. Так живут те сомнамбулы, которых называют влюбленными.
Увы! Кто не испытал всего этого? Зачем наступает час, когда мы покидаем эти небеса, и зачем жизнь продолжается дальше?
Любовь почти целиком заступает место мысли. Любовь – пламенное забвение всего остального. Потребуйте-ка логики у страсти! В человеческом сердце так же трудно обнаружить безупречную логическую связь, как совершенную геометрическую фигуру в небесном механизме. Для Козетты и Мариуса не существовало ничего, кроме Мариуса и Козетты. Весь мир вокруг них рухнул в пустоту. Они жили золотым мгновением. Не было ничего впереди, ничего позади. Мариус лишь с трудом представлял себе, что у Козетты есть отец. Память его затмилась, что свойственно ослеплению. О чем же разговаривали влюбленные? Мы уже знаем: о цветах, о ласточках, о солнечном закате, о восходящей луне, о всяких важных вещах. Они сказали друг другу все, за исключением «остального». Для влюбленных «остальное» – ничто. А отец, действительная жизнь, трущоба, бандиты, недавнее приключение – к чему это? И так ли уж он уверен, что тот кошмар был реальностью? Они были вдвоем, обожали друг друга, вот и все. Ничего другого и не бывало. Возможно, ад исчезает позади нас оттого, что мы достигли рая. Разве мы видели демонов? Разве они существуют? Разве мы дрожали от ужаса? Разве мы страдали? Об этом мы уже ничего не помним. Розовая дымка застилает все.
Так и жили эти два существа на недосягаемых высотах, со всей той неправдоподобностью, которая встречается в природе: ни в надире, ни в зените, между человеком и серафимом, над земною грязью, под самым эфиром, в облаке; почти бесплотные, сама душа, само упоение; уже слишком вознесенные, чтобы ходить по земле, еще слишком обремененные естеством, чтобы исчезнуть в лазури, подобные атомам, которые находятся во взвешенном состоянии, перед тем как осесть; они жили, казалось, вне судьбы, не зная обычной колеи – вчера, сегодня, завтра; зачарованные, изнемогающие, парящие; порой такие легкие, что могли унестись в бесконечное пространство; почти готовые к полету в вечность.
Они дремали наяву в этой баюкающем плавном качании. О дивный, сладкий сон действительности, усыпленной идеалом!
Иногда, как ни хороша была Козетта, Мариус закрывал глаза в ее присутствии. Закрыть глаза – это лучший способ видеть душу.
Мариус и Козетта не задавались вопросом, куда это их может привести. Они считали, что уже достигли конца пути. У людей странное притязание: они хотят, чтобы любовь вела их куда-нибудь.
Глава 3. Первые тени.
Жан Вальжан ничего не подозревал.
Козетта, менее мечтательная, чем Мариус, была весела, и этого для Жана Вальжана было довольно, чтобы чувствовать себя счастливым. Ее мысли, ее сердечные тревоги, образ Мариуса, наполнявший ее душу, нисколько не отразились на несравненной чистоте ее прекрасного лица, невинного и улыбающегося. Она была в том возрасте, когда девушка несет свою любовь, как ангел лилию. Итак, Жан Вальжан был спокоен. Кроме того, когда между влюбленными царит согласие, все идет очень хорошо; кто-нибудь третий, кто мог бы смутить их любовь, находится в совершенном заблуждении благодаря мелким предосторожностям, всегда одинаковым у всех влюбленных. Так, Козетта никогда не возражала Жану Вальжану. Он хочет прогуляться? Прекрасно, папочка. Он хочет остаться дома? Отлично. Он хочет провести вечер с Козеттой? Она в восхищении. Обычно он уходил к себе в десять часов вечера, поэтому Мариус появлялся в саду не раньше этого часа и лишь услышав на улице, как Козетта открывает двери подъезда. Не приходится говорить, что днем Мариуса здесь никогда не видали. Жан Вальжан позабыл о существовании Мариуса. Один только раз, утром, он сказал Козетте: «Послушай, у тебя спина в чем-то белом!» Накануне вечером Мариус в порыве восторга обнял Козетту, и она нечаянно прислонилась к стене.
Старуха Тусен, рано закончив работу, сразу укладывалась в постель, помышляя лишь о сне, и точно так же, как Жан Вальжан, ничего не знала.
Мариус ни разу не заходил в дом. Когда он бывал в саду с Козеттой, то, чтобы их не услышали и не увидели с улицы, они всегда укрывались в углублении возле крыльца и сидели там; часто вместо беседы они довольствовались тем, что раз двадцать в минуту пожимали друг другу руки, глядя на ветви деревьев. Если бы в эти мгновения молния ударила в тридцати шагах от них, то они бы этого не заметили, так глубоко грезы одного погружались в грезы другого.
Невинные прозрачные души! Часы, пронизанные светом, почти всегда одинаковые. Такая любовь – это вихрь лилейных лепестков и голубиных перьев.
Между ними и улицей простирался сад. Каждый раз Мариус, приходя и уходя, тщательно вправлял прут от железной решетки на место, так что в ней не было заметно ни малейшего изъяна.
Обычно он удалялся к полночи и шел к Курфейраку. Курфейрак говаривал Баорелю:
– Можешь себе представить? Мариус начал являться домой в час ночи.
Баорель отвечал:
– Что ж такого? В тихом омуте черти водятся.
Иногда Курфейрак, принимая серьезный вид и скрестив на груди руки, говорил Мариусу:
– Молодой человек, вы сбились с пути истинного!
Курфейрак, человек деловой, неблагосклонно взирал на отблеск незримого рая на лице Мариуса; не в его обычае были неземные страсти, они выводили его из терпения, и порой он предъявлял Мариусу требование вернуться к действительности.
Однажды утром он обратился к нему со следующим увещеванием:
– Дорогой мой, сейчас ты мне кажешься человеком, поселившимся на луне, в царстве грез, в округе заблуждений, в столице Мыльные пузыри. Ну, будь же добрым малым, скажи, как ее зовут!
Но ничто не могло заставить Мариуса проговориться. Он дал бы скорее вырвать себе ногти, чем произнес бы один из трех священных слогов, составлявших волшебное имя – Козетта. Истинная любовь лучиста, как заря, и безмолвна, как могила. Однако Курфейрак видел в Мариусе новое: его сияющую счастьем молчаливость.
В течение этого сладостного мая Мариус и Козетта познали великое блаженство:
Поссориться и говорить друг другу «вы» единственно затем, чтобы с большей приятностью говорить потом «ты»;
Долго рассказывать друг другу, и в самых мельчайших подробностях, о людях, до которых им не было никакого дела, – лишнее доказательство того, что в восхитительной опере, которая зовется любовью, либретто почти ничего не значит;
Для Мариуса – слушать, как Козетта говорит о нарядах;
Для Козетты – слушать, как Мариус говорит о политике;
Прислушиваться, прижавшись друг к другу, к грохоту колясок на Вавилонской улице;
Смотреть на одну и ту же звезду в небесах или на одного и того же светляка в траве;
Вместе молчать – наслаждение еще большее, чем беседовать;
И т. д. и т. д.
Между тем надвигалась гроза.
Однажды вечером Мариус, направляясь на свидание, проходил по бульвару Инвалидов; по обыкновению, он шел опустив голову; собираясь повернуть за угол улицы Плюме, он услышал, как кто-то сказал совсем близко от него:
– Добрый вечер, господин Мариус.
Он поднял голову и узнал Эпонину.
Это произвело на него необычайное впечатление. Он ни разу не вспомнил об этой девушке с того самого дня, когда она привела его на улицу Плюме; он ее больше не видел, и она совсем исчезла из его памяти. Обязанный ей своим счастьем, он мог быть только благодарен ей, и, однако, ему была тягостна эта встреча.
Ошибочно думать, что любовь, если она счастлива и чиста, приводит человека к совершенству; она его просто ведет, мы уже это установили, к забвению. В этом состоянии человек забывает о возможности быть дурным, но он также забывает и о возможности быть хорошим. Благодарность, долг, самые значительные, самые неотвязные воспоминания исчезают. Во всякое другое время Мариус совсем иначе отнесся бы к Эпонине. Поглощенный Козеттой, он даже не совсем ясно отдавал себе отчет в том, что эта девушка называлась Эпониной Тенардье, что она носила имя, начертанное в завещании его отца, – то самое имя, для которого несколько месяцев назад он бы с такой горячностью пожертвовал собой. Мы показываем Мариуса без прикрас. Даже образ отца слегка побледнел в его душе под яркими лучами любви.
Он ответил с некоторым замешательством:
– Ах, это вы, Эпонина?
– Почему вы мне говорите «вы»? Разве я вам сделала что-нибудь дурное?
– Нет, – ответил он.
Конечно, он ничего не имел против нее. Ровно ничего. Но только он чувствовал, что теперь не мог поступить иначе: говоря «ты» Козетте, он должен был говорить «вы» Эпонине.
Он молча смотрел на нее. Она воскликнула:
– Скажите же…
Тут она запнулась. Можно было подумать, что этому созданию, такому беззаботному и дерзкому когда-то, недоставало слов. Она пыталась улыбнуться и не могла.
– Ну!.. – снова начала она.
Потом опять замолчала, потупив глаза.
– Покойной ночи, господин Мариус, – вдруг резко сказала она и ушла.
Глава 4. Кеб по-английски – то, что катится, а на арго – то, что лает.
На следующий день, это было 3 июня, а 3 июня 1832 года – дата, которую следует указать по причине важных событий, нависших в ту эпоху грозовыми тучами над горизонтом Парижа, Мариус, с наступлением темноты, шел той же дорогой, что и накануне, полный тех же восторженных мыслей; вдруг между деревьями бульвара он заметил приближавшуюся к нему Эпонину. Два дня подряд – это уже было слишком. Он быстро свернул в сторону, оставил бульвар, пошел другой дорогой и направился к улице Плюме по улице Принца.
Вот почему Эпонина последовала за ним до самой улицы Плюме, чего она еще ни разу не делала. До сих пор она удовлетворялась тем, что смотрела на него, когда он проходил по бульвару, не стараясь даже встретиться с ним. И лишь накануне она попыталась с ним заговорить.
Итак, Эпонина пошла за ним, а он этого не заметил. Она увидела, как Мариус отодвинул прут решетки и проскользнул в сад.
– Смотри-ка! – сказала она про себя. – Идет к ней в дом!
Она подошла к решетке, пощупала один за другим прутья и без труда нашла тот, который отодвинул Мариус.
Вполголоса, мрачным тоном, она пробормотала:
– Ну нет, черта с два!
Она уселась на цоколе решетки, рядом с прутом, словно охраняя его. Это было в том темном уголке, где решетка соприкасалась с соседней стеной и где Эпонину разглядеть было невозможно.
Так она провела больше часа, не двигаясь, затаив дыхание, терзаясь своими мыслями.
Часов в десять вечера один из двух или трех прохожих на улице Плюме, старый запоздавший буржуа, торопившийся поскорее миновать это пустынное место, пользовавшееся дурной славой, поравнялся с решеткой сада и, подойдя к углу между решеткой и стеной, услышал глухой и угрожающий голос:
– Можно поверить, что он приходит сюда каждый вечер!
Прохожий осмотрелся кругом, никого не увидел, не отважился посмотреть в этот черный угол и очень испугался. Он ускорил шаги.
Прохожий имел основания торопиться, потому что немного времени спустя на углу улицы Плюме показались шесть человек, шедших порознь на некотором расстоянии друг от друга у самой стены; их можно было принять за подвыпивший ночной дозор.
Первый, подойдя к решетке сада, остановился и подождал остальных; через минуту здесь сошлись все шестеро.
Эти люди начали тихо переговариваться.
– Туткайль, – сказал один из них.
– Есть ли кеб в саду? – спросил другой.
– Не знаю. На всякий случай я захватил шарик. Дадим ему сжевать.
– Есть у тебя мастика, чтобы высадить стекляшку?
– Да.
– Решетка старая, – добавил пятый, говоривший голосом чревовещателя.
– Тем лучше, – сказал второй. – Значит, не завизжит под скрипкой, и ее нетрудно будет разделать.
Шестой, до сих пор еще не открывавший рта, принялся исследовать решетку, как это делала Эпонина час тому назад, последовательно пробуя каждый прут и осторожно раскачивая его. Таким образом он дошел до прута, который был расшатан Мариусом. Лишь только он собрался схватить этот прут, чья-то рука, внезапно появившаяся из темноты, опустилась на его плечо, он почувствовал резкий толчок прямо в грудь, и хриплый голос негромко произнес:
– Здесь есть кеб.
И тут же он увидел стоявшую перед ним бледную девушку.
Он испытал то потрясение, которое свойственно вызывать неожиданности. Он словно весь ощетинился; нет ничего отвратительней и страшней зрелища потревоженного хищного зверя; один его испуганный вид уже пугает. Отступив, он пробормотал заикаясь:
– Это еще что за потаскуха?
– Ваша дочь.
Действительно, то была Эпонина, а говорила она с Тенардье.
При появлении Эпонины пять остальных, то есть Звенигрош, Живоглот, Бабет, Монпарнас и Брюжон, бесшумно приблизились, не спеша, молча, со зловещей медлительностью, присущей людям ночи.
В их руках можно было различить какие-то мерзкие инструменты. Живоглот держал кривые щипцы, которые у воров называются «косынкой».
– Ты что здесь делаешь? Чего тебе от нас надо? С ума сошла, что ли? – приглушенным голосом воскликнул Тенардье. – Пришла мешать нам работать?
Эпонина расхохоталась и бросилась ему на шею.
– Я здесь, милый папочка, потому что я здесь. Разве мне запрещается посидеть на камушках? А вот вам тут нечего делать. Зачем вы сюда пришли, раз тут сухарь? Ведь я сказала Маньон: «Здесь нечего делать». Ну, поцелуйте же меня, дорогой папочка! Как я давно вас не видела! Значит, вы на воле?
Тенардье попытался высвободиться из объятий Эпонины и прорычал:
– Отлично. Ты меня поцеловала, и хватит. Да, я на воле. Уже не в неволе. А теперь ступай.
Но Эпонина не отпускала его и удвоила свою нежность:
– Папочка, как же вы это устроили? Какой вы умный, если сумели оттуда выбраться! Расскажите мне про это! А мама? Где мама? Скажите же, что с маменькой?
Тенардье ответил:
– Она здорова, впрочем, не знаю, говорю тебе, пусти меня и проваливай.
– Ни за что не хочу уходить, – жеманничала Эпонина с видом балованного ребенка, – вы прогоняете меня, а я не видела вас четыре месяца и едва успела разок поцеловать.
И она снова обняла отца за шею.
– Ах, черт, как это глупо! – не выдержал Бабет.
– Мы теряем время! – крикнул Живоглот. – Того и гляди, появятся легавые.
Голос чревовещателя продекламировал следующее двустишие:
Эпонина повернулась к пяти бандитам.
– Смотри-ка, да это господин Брюжон! Здравствуйте, господин Бабет. Здравствуйте, господин Звенигрош. Разве вы меня не узнаете, господин Живоглот? Как поживаешь, Монпарнас?
– Не беспокойся, все тебя узнали! – проворчал Тенардье. – Здравствуй и прощай, брысь отсюда! Оставь нас в покое.
– В этот час курам спать, а лисицам гулять, – сказал Монпарнас.
– Ты сама понимаешь, нам надо тутго поработать, – прибавил Бабет.
Эпонина схватила за руку Монпарнаса.
– Берегись! Обрежешься – у меня перо в руке, – предупредил тот.
– Монпарнас, миленький, – кротко ответила Эпонина, – люди должны доверять друг другу. Разве я не дочь своего отца? Господин Бабет, господин Живоглот, ведь это мне поручили выяснить дело.
Примечательно, что Эпонина не говорила больше на арго. С тех пор как она познакомилась с Мариусом, этот язык стал для нее невозможен.
Своей маленькой, слабой и костлявой рукой, похожей на руку скелета, она сжала толстые грубые пальцы Живоглота и продолжала:
– Вы же знаете, что я не дура. Мне же всегда доверяют. Я вам оказывала при случае услуги. Ну так вот, я навела справки. Видите ли, вы зря подвергаете себя опасности. Ей-богу, вам нечего делать в этом доме.
– Там одни женщины, – сказал Живоглот.
– Нет. Все выехали.
– А свечи остались! – заметил Бабет.
И он показал Эпонине на свет, мелькавший сквозь верхушки деревьев на чердаке флигеля. Это бодрствовала Тусен, развешивавшая белье для просушки.
Эпонина сделала последнюю попытку.
– Ну и что ж! – сказала она. – Там совсем бедные люди, это домишко, где не найдешь ни одного су.
– Пошла к черту! – закричал Тенардье. – Когда мы перевернем весь дом вверх дном, тогда мы тебе скажем, что там есть: рыжики, беляки или медный звон.
И он оттолкнул ее, чтобы пройти вперед.
– Господин Монпарнас, дружочек, – сказала Эпонина, – вы такой славный малый, прошу вас, не ходите туда!
– Берегись, напорешься на нож! – ответил Монпарнас.
Тенардье свойственным ему решительным тоном заявил:
– Проваливай, бесовка, и предоставь мужчинам делать свое дело.
Эпонина отпустила руку Монпарнаса, за которую она снова было уцепилась, и сказала:
– Значит, вы хотите войти в этот дом?
– Только всунуть нос! – ухмыляясь, заметил чревовещатель.
Тогда она прислонилась спиной к решетке, став лицом к вооруженным до зубов бандитам, которым ночь придавала сходство с демонами, и тихим твердым голосом сказала:
– Ну, а я не хочу.
Они остолбенели от изумления. Чревовещатель, однако, все еще посмеивался. Она заговорила снова:
– Друзья, послушайте хорошенько! Не в том дело. Теперь я вам скажу. Если вы войдете в этот сад, если дотронетесь до этой решетки, я закричу, начну стучать в ворота, подыму народ, кликну полицейских, сделаю так, что вас захватят всех шестерых.
– С нее станется, – тихо сказал Тенардье Брюжону и чревовещателю.
Она тряхнула головой и прибавила:
– Начиная с моего папеньки!
Тенардье подошел к ней.
– Подальше от меня, старикан! – предупредила она.
Он отступил, ворча сквозь зубы: «Какая муха ее укусила?» И прибавил:
– Сука!
Она рассмеялась ужасным смехом.
– Как вам угодно, а все-таки вы не войдете. Я не сука, потому что я дочь волка. Вас шестеро, но что мне до того? Вы мужчины. Ну так вот: я женщина. И я вас не боюсь, не думайте. Говорю вам, вы не войдете в этот дом, потому что мне это не нравится. Только подойдите, я залаю. Я вам объяснила уже: кеб – это я. Плевать мне на вас на всех. Идите своей дорогой, вы мне надоели! Проваливайте куда хотите, но сюда не являйтесь, я вам это запрещаю! Вы меня ножом, а я вас туфлей, мне все равно. Ну-ка, попробуйте, подойдите!
Расхохотавшись, она шагнула навстречу бандитам, вид ее был ужасен.
– Ей-ей, не боюсь! Все одно, нынче летом мне голодать, а зимою мерзнуть. Просто смех с этим дурачьем – мужчинами! Они думают, что их может бояться девка! Бояться – чего? Как бы не так! Это потому, что ваши кривляки-любовницы лезут со страху под кровать, когда вы рычите, так, что ли? А я не таковская, ничего не боюсь!
Она уставилась пристальным взглядом на Тенардье и сказала:
– Даже и вас, папаша!
Потом, окидывая бандитов горящими глазами призрака, продолжала:
– Не все ли мне равно, подберут меня завтра, зарезанной моим отцом, на мостовой Плюме, или же найдут через год в сетках Сен-Клу, а то и у Лебяжьего острова среди старых сгнивших пробок и утопленных собак!
Тут она вынуждена была остановиться, припадок сухого кашля потряс ее, дыхание с хрипом вырывалось из узкой и хилой груди.
– Стоит мне только крикнуть, – продолжала она, – сюда прибегут, и – хлоп! Вас только шестеро, а за меня весь народ.
Тенардье двинулся к ней.
– Не подходить! – крикнула она.
Он остановился и кротко сказал ей:
– Ну хорошо, не надо. Я не подойду, только не кричи так громко. Дочка, значит, ты хочешь помешать нам поработать? Ведь нужно же нам добыть на пропитание. Ты, значит, больше не любишь своего отца?
– Вы мне надоели, – ответила Эпонина.
– Нужно ведь нам как-никак жить, есть…
– Подыхайте.
И она уселась на цоколь решетки, напевая:
Облокотившись на колено и подперев ладонью подбородок, она с равнодушным видом покачивала ногой. Сквозь разорванное платье виднелись худые ключицы. Ближний фонарь освещал ее профиль и позу. Трудно было представить себе что-либо более непреклонное и поразительное.
Шесть грабителей, мрачные и озадаченные этой девчонкой, державшей их в страхе, отошли в тень фонарного столба и стали совещаться, пожимая плечами, униженные и рассвирепевшие.
А она спокойно и сурово глядела на них.
– Что-то ей засело в башку, – сказал Бабет. – Есть какая-то причина. Влюблена она, что ли, в хозяина? А все же досадно упустить такой случай. Две женщины, на заднем дворе старик; на окнах неплохие занавески. Старик, должно быть, еврей. Я полагаю, что дельце тут выгодное.
– Ладно, вы все ступайте туда! – вскричал Монпарнас. – Делайте дело. С девчонкой останусь я, а если она шевельнется…
И при свете фонаря блеснул открытый нож, вытащенный из рукава.
Тенардье не говорил ни слова и, видимо, был готов на все.
Брюжон, который слыл у них оракулом и, как известно, «навел на дело», пока еще молчал. Он, казалось, задумался. У него была слава человека, который ни перед чем не останавливается, и всем было известно, что только из удальства он ограбил начисто полицейский пост. Вдобавок он сочинял стихи и песни, поэтому пользовался большим авторитетом.
Бабет спросил его:
– А ты что скажешь, Брюжон?
Брюжон с минуту помолчал, потом, повертев головой, наконец решился подать голос:
– Вот что. Сегодня утром я наткнулся на двух дравшихся воробьев, а вечером наскочил на задиристую бабу. Все это не к добру. Уйдем отсюда.
Они ушли.
По дороге Монпарнас пробормотал:
– Все равно, если б нужно было, я бы ее прикончил.
Бабет ответил:
– А я нет. Дамочек я не трогаю.
На углу улицы они остановились и, понизив голос, обменялись следующими загадочными словами:
– Где будем ночевать сегодня?
– Под Пантеном.
– Тенардье, при тебе ключ от решетки?
– А то у кого же!
Эпонина, не спускавшая с них глаз, увидела, как они отправились той же дорогой, что и пришли. Она встала и, пробираясь вдоль заборов и домов, последовала за ними. Так она проводила их до бульвара. Там они разошлись в разные стороны, и она увидела, как эти шесть человек потонули во мраке, словно растворились в нем.
Глава 5. Что таится в ночи.
После ухода бандитов улица Плюме снова приняла свой мирный ночной облик. То, что сейчас произошло на этой улице, нисколько не удивило бы лес. Высокоствольные чащи, кустарники, вересковые заросли, тесно переплетенные ветви, высокие травы ведут сумрачное существование; копошащаяся дикая жизнь улавливает здесь внезапное появление незримого; то, что ниже человека, сквозь туман различает то, что над человеком; и вещам, неведомым нам – живым, там, в ночи, дается очная ставка. Дикая и ощетинившаяся природа пугается приближения чего-то, в чем она чувствует сверхъестественное. Силы тьмы знают друг друга, и между ними существует таинственное равновесие. Зубы и когти опасаются неуловимого. Кровожадная животность, ненасытные вожделения, алчущие добычи, вооруженные когтями и зубами инстинкты, чей источник и цель – чрево, с беспокойством принюхиваются, приглядываются к бесстрастному, призрачному, блуждающему очерку существа, облаченного в саван, которое возникает перед ними в туманном, колеблющемся своем одеянии и, чудится им, живет мертвой и страшной жизнью. Эти твари, воплощение грубой материи, смутно боятся иметь дело с необъятной тьмой, сгустком которой является неведомое существо. Черная фигура, преграждающая путь, сразу останавливает хищного зверя. Выходцы из могилы пугают и смущают выходца из берлоги; свирепое боится зловещего; волки пятятся перед оборотнем.
Глава 6. Мариус возвращается к действительности в такой мере, что дает Козетте свой адрес.
В то время как эта разновидность дворняжки в человеческом облике караулила решетку и шесть грабителей отступили перед девчонкой, Мариус сидел возле Козетты.
Никогда еще небо не бывало таким звездным и прекрасным, деревья такими трепетными, запах трав таким пряным; никогда шорох птиц, засыпавших в листве, не казался таким нежным; никогда безмятежная гармония вселенной не отвечала так внутренней музыке любви; никогда Мариус не был так влюблен, так счастлив, так восхищен. Но он застал Козетту печальной. Козетта плакала.
Ее глаза покраснели.
То было первое облако над восхитительной мечтой.
– Что с тобой? – были первые слова Мариуса.
– Сейчас, – начала она и, опустившись на скамью возле крыльца, пока он, трепеща от волнения, усаживался рядом с нею, продолжала: – Сегодня утром отец велел мне быть готовой, он сказал, что у него дела и что нам, может быть, придется уехать.
Мариус задрожал с головы до ног.
В конце жизни «умереть» – означает «расстаться»; в начале ее «расстаться» – означает «умереть».
В течение полутора месяцев Мариус мало-помалу, медленно, постепенно, с каждым днем все более овладевал Козеттой. Это было чисто духовное, но совершенное обладание. Как мы уже объяснили, в пору первой любви душой овладевают гораздо раньше, чем телом; позднее телом овладевают гораздо раньше, чем душой, иногда же о душе и вовсе забывают. «Потому что ее нет», – прибавляют Фоблазы и Прюдомы, но, к счастью, этот сарказм – простое кощунство. Итак, Мариус обладал Козеттой, как обладают духи; но он заключил ее в свою душу и ревниво владел ею, непоколебимо убежденный в своем праве на это. Он обладал ее улыбкой, ее дыханием, ее благоуханием, чистым сиянием ее голубых глаз, нежностью кожи, когда ему случалось прикоснуться к ее руке, очаровательной родинкой на ее шее, всеми ее мыслями. Они условились всякую ночь видеть друг друга во сне – и держали слово. Таким образом, он обладал и всеми снами Козетты. Он беспрестанно заглядывался на короткие завитки на ее затылке, иногда касался их своим дыханием и говорил себе, что каждый из этих завитков принадлежит ему, Мариусу. Он благоговейно созерцал все, что она носила: ленту, завязанную бантом, перчатки, рукавчики, ботинки – все эти священные вещи, хозяином которых он был. Он думал, что был обладателем красивых черепаховых гребенок в ее волосах, и даже твердил про себя, – то был глухой и смутный лепет пробивающейся чувственности, – что нет ни одной тесемки на ее платье, ни одной петельки в ее чулках, ни одной складки на ее корсаже, которые бы ему не принадлежали. Рядом с Козеттой он чувствовал себя возле своего достояния, возле своей вещи, возле своей повелительницы и рабыни. Казалось, их души настолько слились, что если бы им захотелось взять их обратно, то они не могли бы признать. «Это моя». – «Нет, это моя». – «Уверяю тебя, ты ошибаешься. Это, конечно, я». – «То, что ты принимаешь за себя, – я». Мариус был какою-то частью Козетты, а Козетта – какою-то частью Мариуса. Мариус чувствовал, что Козетта живет в нем. Иметь Козетту, владеть Козеттой для него было то же самое, что дышать. И вот в эту веру, в это опьянение, в это целомудренное обладание, неслыханное, безраздельное, в это владычество вдруг ворвались слова: «Нам придется уехать», и резкий голос действительности крикнул ему: «Козетта – не твоя!».
Мариус пробудился от сна. В продолжение полутора месяцев он, как мы говорили, жил вне жизни; слово «уехать» грубо вернуло его к этой жизни.
Он не знал, что сказать. Козетта почувствовала лишь, что его рука стала холодной, как лед. И теперь уже она спросила его:
– Что с тобой?
Он ответил так тихо, что Козетта едва расслышала:
– Я не понимаю, что ты говоришь.
Она повторила:
– Сегодня утром отец велел мне собрать все мои вещи и быть готовой; он сказал, чтобы я уложила его белье в дорожный сундук, что ему надо уехать и мы уедем, что нам нужны дорожные сундуки, большой для меня и маленький для него, что все это должно быть готово через неделю и что, может быть, мы отправимся в Англию.
– Но ведь это чудовищно! – воскликнул Мариус. Несомненно, в эту минуту в представлении Мариуса ни одно злоупотребление властью, ни одно насилие, никакая гнусность самых изобретательных тиранов, никакой поступок Бюзириса, Тиберия и Генриха VIII по жестокости не могли сравниться с поступком г-на Фошлевана, намеревавшегося увезти свою дочь в Англию только потому, что у него там есть какие-то дела.
Он спросил упавшим голосом:
– И когда же ты уедешь?
– Он не сказал когда.
– И когда же ты вернешься?
– Он не сказал когда.
Мариус встал и холодно спросил:
– Козетта, вы поедете?
Козетта взглянула на него своими голубыми глазами, полными мучительной тоски, и сказала с какой-то растерянностью:
– Куда?
– В Англию? Вы поедете?
– Почему ты мне говоришь «вы»?
– Я спрашиваю вас, поедете ли вы?
– Но что же мне делать, скажи? – ответила она, умоляюще сложив руки.
– Значит, вы едете?
– А если отец поедет?
– Значит, вы едете?
Козетта молча взяла руку Мариуса и крепко сжала ее.
– Хорошо, – сказал Мариус. – Тогда и я уеду куда-нибудь.
Козетта скорее почувствовала, чем поняла смысл этих слов. Она так побледнела, что ее лицо казалось совершенно белым даже в темноте. Она пролепетала:
– Что ты хочешь сказать?
Мариус взглянул на нее, потом медленно поднял глаза к небу и ответил:
– Ничего.
Опустив глаза, он увидел, что Козетта улыбается ему. Улыбка любимой женщины сияет и во тьме.
– Какие мы глупые! Мариус, я придумала.
– Что?
– Если мы уедем, и ты уедешь! Я тебе скажу куда. Мы встретимся там, где я буду.
Теперь Мариус стал мужчиной, пробуждение было полным. Он вернулся на землю.
– Уехать с вами! – крикнул он Козетте. – Да ты с ума сошла! Ведь на это нужны деньги, а у меня их нет! Поехать в Англию? Но я сейчас должен, кажется, больше десяти луидоров Курфейраку, одному моему приятелю, которого ты не знаешь! На мне старая грошовая шляпа, на моем сюртуке спереди недостает пуговиц, рубашка вся изорвалась, локти протерлись, сапоги пропускают воду; уже полтора месяца, как я перестал думать об этом, я тебе ничего не говорил. Козетта, я нищий! Ты видишь меня только ночью и даришь мне свою любовь; если бы ты увидела меня днем, ты подарила бы мне су. Поехать в Англию! Да мне нечем заплатить за паспорт!
Едва держась на ногах, заломив руки над головой, он шагнул к дереву, прижался к нему лицом, не чувствуя ни жесткой коры, царапавшей ему лицо, ни лихорадочного жара, от которого кровь стучала в висках, и застыл, напоминая статую отчаяния.
Долго стоял он так. Подобное горе – бездна, порождающая желание остаться в ней навеки. Наконец он обернулся. Ему послышался легкий приглушенный звук, нежный и печальный.
То рыдала Козетта.
Уже больше двух часов плакала она возле погруженного в горестные думы Мариуса.
Он подошел к Козетте, упал на колени и, медленно склонившись перед нею, поцеловал кончик ее ноги, выступавший из-под платья.
Она молча позволила ему это. Бывают минуты, когда женщина принимает поклонение любви, словно мрачная и бесстрастная богиня.
– Не плачь, – сказал он.
Она прошептала:
– Ведь мне, может быть, придется уехать, а ты не можешь приехать ко мне!
– Ты любишь меня? – спросил он.
Рыдая, она ответила ему теми райскими словами, которые всего пленительнее, когда их шепчут сквозь слезы:
– Я обожаю тебя!
Голосом, звучавшим невыразимой нежностью, он продолжал:
– Не плачь. Ну, ради меня не плачь!
– А ты? Ты любишь меня? – спросила она.
Он взял ее за руку.
– Козетта, я никогда никому не давал честного слова, потому что боюсь это делать. Я чувствую рядом с собой отца. Ну так вот, я даю тебе честное слово, самое нерушимое: если ты уедешь, я умру.
В тоне, каким он произнес эти слова, слышалась скорбь, столь торжественная и спокойная, что Козетта вздрогнула. Она ощутила тот холод, который ощущаешь, когда нечто мрачное и непреложное, как судьба, проносится мимо. Испуганная, она перестала плакать.
– Теперь слушай, – сказал он. – Не жди меня завтра.
– Почему?
– Ожидай меня только послезавтра.
– Почему же?
– Потом поймешь.
– Целый день не видеть тебя! Это невозможно.
– Пожертвуем одним днем, чтобы выиграть, быть может, целую жизнь. – И Мариус вполголоса, как бы про себя, прибавил: – Этот человек никогда не изменяет своим привычкам, он принимает только вечером.
– О ком ты говоришь? – спросила Козетта.
– Я? Я ничего не сказал.
– На что же ты надеешься?
– Подожди до послезавтра.
– Ты этого хочешь?
– Да.
Она охватила его голову руками и, приподнявшись на цыпочки, чтобы стать повыше, пыталась прочесть в его глазах то, что составляло его надежду.
Мариус заговорил снова:
– Я вот о чем думаю. Тебе надо знать мой адрес, мало ли что может случиться. Я живу у моего приятеля, Курфейрака, по Стекольной улице, номер шестнадцать.
Он порылся в кармане, вытащил перочинный нож и лезвием вырезал на штукатурке стены:
Стекольная улица, № 16.
Между тем Козетта снова принялась смотреть ему в глаза.
– Скажи мне, что ты задумал, Мариус, ты о чем-то думаешь. Скажи, о чем? О, скажи мне, иначе я дурно проведу ночь!
– О чем я думаю? Вот о чем: невозможно, чтобы бог хотел нас разлучить. Жди меня послезавтра.
– Что же я буду делать до тех пор? – спросила Козетта. – Ты где-то там, приходишь, уходишь. Какие счастливцы мужчины! А я останусь совсем одна. Как мне будет грустно! Что же ты будешь делать завтра вечером? Скажи.
– Я попытаюсь кое-что предпринять.
– А я буду молиться, буду думать о тебе все время и желать тебе успеха. Я не стану тебя больше расспрашивать, раз ты этого не хочешь. Ты мой повелитель. Завтра весь вечер я буду петь из «Эврианты» то, что ты любишь и что, помнишь, однажды вечером подслушивал у моего окна. Но послезавтра приходи пораньше. Я буду ожидать тебя к ночи, ровно в девять часов, имей это в виду. Боже мой, как грустно, что дни такие длинные! Так слышишь, ровно в девять часов я буду в саду.
– И я тоже.
И безотчетно, движимые одной и той же мыслью, увлекаемые теми электрическими токами, которые держат любовников в непрерывном общении, оба, в самой своей скорби опьяненные страстью, упали в объятия друг друга, не замечая, что уста их слились, тогда как восторженные и полные слез взоры созерцали звезды.
Когда Мариус ушел, улица была пустынна. В это время Эпонина шла следом за бандитами, провожая их до самого бульвара.
Пока Мариус, прижавшись лицом к дереву, размышлял, у него мелькнула мысль – мысль, которую – увы! – он сам считал вздорной и невозможной. Он принял отчаянное решение.
Глава 7. Старое сердце и юное сердце друг против друга.
Дедушке Жильнорману уже пошел девяносто второй год. По-прежнему он жил с девицей Жильнорман на улице Сестер страстей господних, № 6, в своем старом доме. Как помнит читатель, это был один из тех стариков прежнего склада, которые ожидают смерти, держась прямо, которых и бремя лет не сгибает, и даже печаль не клонит долу.
И все же с некоторого времени его дочь стала поговаривать, что «отец начал сдавать». Он больше не отпускал оплеух служанкам, с прежней горячностью не стучал тростью на площадке лестницы, когда Баск медлил открыть ему дверь. В течение целых шести месяцев он почти не брюзжал на Июльскую революцию. Довольно спокойно он прочел в «Монитере» следующее сочетание слов: «Г-н Гюмбло-Конте, пэр Франции». Старец, несомненно, впал в уныние. Он не уступил, не сдался – это не было свойственно ни его физической, ни нравственной природе, но чувствовал душевное изнеможение. В течение четырех лет он, не отступая ни на шаг, – другими словами этого не выразить, – ждал Мариуса, убежденный, что «этот скверный мальчишка» рано или поздно постучится к нему; теперь же в иные тоскливые часы ему приходило в голову, что если только Мариус заставит себя еще ожидать, то… Не смерть была ему страшна, но мысль, что, быть может, он больше не увидит Мариуса. До сих пор эта мысль ни на одно мгновение не посещала его; теперь же она начала появляться и леденила ему кровь. Разлука, как это всегда бывает при искренних и естественных чувствах, только усилила его любовь, любовь деда к неблагодарному внуку, исчезнувшему подобным образом. Так в декабрьские ночи, в трескучий мороз, мечтают о солнце. Помимо всего, г-н Жильнорман чувствовал или убедил себя, что ему, деду, совершенно невозможно сделать первый шаг навстречу внуку. «Лучше мне околеть», – говорил он. Не считая себя ни в чем виноватым, он думал о Мариусе лишь с глубоким умилением и немым отчаянием старика, уходящего во тьму.
У него начали выпадать зубы, и это еще усилило его печаль.
Господин Жильнорман, не признаваясь самому себе, так как это взбесило бы его и устыдило, никогда ни одну любовницу не любил так, как любил Мариуса.
В своей комнате, у изголовья кровати, он приказал поставить старый портрет своей младшей дочери, покойной г-жи Понмерси, написанный с нее, когда ей было восемнадцать лет, словно желая, чтобы это было первое, что он видел, пробуждаясь ото сна. Он беспрестанно смотрел на него. Как-то, глядя на портрет, он будто невзначай сказал:
– По-моему, он похож на нее.
– На сестру? – спросила девица Жильнорман. – Ну конечно.
Старик прибавил:
– И на него тоже.
Как-то, когда он сидел в полном унынии, зябко сжав колени и почти закрыв глаза, дочь осмелилась спросить:
– Отец, неужели вы все еще сердитесь?.. – Она запнулась, не решаясь продолжать.
– На кого? – спросил он.
– На бедного Мариуса.
Он поднял свою старческую голову, стукнул костлявым и морщинистым кулаком по столу и дрожащим голосом, в величайшем раздражении, крикнул:
– Вы говорите: «бедный Мариус»! Этот господин – шалопай, сквернавец, неблагодарный хвастунишка, бессердечный, бездушный гордец, злюка!
И отвернулся, чтобы дочь не заметила слезы на его глазах.
Три дня спустя, промолчав часа четыре, он вдруг обратился к дочери:
– Я имел честь просить мамзель Жильнорман никогда мне о нем не говорить.
Тетушка Жильнорман отказалась от всяких попыток и сделала следующий глубокомысленный вывод: «Отец охладел к сестре после той глупости, которую она сделала. Видно, он терпеть не может Мариуса».
«После той глупости» означало: с тех пор как она вышла замуж за полковника.
Впрочем, как и можно было предположить, девица Жильнорман потерпела неудачу в своей попытке заменить Мариуса своим любимцем, уланским офицером. Теодюль, в роли его заместителя, не имел никакого успеха. Г-н Жильнорман не согласился на добровольное заблуждение. Сердечную пустоту не заткнешь затычкой. Да и Теодюль, хотя он здесь и чуял наследство, питал отвращение к тяжелой повинности – нравиться. Старик наскучил улану, а улан опротивел старику. Лейтенант Теодюль был, несомненно, веселым, но болтливым малым; легкомысленным, но пошловатым; любившим хорошо пожить, но плохо воспитанным; у него были любовницы – это правда, и он много о них говорил – это тоже правда, – но говорил дурно. Все его качества были с изъяном. Г-ну Жильнорману надоело слушать россказни о всяких его удачных похождениях неподалеку от казарм на Вавилонской улице. Помимо того, лейтенант Жильнорман иногда появлялся в мундире с трехцветной кокардой. Это его делало уже просто невыносимым. В конце концов старик Жильнорман сказал дочери: «Хватит с меня этого Теодюля. В мирное время я не чувствую особенного пристрастия к военным. Принимай их сама, если хочешь. Пожалуй, я даже предпочту саблю в руках рубаки, чем на боку у гуляки. Лязг клинков на поле битвы не так противен, в конце концов, как стукотня ножен по мостовой. Да и к тому же пыжиться, изображать героя, стягивать себе талию, словно бабенка, носить корсет под кирасой – это вдвойне смешно. Настоящий мужчина одинаково далек и от бахвальства, и от жеманства. Не фанфарон и не милашка. Бери своего Теодюля себе».
Напрасно дочь повторяла ему: «Но ведь это ваш внучатный племянник». Оказалось, что г-н Жильнорман, чувствовавший себя дедом до кончика ногтей, вовсе не собирался быть двоюродным дядей.
В сущности, так как он был умен и умел сравнивать, Теодюль только заставил его еще больше сожалеть о Мариусе.
Однажды вечером, – то было 4 июня, что не помешало старику развести жаркий огонь в камине, – он отпустил дочь, занимавшуюся шитьем в соседней комнате. Один в своей спальне, расписанной сценами из пастушеской жизни, полузакрытый широкими коромандельского дерева ширмами о девяти створках, он сидел, утонув в ковровом кресле, положив ноги на каминную решетку, облокотившись на стол, где под зеленым абажуром горели две свечи, и держал в руке книгу, которую, однако, не читал. По своему обыкновению, он был одет, как одевались щеголи времен его молодости, и был похож на старинный портрет Гара́. На улице вокруг него собралась бы толпа, если бы дочь не накидывала на него, когда он выходил из дома, нечто вроде стеганой широкой епископской мантии, скрывавшей его одеяние. У себя в комнате он надевал халат только по утрам или перед отходом ко сну. «Халат слишком старит», – говорил он.
Дедушка Жильнорман думал о Мариусе с любовью и горечью, и, как обычно, преобладала горечь. Его озлобленная нежность всегда в конце концов начинала возмущаться и превращалась в негодование. Он дошел до того состояния, когда человек готов покориться своей участи и примириться с тем, что ему причиняет боль. В настоящую минуту он доказывал себе, что больше нечего ждать Мариуса, что если бы он хотел возвратиться, то уже сделал бы это, и что надо отказаться от всякой надежды. Он пытался привыкнуть к мысли, что с этим кончено и ему предстоит умереть, не увидев «сего господина». Но все его существо восставало против этого; его упорное отцовское чувство отказывалось с этим соглашаться.
«Неужели, – говорил он, и это был его горестный ежедневный припев, – неужели он больше не вернется?» Его облысевшая голова склонилась на грудь, и он вперил в пепел камина скорбный и гневный взгляд. В минуту этой глубочайшей задумчивости вошел его старый слуга Баск и спросил:
– Угодно ли вам, сударь, принять господина Мариуса?
Старик выпрямился в кресле, мертвенно-бледный и похожий на труп, поднявшийся под действием гальванического тока. Вся кровь прихлынула ему к сердцу. Он пролепетал, заикаясь:
– Как? Господина Мариуса?
– Не знаю, – ответил Баск, испуганный и сбитый с толку видом своего хозяина, – сам я его не видел. Николетта сказала мне: «Пришел какой-то молодой человек, доложите, что это господин Мариус».
Дед Жильнорман пробормотал еле слышно:
– Проси сюда.
Он остался сидеть в той же позе, голова его тряслась, взор был пристально устремлен на дверь. Она открылась. Вошел молодой человек. То был Мариус.
Он остановился в дверях, как бы ожидая, что его попросят войти. Его почти нищенская одежда не была видна в тени, отбрасываемой абажуром. Можно было различить только его спокойное и серьезное, но странно печальное лицо.
Старый Жильнорман, отупевший от изумления и радости, несколько минут не видел ничего, кроме яркого света, как бывает, когда глазам предстает видение. Он чуть не лишился чувств; он различал Мариуса как бы сквозь ослепительную завесу. Да, действительно это был он, это был Мариус!
Наконец-то! Через четыре года! Он, если можно так выразиться, вобрал его в себя одним взглядом. Он нашел его красивым, благородным, изящным, взрослым, сложившимся мужчиной, умеющим себя держать, обаятельным. Ему хотелось открыть ему объятия, позвать его, броситься навстречу, он таял от восторга, пылкие слова переполняли его и стремились вырваться из груди; наконец, вся эта нежность нашла себе выход, подступила к устам и в силу противоречия, являвшегося основой его характера, вылилась в жестокость. Он резко спросил:
– Что вам здесь нужно?
Мариус смущенно ответил:
– Сударь…
Господин Жильнорман хотел бы, чтобы Мариус бросился в его объятия. Он был недоволен и Мариусом, и самим собой. Он чувствовал, что был резок, а Мариус холоден. Для бедного старика было невыносимой, все усиливавшейся мукой чувствовать, что в душе он изнывает от нежности и жалости, а выказывает лишь жестокость. Горькое чувство опять овладело им. Он угрюмо перебил Мариуса:
– Зачем же вы все-таки пришли?
Это «все-таки» обозначало: «Если вы не пришли затем, чтобы обнять меня». Мариус взглянул на лицо деда, которому бледность придала сходство с мрамором.
– Сударь…
Старик снова прервал его суровым голосом:
– Вы пришли просить у меня прощения? Вы признали свою вину?
Он полагал, что направляет Мариуса на путь истинный и что «мальчик» смягчится. Мариус вздрогнул: от него требовали, чтобы он отрекся от отца; он потупил глаза и ответил:
– Нет, сударь!
– В таком случае, – с мучительной и гневной скорбью вскричал старик, – чего же вы от меня хотите?
Мариус сжал руки, сделал шаг и ответил слабым, дрожащим голосом:
– Сударь, сжальтесь надо мной.
Эти слова вывели г-на Жильнормана из себя; будь они сказаны раньше, они бы тронули его, но теперь было слишком поздно. Дед встал; он опирался обеими руками на трость, губы его побелели, голова тряслась, но его высокая фигура казалась еще выше перед склонившим голову Мариусом.
– Сжалиться над вами! Юноша требует жалости у девяностолетнего старика! Вы вступаете в жизнь, а я покидаю ее; вы посещаете театры, балы, кафе, бильярдные, вы умны, нравитесь женщинам, вы красивый молодой человек, а я даже летом зябну у горящего камина; вы богаты единственно подлинным богатством, какое только существует, а я – всеми немощами старости, болезнью, одиночеством! У вас целы все зубы, у вас хороший желудок, живой взгляд, сила, аппетит, здоровье, веселость, копна черных волос, а у меня уже нет даже и седых, выпали зубы, не слушаются ноги, ослабела память, я постоянно путаю названия трех улиц – Шарло, Шом и Сен-Клод, вот до чего я дошел; перед вами все будущее, залитое солнцем, а я почти ничего не различаю впереди, настолько я приблизился к вечной ночи; вы влюблены, это уже само собой разумеется, меня же не любит никто на свете, и вы еще требуете у меня жалости! Черт возьми! Мольер упустил хороший сюжет. Если вы так забавно шутите и во Дворце правосудия, господа адвокаты, то я вас искренне поздравляю. Вы, я вижу, шалуны.
И старик снова спросил сердито и серьезно:
– Да, так чего же вы от меня хотите?
– Сударь, – ответил Мариус, – я знаю, что мое присутствие вам неприятно, но я пришел только для того, чтобы попросить вас кое о чем, после этого я сейчас же уйду.
– Вы глупец! – воскликнул старик. – Кто вам велит уходить?
Это был перевод следующих нежных слов, звучавших в глубине его сердца: Ну попроси у меня прощенья! Кинься же мне на шею! Г-н Жильнорман чувствовал, что Мариус вот-вот готов от него уйти, что этот враждебный прием его отталкивает, что эта жестокость гонит его вон, он понимал все это, и скорбь его возрастала, но так как эта скорбь тут же превращалась в гнев, то усиливалась и его суровость. Он хотел, чтобы Мариус понял его, а Мариус не понимал; это приводило старика в бешенство. Он продолжал:
– Как! Вы пренебрегли мной, вашим дедом, вы покинули мой дом, чтобы уйти неведомо куда, вы причинили огорчение вашей тетушке, вы сделали это, – догадаться нетрудно, – потому что так гораздо удобнее вести холостяцкий образ жизни, корчить щеголя, возвращаться домой когда угодно, развлекаться! Вы не подавали никаких признаков существования, наделали долгов, даже не попросив меня их заплатить, вы стали буяном и скандалистом, а потом, через четыре года, явились сюда, и вам нечего больше сказать мне?
Этот свирепый способ склонить внука к проявлению нежности привел Мариуса только к молчанию. Г-н Жильнорман скрестил руки – этот жест был у него особенно повелительным – и с горечью обратился к Мариусу:
– Довольно. Вы, кажется, сказали, что пришли попросить меня о чем-то? Так о чем же? Что такое? Говорите.
– Сударь, – ответил Мариус, обратив на него взгляд человека, чувствующего, что он сейчас низвергнется в пропасть, – я пришел попросить у вас позволения жениться.
Господин Жильнорман позвонил. Баск приоткрыл дверь.
– Попросите сюда мою дочь.
Минуту спустя дверь снова приоткрылась, м-ль Жильнорман показалась на пороге, но в комнату не вошла. Мариус стоял молча, опустив руки, с видом преступника: г-н Жильнорман ходил взад и вперед по комнате. Обернувшись к дочери, он сказал:
– Ничего особенного. Это господин Мариус. Поздоровайтесь с ним. Этот господин хочет жениться. Вот и все. Ступайте.
Отрывистый и хриплый голос старика возвещал об особенной силе его возмущения. Тетушка с растерянным видом взглянула на Мариуса, казалось, она едва узнала его и, не сделав ни единого движения, не издав звука, исчезла по мановению руки отца быстрее, чем соломинка от дыхания урагана.
Тем временем дедушка Жильнорман, снова прислонившись к камину, разразился следующей речью:
– Жениться? В двадцать один год! И все у вас уже улажено! Вам осталось только попросить у меня позволения! Маленькая формальность. Садитесь, сударь. Ну-с, с тех пор как я не имел чести вас видеть, у вас произошла революция. Якобинцы взяли верх. Вы должны быть довольны. Уж не превратились ли вы в республиканца с той поры, как стали бароном? Вы ведь умеете примирять одно с другим. Республика – недурная приправа к баронству. Быть может, вы получили июльский орден, сударь? Может, вы немножко помогли, когда брали Лувр? Здесь совсем близко, на улице Сент-Антуан, насупротив улицы Нонендьер, видно ядро, врезавшееся в стену третьего этажа одного дома, а возле него надпись: «28 июля 1830 года». Подите посмотрите. Это производит сильное впечатление. Ах, они натворили хороших дел, ваши друзья! Кстати, не собираются ли они поставить фонтан на месте памятника господину герцогу Беррийскому? Итак, вам угодно жениться? Можно ли, не будучи нескромным, спросить, на ком?
Он остановился и, прежде чем Мариус успел ответить, с яростью прибавил:
– Ага, значит, у вас есть положение! Вы разбогатели! Сколько вы зарабатываете вашим адвокатским ремеслом?
– Ничего, – ответил Мариус с какой-то твердой и почти свирепой решимостью.
– Ничего? Стало быть, у вас на жизнь есть только те тысяча двести ливров, которые я вам даю?
Мариус ничего не ответил. Г-н Жильнорман продолжал:
– А, понимаю. Значит, девушка богата?
– Не больше, чем я.
– Что? Бесприданница?
– Да.
– Есть надежды на будущее?
– Не думаю.
– Совсем нищая? А что же такое ее отец?
– Не знаю.
– А как ее зовут?
– Мадемуазель Фошлеван.
– Фош… как?
– Фошлеван.
– Пффф! – фыркнул старик.
– Сударь! – вскричал Мариус.
Господин Жильнорман, не слушая его, продолжал тоном человека, разговаривающего с самим собой:
– Так. Двадцать один год, никакого состояния, тысяча двести ливров в год. Госпоже баронессе Понмерси придется самолично отправляться к зеленщице покупать на два су петрушки.
– Сударь, – ответил Мариус вне себя, видя, как исчезает его последняя надежда, – умоляю вас, заклинаю вас во имя неба, я простираю к вам руки, сударь, я у ваших ног, позвольте мне на ней жениться!
Старик рассмеялся пронзительным и мрачным смехом, прерываемым кашлем.
– Ха-ха-ха! Вы, верно, сказали себе: «Чем черт не шутит, пойду-ка я разыщу это старое чучело, этого непроходимого дурака! Какая досада, что мне еще не минуло двадцати пяти лет! Я бы ему показал мое полное к нему уважение! Обошелся бы я тогда и без него! Ну, да все равно, я ему скажу: «Старый осел, счастье твое, что ты еще видишь меня, мне угодно жениться, мне угодно вступить в брак с мадемуазель – все равно какой, дочерью – все равно чьей, правда, у меня нет сапог, а у нее рубашки, сойдет и так, мне угодно наплевать на свою карьеру, на свое будущее, на свою молодость, на свою жизнь, мне угодно навязать себе жену на шею и погрязнуть в нищете, вот о чем я мечтаю, а ты не чини препятствий!» И старое ископаемое не будет чинить препятствий. Валяй, мой милый, делай, как хочешь, вешай себе камень на шею, женись на своей Шпаклеван, Пеклеван… Нет, сударь, никогда, никогда!
– Отец!
– Никогда!
По тому тону, каким было произнесено это «никогда», Мариус понял, что всякая надежда потеряна. Он медленно направился к выходу, понурив голову, пошатываясь, словно видел перед собой порог смерти, а не порог комнаты. Г-н Жильнорман провожал его взглядом, а когда дверь была уже открыта и Мариусу оставалось только выйти, он с той особенной живостью, которая свойственна вспыльчивым и избалованным старикам, подбежал к нему, схватил его за ворот, энергично втащил обратно, толкнул в кресло и сказал:
– Ну, рассказывай!
Этот переворот произвело одно лишь слово «отец», вырвавшееся у Мариуса.
Мариус растерянно взглянул на него. Подвижное лицо г-на Жильнормана выражало только грубое и неизреченное добродушие. Предок уступил место деду.
– Ну, полно, посмотрим, говори, рассказывай о своих любовных делишках, выбалтывай, скажи мне все! Черт побери, до чего глупы эти юнцы!
– Отец, – снова начал Мариус.
Все лицо старика озарилось каким-то невыразимым сиянием.
– Так, вот именно! Называй меня отцом, и дело пойдет на лад!
В этой его грубоватости сейчас сквозило такое доброе, такое нежное, такое открытое, такое отцовское чувство, что Мариус словно был оглушен и опьянен этим внезапным переходом от отчаяния к надежде. Он сидел у стола, и жалкое состояние его одежды при свете горевших свечей так бросалось в глаза, что дед Жильнорман взирал на него с изумлением.
– Итак, отец, – начал Мариус.
– Так вот оно что! – прервал его Жильнорман. – У тебя взаправду нет ни гроша? Ты одет, как воришка.
Он порылся в ящике, взял оттуда кошелек и положил его на стол.
– Возьми, тут сто луидоров, купи себе шляпу.
– Отец, – продолжал Мариус, – дорогой отец, если бы вы знали! Я люблю ее. Можете себе представить, в первый раз я увидел ее в Люксембургском саду – она приходила туда; сначала я не обращал на нее особенного внимания, а потом, не знаю сам, как это случилось, влюбился в нее. О, как я был несчастен! Словом, теперь я вижусь с ней каждый день у нее дома, ее отец ничего не знает, вообразите только, они собираются уехать, мы видимся в саду по вечерам, отец хочет увезти ее в Англию, тогда я подумал: «Пойду к дедушке и расскажу ему об этом». Я ведь сойду с ума, умру, заболею, брошусь в воду. Я непременно должен жениться на ней, иначе сойду с ума. Вот вам вся правда, мне кажется, я ничего не забыл. Она живет в саду с решеткой, на улице Плюме. Это недалеко от Дома инвалидов.
Дедушка Жильнорман, сияя от удовольствия, уселся возле Мариуса. Внимательно слушая его и наслаждаясь звуком его голоса, он в то же время с наслаждением медленно втягивал в нос понюшку табаку. Услышав название улицы Плюме, он задержал дыхание и просыпал остатки табаку на колени.
– Улица Плюме? Ты говоришь, улица Плюме? Погоди-ка! Нет ли там казармы? Ну да, это та самая и есть. Твой двоюродный братец Теодюль рассказывал мне что-то. Ну, этот улан, офицер. Про девочку, мой дружок, про девочку! Черт возьми, да, на улице Плюме. На той самой, что называлась Бломе. Теперь я вспомнил. Я уже слышал об этой малютке за решеткой на улице Плюме. В саду. Настоящая Памела. Вкус у тебя недурен. Говорят, прехорошенькая. Между нами, я думаю, что этот пустельга-улан слегка ухаживал за ней. Не знаю, далеко ли там зашло. Впрочем, никакой беды в этом нет. К тому же не стоит ему верить. Он бахвал. Мариус, я считаю похвальным для молодого человека быть влюбленным! Так и надо в твоем возрасте. Я предпочитаю тебя видеть влюбленным, нежели якобинцем. Уж лучше, черт побери, быть пришитым к юбке, к двадцати юбкам, чем к господину Робеспьеру! Что до меня, то должен отдать себе справедливость: из всех этих санкюлотов я всегда признавал только женщин. Хорошенькие девчонки остаются хорошенькими девчонками, шут их возьми! Спорить тут нечего. Так, значит, малютка принимает тебя тайком от папеньки. Это в порядке вещей. У меня тоже бывали такие истории. И не одна. Знаешь, как в этом случае поступают? В раж не приходят, трагедий не разыгрывают, супружеством и визитом к мэру с его шарфом не кончают. Просто-напросто надо быть умным малым. Обладать рассудком. Шалите, смертные, но не женитесь. Надо разыскать дедушку, добряка в душе, а у него всегда найдется несколько сверточков с золотыми в ящике старого стола; ему говорят: «Дедушка, вот какое дело». Дедушка отвечает: «Да это очень просто. Смолоду перебесишься, в старости угомонишься. Я был молод, тебе быть стариком. На, мой мальчик, когда-нибудь ты вернешь этот долг твоему внуку. Здесь двести пистолей. Забавляйся, черт побери! Нет ничего лучше на свете!» Так вот дело и делается. В брак не вступают, но это не помеха. Ты меня понимаешь?
Мариус, окаменев и не в силах вымолвить ни слова, отрицательно покачал головой.
Старик разразился смехом, прищурился, хлопнул его по колену, с таинственным и сияющим видом заглянул ему в глаза и сказал, самым лукавым образом пожимая плечами:
– Дурачок! Сделай ее своей любовницей.
Мариус побледнел. Он ничего не понял из всего сказанного ему дедом. Вся эта мешанина из улицы Бломе, Памелы, казармы, улана промелькнула мимо него какой-то фантасмагорией. Это не могло касаться Козетты, чистой, как лилия. Старик бредил. Но этот бред окончился словами, которые Мариус понял и которые были смертельным оскорблением для Козетты. Эти слова «сделай ее своей любовницей» пронзили сердце целомудренного юноши, как клинок шпаги.
Он встал, поднял с пола свою шляпу и твердым уверенным шагом направился к дверям. Там он обернулся, поклонился деду, поднял голову и промолвил:
– Пять лет тому назад вы оскорбили моего отца; сегодня вы оскорбляете мою жену. Я ни о чем вас больше не прошу, сударь. Прощайте.
Дедушка Жильнорман, остолбеневший от изумления, открыл рот, протянул руки, попробовал подняться, но, прежде чем он успел произнести хотя бы одно слово, дверь закрылась и Мариус исчез.
Несколько мгновений старик сидел неподвижно, как бы пораженный громом, не в силах ни говорить, ни дышать, словно чья-то мощная рука сжимала его за горло. Наконец он сорвался со своего кресла, со всей возможной в девяносто один год быстротой подбежал к двери, открыл ее и завопил:
– Помогите! Помогите!
Явилась дочь, затем слуги. Он снова закричал жалким, хриплым голосом:
– Бегите за ним! Догоните его! Что я ему сделал? Он сумасшедший! Он ушел! Боже мой, боже мой! Теперь он уже больше не вернется!
Он бросился к окну, выходившему на улицу, раскрыл его старческими дрожащими руками, высунулся чуть не до пояса, причем Баск и Николетта удерживали его сзади, и прокричал:
– Мариус! Мариус! Мариус! Мариус!
Но Мариус не мог услышать его; в это мгновение он уже поворачивал за угол улицы Сен-Луи.
Девяностолетний старец с выражением тягчайшей муки поднял два-три раза руки к вискам, шатаясь отошел от окна и грузно опустился в кресло, без пульса, без голоса, без слез, бессмысленно покачивая головой и шевеля губами, с пустым взглядом, с опустевшим сердцем, где осталось лишь нечто мрачное и беспросветное, как ночь.
Книга девятая. Куда они идут?
Глава 1. Жан Вальжан.
В тот же самый день, в четыре часа, Жан Вальжан сидел на одном из самых пустынных откосов Марсова поля. Из осторожности ли, из желания ли сосредоточиться или просто вследствие одной из тех нечувствительных перемен в привычках, которые мало-помалу назревают в жизни каждого человека, он теперь довольно редко выходил с Козеттой. Он был в рабочей куртке и в серых холщовых штанах; картуз с длинным козырьком скрывал его лицо. В настоящее время, думая о Козетте, он был спокоен и счастлив; то, что его волновало и пугало еще недавно, рассеялось; однако недели две тому назад в нем возникло беспокойство другого рода. Однажды, гуляя по бульвару, он заметил Тенардье; Жан Вальжан был переодет, и Тенардье его не узнал; но с тех пор он видел его еще несколько раз и теперь был уверен, что Тенардье бродил неспроста в этом квартале. Этого было достаточно, чтобы принять важное решение. Тенардье здесь – значит, все опасности налицо. Кроме того, в Париже было неспокойно для всякого, кто имел основания скрывать что-либо в своей жизни; политические смуты представляли неудобство в том отношении, что полиция, ставшая весьма недоверчивой и весьма подозрительной, выслеживая какого-нибудь Пепена или Морэ, легко могла разоблачить такого человека, как Жан Вальжан. Он решил покинуть Париж, и даже Францию, и переехать в Англию. Козетту он предупредил. Он хотел отправиться в путь уже на этой неделе. Сидя на откосе Марсова поля, он глубоко задумался: его обуревали мысли о Тенардье, о полиции, о путешествии и о трудностях, связанных с получением паспорта.
Он был весьма озабочен всем этим.
Один поразивший его необъяснимый факт, под свежим впечатлением которого он находился и сейчас, особенно усиливал его тревогу. Сегодня утром, встав раньше всех и прогуливаясь в саду, когда окна Козетты еще были закрыты, он вдруг увидел надпись, нацарапанную на стене, по-видимому, гвоздем:
Стекольная улица, № 16.
Это было сделано совсем недавно; царапины казались белыми на старой потемневшей штукатурке, а кустик крапивы у стены был обсыпан мелкой известковой пылью. По всей вероятности, надпись сделали ночью. Что это означало? Чей-то адрес? Условный знак для кого-то? Предупреждение ему? Так или иначе, было ясно, что сад этот стал доступен и туда пробрались какие-то неизвестные люди. Он вспомнил о странных случаях, уже не раз всполошивших дом. Это послужило канвой для усиленной работы мысли. Он поостерегся сказать Козетте о строчке, нацарапанной на стене, боясь ее испугать.
Среди этих тревожных размышлений он заметил по тени, упавшей рядом с ним, что кто-то остановился на верхушке откоса, прямо за его спиной. Он уже хотел обернуться, но тут к нему на колени упала сложенная вчетверо бумажка, словно переброшенная чьей-то рукой через его голову. Он взял бумажку, развернул ее и прочел следующее, написанное карандашом, большими буквами, слово:
Переезжайте.
Жан Вальжан быстро поднялся, на откосе уже никого не было. Осмотревшись кругом, он заметил человека, ростом побольше ребенка и поменьше мужчины, в серой блузе и табачного цвета плисовых штанах, который, перешагнув парапет, скользнул вниз, в ров Марсова поля.
Жан Вальжан в глубоком раздумье тотчас же отправился домой.
Глава 2. Мариус.
Мариус ушел от г-на Жильнормана с разбитым сердцем. Отправляясь к нему, он таил в душе надежду, а уходил в бесконечном отчаянии.
Впрочем, – те, кто изучал законы человеческого сердца, поймут это, – улан, пустельга-офицер, этот двоюродный брат Теодюль не оставил никакого следа в его сознании. Ни малейшего. По внешнему ходу событий драматург мог бы ожидать некоторых осложнений в результате разоблачения, сделанного дедом внуку. Но там, где выиграла бы драма, проиграла бы истина. Мариус был в том возрасте, когда не верят ничему дурному; позднее наступает возраст, когда верят всему. Подозрения – это те же морщины. В ранней юности их не бывает. То, что потрясает Отелло, не задевает Кандида. Подозревать Козетту! Мариусу легче было бы совершить какое угодно преступление. Он пустился бродить по улицам – обычное средство, к которому обращаются те, кто страдает. О чем он думал, он вспомнить не мог. В два часа ночи, вернувшись к Курфейраку, он, не раздеваясь, бросился на свой тюфяк. Было уже позднее утро, когда он уснул тем гнетущим, тяжелым сном, который сопровождается беспорядочной сменой образов. Проснувшись, он увидел Курфейрака, Анжольраса, Фейи и Комбефера. Все они стояли в шляпах, имели деловой вид и уже собирались уходить.
Курфейрак спросил его:
– Ты пойдешь на похороны генерала Ламарка?
Ему показалось, что Курфейрак говорит по-китайски.
Он ушел немного спустя после них. В карман он сунул пистолеты, доверенные ему Жавером во время приключения 3 февраля и оставшиеся у него. Они так и лежали заряженными до сих пор. Было бы трудно сказать, почему он взял их с собой, какая неясная мысль пришла ему в голову.
Весь день он скитался, сам не зная где; время от времени шел дождь, но Мариус его не замечал. На обед он купил в булочной хлебец за одно су, сунул его в карман и забыл о нем. Кажется, он даже выкупался в Сене, не сознавая этого. Бывают у человека такие минуты, когда у него под черепом словно пылает адская печь. Наступила такая минута и для Мариуса. Он больше ни на что не надеялся, он больше ничего не боялся; он перешагнул через все это со вчерашнего дня. В лихорадочном нетерпении он ожидал вечера, у него была только одна определенная мысль: в девять часов он увидит Козетту. В этом последнем счастье заключалось ныне все его будущее; дальше – тьма. Он шел по самым пустынным бульварам, и порою ему чудился какой-то странный шум, доносившийся из города. Тогда он выходил из своей задумчивости и задавался вопросом: «Не дерутся ли там?».
С наступлением темноты, точно в девять часов, Мариус, как и обещал Козетте, был на улице Плюме. Подойдя к решетке, он забыл обо всем. Прошло двое суток с тех пор, как он видел Козетту, сейчас он снова увидит ее; все другие мысли исчезли, он чувствовал лишь глубокую и невыразимую радость. Мгновения, в которые человек переживает века, всегда таят в себе нечто столь властительное и чудесное, что, посетив его, они целиком заполняют сердце.
Мариус раздвинул решетку и устремился в сад. Козетты не было на том месте, где она обычно его ожидала. Он пробрался сквозь заросль и прошел к углублению возле крыльца. «Она ждет меня здесь», – подумал он. Козетты там не было. Он поднял глаза и увидел, что ставни во всем доме закрыты. Он обошел сад – в саду никого не было. Тогда он вернулся к дому и, обезумев от любви, одурманенный, испуганный, вне себя от горя и беспокойства, как хозяин, вернувшийся к себе в недобрый час, застучал в ставни. Он стучал, стучал еще и еще, рискуя увидеть, как откроется окно и в нем покажется мрачное лицо отца, который спросит: «Что вам угодно?» Все это было пустяки по сравнению с тем, что он предчувствовал. Постучав, он громко позвал Козетту. «Козетта!» – крикнул он. «Козетта!» – повелительно повторил он. Никто не откликнулся. Все было кончено. Никого в саду, никого в доме.
Мариус вперил отчаявшийся взор в этот мрачный дом, такой же черный, такой же безмолвный, как гробница, но пустой. Он взглянул на каменную скамью, где провел столько восхитительных часов возле Козетты. Потом сел на ступеньку крыльца; сердце его было полно нежности и решимости. В глубине души он благословлял эту любовь и сказал себе, что теперь, когда Козетта уехала, ему остается только умереть. Вдруг он услышал голос, казалось, доносившийся с улицы, заслоненной от него деревьями:
– Господин Мариус!
Он встал.
– Что? – спросил он.
– Господин Мариус, вы здесь?
– Да.
– Господин Мариус, – снова раздался голос, – ваши друзья ожидают вас у баррикады на улице Шанврери.
Этот голос не был ему совсем незнаком. Он напоминал хриплый и грубый голос Эпонины. Мариус подбежал к решетке, отодвинул расшатавшийся прут, просунул голову и увидел какого-то человека, с виду юношу, который, убегая, исчезал в сумерках.
Глава 3. Господин Мабеф.
Кошелек Жана Вальжана не принес пользы г-ну Мабефу.
По своей благородной, но наивной строгости г-н Мабеф не принял подарка звезд; он отнюдь не мог допустить, чтобы звезда способна была рассыпаться золотыми монетами. Он не догадался, что упавшее с неба было даром Гавроша, и отнес кошелек полицейскому приставу своего квартала как утерянную вещь, которую нашедший передает в распоряжение заявивших о пропаже. Теперь кошелек был действительно утерян. Само собой разумеется, что никто его не потребовал, и г-на Мабефа он ничуть не выручил.
Господин Мабеф продолжал спускаться все ниже под гору.
Опыты с индиго в Ботаническом саду удались не лучше, чем в Аустерлицком. В прошлом году он задолжал своей служанке; теперь, как известно читателю, он задолжал домохозяину. Ломбард в конце тринадцатого месяца продал медные клише его «Флоры». Какой-нибудь медник сделал из них кастрюли. С исчезновением этих клише он не мог уже пополнить даже оставшиеся у него разрозненные экземпляры «Флоры» и уступил по дешевой цене букинисту гравюры и отпечатанный текст как неполноценные. У него ничего больше не осталось от труда всей его жизни. Он стал проедать деньги, полученные за проданные экземпляры. Увидев, что и этот жалкий источник иссякает, он бросил свой сад и оставил его невозделанным. Еще раньше, и давно уже, он отказался от двух яиц и куска мяса, которые съедал время от времени. Обедал он хлебом и картофелем. Он продал свою последнюю мебель, затем все, без чего он мог обойтись, из постельного белья, одежды и одеял, затем свои гербарии и эстампы; но у него еще оставались самые ценные его книги, среди которых были редчайшие, как, например, «Исторические библейские четверостишия», издание 1560 года, «Свод библий» Пьера де Бесс, «Жемчужины Маргариты» Жана де Лаэ, с посвящением королеве Наваррской, книга «Об обязанностях и достоинстве посла» сьёра де Вилье-Хотмана, «Раввинский стихослов» 1644 года, Тибулл 1567 года с великолепной надписью: «Венеция, в доме Мануция»; наконец, экземпляр Диогена Лаэрция, напечатанный в Лионе в 1644 году и включавший знаменитые варианты рукописи 411, тринадцатого века, из Ватикана, и двух венецианских рукописей 393 и 394, столь плодотворно исследованных Анри Этьеном, а также все отрывки на дорическом наречии, имеющиеся только в знаменитой рукописи двенадцатого столетия из Неаполитанской библиотеки. Г-н Мабеф никогда не разжигал камина в своей спальне и ложился с наступлением вечера, чтобы не жечь свечи. Казалось, у него не стало больше соседей, его избегали, когда он выходил; он это замечал. Нищета ребенка внушает участие любой матери, нищета молодого человека внушает участие молодой девушке, нищета старика никому не внушает участия. Из всех бедствий – это наиболее леденящее. Однако дедушка Мабеф не утратил целиком своей детской ясности. Его глаза даже становились живее, когда он устремлял их на книги, и он улыбался, созерцая редчайший экземпляр Диогена Лаэрция. Из всей обстановки, за исключением самого необходимого, только и уцелел его книжный шкаф со стеклянными дверцами.
Однажды тетушка Плутарх сказала ему:
– Мне не на что приготовить обед.
То, что она называла обедом, представляло собой хлебец и четыре или пять картофелин.
– А в долг? – спросил Мабеф.
– Вы отлично знаете, что в долг мне не дают.
Господин Мабеф открыл библиотечный шкаф, долго рассматривал свои книги одну за другой, словно отец, вынужденный отдать на заклание одного из своих сыновей и оглядывающий их, прежде чем сделать выбор, затем быстро взял одну, сунул ее под мышку и ушел. Он вернулся два часа спустя без книги, положил тридцать су на стол и сказал:
– Вот вам на обед.
Тетушка Плутарх заметила, что с этого времени ясное лицо старика подернулось какой-то мрачной тенью, и тень эта не исчезала больше.
Но завтра, послезавтра, каждый день нужно было начинать сначала. Г-н Мабеф уходил с книгой и возвращался с серебряной монетой. Когда букинисты увидели, что он вынужден продавать, то стали покупать у него за двадцать су то, за что он заплатил двадцать франков иногда тем же книгопродавцам. Том за томом, вся библиотека ушла к ним. Иногда он говорил: «Мне все же восемьдесят лет», словно у него была какая-то затаенная надежда добраться до конца своих дней раньше конца своих книг. Он ушел из дому с Робером Этьеном, которого он продал за тридцать пять су на набережной Малакэ, а вернулся с Альдом, купленным за сорок су на улице Грэ. «Я задолжал пять су», – сказал он тетушке Плутарх, весь сияя. В этот день он совсем не обедал.
Он был членом Общества садоводства. Там знали о его нищете. Председатель этого Общества навестил его, обещал ему поговорить о нем с министром земледелия и торговли и выполнил обещание. «Ну как же! – воскликнул министр. – Конечно, надо помочь! Старый ученый! Ботаник! Безобидный человек! Нужно для него что-нибудь сделать!» На следующий день г-н Мабеф получил приглашение обедать у министра и, дрожа от радости, показал письмо тетушке Плутарх. «Мы спасены», – сказал он ей. В назначенный день он отправился к министру. Он заметил, что его измятый галстук, его старый фрак с прямыми полами и плохо начищенные старые башмаки поразили привратников. Никто к нему не обратился, не исключая самого министра. Часов в десять вечера, все еще ожидая, что с ним заговорят, он услышал, как жена министра, красивая декольтированная дама, к которой он не осмеливался подойти, спросила кого-то: «А кто же этот старый господин?» Он вернулся домой пешком, в полночь, под проливным дождем. Он продал томик Эльзевира, чтобы оплатить фиакр, доставивший его в дом министра.
Каждый вечер перед сном он привык прочитывать несколько страничек из Диогена Лаэрция. Он достаточно знал греческий язык, чтобы насладиться красотами принадлежавшего ему подлинника. Теперь у него уже не оставалось иной радости. Прошло несколько недель. Внезапно заболела тетушка Плутарх. Существует нечто более огорчительное, чем невозможность уплатить булочнику за хлеб: это невозможность уплатить аптекарю за лекарства. Как-то вечером доктор прописал очень дорогую микстуру. Кроме того, болезнь усиливалась, нужна была сиделка. Г-н Мабеф открыл свой шкаф, там было пусто. Последний том был продан. У него остался только Диоген Лаэрций.
Он сунул этот уникальный экземпляр под мышку и вышел из дому; то было 4 июня 1832 года; он отправился к воротам Сен-Жак, к наследнику Руайоля, и возвратился с сотней франков. Он положил столбик пятифранковых монет на ночной столик старой служанки и молча ушел в свою комнату.
На следующий день с рассвета он уселся в своем саду на опрокинутую тумбу, и через забор можно было видеть, как он неподвижно сидел в продолжение всего утра, опустив голову и тупо устремив взор на запущенные грядки. Время от времени шел дождь; старик, казалось, этого не замечал. После полудня в Париже поднялся какой-то необычный шум. Этот шум был похож на ружейные выстрелы и крики толпы.
Дедушка Мабеф поднял голову. Заметив проходившего с лопатой на плече садовника, он спросил:
– Что это такое?
Садовник совершенно спокойно ответил:
– Бунт.
– Какой бунт?
– Такой. Дерутся.
– Почему дерутся?
– А бог их знает! – сказал садовник.
– Где же это? – снова спросил г-н Мабеф.
– Где-то возле Арсенала.
Дедушка Мабеф пошел к себе, взял шляпу, по привычке стал искать книгу, чтобы сунуть ее под мышку, не нашел и, сказав: «Ах да, я и позабыл!» – вышел из дому с растерянным видом.
Книга десятая. 5 Июня 1832 года.
Глава 1. Внешняя сторона вопроса.
Из чего слагается мятеж? Из ничего и из всего. Из мало-помалу накопившегося электричества, из внезапно вырвавшегося пламени, из блуждающей силы, из проносящегося неведомого дуновения. Дуновению этому встречаются по пути головы, обладающие даром речи, умы, способные мечтать, души, способные страдать, пылающие страсти, рычащая нищета, и оно увлекает их за собой.
Куда?
На волю случая. Наперекор общественному строю, наперекор законам, наперекор благоденствию и наглости других.
Оскорбленные убеждения, озлобившийся энтузиазм, всколыхнувшееся чувство негодования, подавленные воинственные инстинкты, задор восторженной молодежи, великодушное ослепление, любопытство, вкус к перемене, жажда неожиданного, то чувство, которое заставляет с удовольствием читать афишу о новом спектакле и любить в театре внезапный свисток машиниста сцены; смутная ненависть, злоба, обманутые надежды, любое тщеславие, считающее себя обойденным судьбой; недовольство, несбыточные мечты, честолюбие, окруженное непреодолимыми преградами, всякий, чающий выхода из крушения; наконец, в самом низу чернь, эта воспламеняющаяся грязь, – таковы составные элементы мятежа.
Самое великое и самое ничтожное – существа, которые скитаются за пределами общества, ожидая удачи, праздношатающиеся, темные личности, бродяги предместий, все те, кто ночует в застроенной домами пустыне, не имея иной кровли над головой, кроме равнодушных облаков, те, которые каждый день просят хлеба у случая, а не у труда, безыменные сыны нищеты и убожества, раздетые, разутые, – все они принадлежат мятежу.
Любой, кто носит в душе тайный бунт против государственного порядка, жизни или судьбы, причастен к мятежу, и стоит ему только вспыхнуть, как человек начинает оживать, он чувствует, что его подхватывает вихрь.
Мятеж – это своего рода смерч, при некоторых температурных условиях внезапно образующийся в социальной атмосфере. Вращаясь, он поднимается, мчится, гремит, вырывает, стирает с лица земли, повергает в прах, разрушает, искореняет, увлекает за собой натуры возвышенные и жалкие, умы сильные и немощные, древесный ствол и соломинку.
Горе тому, кого он уносит с собой, и тому, кого он сталкивает с пути! Он разбивает их друг о друга.
Он сообщает неведомое могущество тем, кого он подхватывает. Он наполняет первого встречного силой событий; он все претворяет в метательный снаряд. Он обращает камешек в ядро, носильщика – в генерала.
Если поверить некоторым оракулам тайной политики, то с точки зрения власти мятеж в небольшой дозе даже не мешает. Система их воззрений такова: мятеж укрепляет те правительства, которые он не опрокидывает. Он испытывает армию; он сплачивает буржуазию; он развивает мускулы полиции; он свидетельствует о крепости социального костяка. Это гимнастика; это почти гигиена. Власть чувствует себя лучше после мятежа, как человек после растирания.
Мятеж тридцать лет тому назад рассматривался еще и с других точек зрения.
Существует всеобъемлющая теория, которая сама себя провозглашает «здравым смыслом»; Филинт против Альцеста, добровольный посредник между истинным и ложным, она предполагает объяснение, увещание, несколько высокомерную мягкость, которая, будучи смешением хулы и прощения, воображает себя мудростью, часто оказываясь одним лишь педантством. Целая политическая школа, именуемая «золотой серединой», вышла отсюда. Это партия теплой водицы – между горячей и холодной. Школа эта, с ее ложной глубиной и верхоглядством, изучает следствия, не восходя к причинам, и с высоты полузнания бранит народные волнения.
Если послушать эту школу, то окажется: «Мятежи, усложняющие переворот 1830 года, лишают в известной мере это великое событие его чистоты. Июльская революция была великолепным порывом, рожденным бурей народного гнева, внезапно сменившейся безоблачным небом. Мятежи вновь нагнали на небо тучи. Они обратили в распрю эту революцию, первоначально столь замечательную своим единодушием. В Июльской революции, как и в каждом движении вперед скачками, были скрытые места повреждений; мятеж сделал их ощутимыми. Оказалось возможным сказать: «Ага! Здесь перелом». После Июльской революции люди чувствовали только освобождение; после мятежей они почувствовали катастрофу.
Всякий мятеж закрывает лавки, понижает ценные бумаги, вызывает растерянность на бирже, приостанавливает торговлю, мешает делам, ускоряет банкротства; нет больше денег, владельцы крупных состояний обеспокоены, общественный кредит поколеблен, промышленность приходит в расстройство, капиталы припрятываются, труд обесценивается, всюду страх; во всех городах отголоски этого удара. Вот причина разверзающейся бездны. Высчитано, что первый день мятежа стоит Франции двадцать миллионов, второй – сорок, третий – шестьдесят. Трехдневный мятеж обходится в сто двадцать миллионов, – иными словами, если иметь в виду только финансовые итоги, он равнозначен громадному бедствию, кораблекрушению или проигранной битве, в которой бы погиб флот из шестидесяти линейных кораблей.
Конечно, с точки зрения исторической, мятеж отмечен своеобразной красотой; уличный бой не менее грандиозен и исполнен пафоса, чем партизанская война; в одной чувствуется душа леса, в другом чувствуется сердце города; там Жан Шуан, здесь Жанн. Мятежи озарили пусть красным, но великолепным светом все наиболее своеобразные особенности парижского характера: великодушие, самоотверженность, бурную веселость; здесь и студенчество, доказывающее, что опрометчивая смелость есть свойство просвещенного ума, и непоколебимость национальной гвардии, и сторожевые посты лавочников, и крепостцы уличных мальчишек, и презрение к смерти у прохожих. Учебные заведения сталкивались с войсками. Впрочем, между сражающимися есть только различие возрастов, – это одна и та же раса, это те же стоические люди, умирающие в возрасте двадцати лет за свои идеи, и в сорок лет – за свои семьи. Армия, всегда опечаленная во время гражданской войны, противопоставляла отваге благоразумие. Мятежи, свидетельствовавшие о народной неустрашимости, одновременно воспитывали и мужество буржуазии.
Хорошо. Но стоит ли все это пролитой крови? А к пролитой крови прибавьте омраченное будущее, запятнанный прогресс, тревогу среди лучших, отчаяние честных либералов, чужеземный абсолютизм, радующийся этим ранам, нанесенным революции ею же самой, торжество побежденных в 1830 году, твердящих: «Что же, мы все это предвидели!» Прибавьте Париж, быть может возвеличившийся, но Францию, несомненно, ослабевшую. Прибавьте – потому что следует сказать обо всем – кровопролития, слишком часто позорящие победу рассвирепевшего порядка над обезумевшей свободой. В общем итоге – мятежи были гибельны».
Так утверждает эта псевдомудрость, которой буржуазия, этот псевдонарод, удовлетворяется столь охотно.
Что до нас, то мы отбрасываем слово «мятеж», слишком широкое и, следовательно, слишком удобное. Мы отличаем одно народное движение от другого. Мы не спрашиваем себя, обходится ли мятеж в такую же цену, как битва. Прежде всего, почему именно битва? Здесь возникает вопрос о войне. Разве бич войны есть меньшее бедствие, чем мятеж? И кроме того, всякий ли мятеж является бедствием? А если бы 14 июля и обошлось в сто двадцать миллионов! Возведение Филиппа V на испанский престол стоило Франции два миллиарда. Даже за равную цену мы предпочли бы 14 июля. Впрочем, мы отбрасываем эти цифры, которые кажутся доводами, а на самом деле – только слова. Предмет наших размышлений – мятеж, исследуем поэтому его сущность. В вышеизложенном доктринерском возражении речь идет только о следствии, мы же ищем причины.
Мы уточняем.
Глава 2. Суть вопроса.
Есть мятеж и есть восстание; это проявление двух видов гнева – один неправый, другой правый. В демократических государствах, единственных, которые основаны на справедливости, иногда малой кучке людей удается захватить власть; тогда поднимается весь народ, и необходимость отстоять свое право может заставить взяться за оружие. Во всех вопросах, вытекающих из державной власти коллектива, война целого против отдельной его части является восстанием, а нападение части на целое есть мятеж; в зависимости от того, кто занимает Тюильри, король или Конвент, нападение на Тюильри может быть справедливым или несправедливым. Одна и та же пушка, наведенная на толпу, виновна 10 августа и права 14 вандемьера. С виду схоже, по существу различно; швейцарцы защищали ложное, Бонапарт – истинное. То, что всеобщее голосование создало в сознании своей свободы и верховенства, не может быть разрушено улицей. Так же и во всем, что касается собственно цивилизации: инстинкт массы, вчера ясновидящий, может на следующий день изменить ей. Один и тот же порыв ярости законен против Террея и бессмыслен против Тюрго. Поломка машин, разграбление складов, порча рельс, разрушение доков, заблуждение масс, осуждение прогресса народным правосудием, Рамюс, убитый школярами, Руссо, изгнанный из Швейцарии градом камней, – это мятеж. Израиль против Моисея, Афины против Фокиона, Рим против Сципиона – это мятеж; Париж против Бастилии – это восстание. Солдаты против Александра, матросы против Христофора Колумба – это бунт, бунт нечестивый. Почему? Потому что Александр сделал для Азии с помощью меча то, что Христофор Колумб сделал для Америки с помощью компаса; Александр, как Колумб, нашел целый мир. Приобщение этих миров к цивилизации означает такое усиление света, что здесь всякое противодействие преступно. Иногда народ нарушает верность самому себе. Толпа предает народ. Встречается ли, например, что-либо более странное, чем длительное в кровавое сопротивление соляных контрабандистов, этот законный непрерывный протест, который в решительный момент, в день спасения, в час народной победы, оборачивается шуанством, объединяется с троном, и восстание «против» становится мятежом «за»! Мрачные образцы невежества! Соляной контрабандист ускользает от королевской виселицы и, еще с обрывком веревки, болтающимся у него на шее, нацепляет белую кокарду. «Смерть соляной пошлине!» порождает «Да здравствует король!». Злодеи Варфоломеевской ночи, сентябристы 1792 года, авиньонские душегубы, убийцы Колиньи, убийцы госпожи де Ламбаль, убийцы Брюна, шайки сторонников Наполеона в Испании, зеленые лесные братья, термидорианцы, банды Жегю, кавалеры Нарукавной повязки – вот мятеж. Вандея – это огромный католический мятеж. Голос возмущенного права распознать нетрудно, но он не всегда исходит от потрясенных, взбудораженных, пришедших в движение масс; есть бессмысленное бешенство, есть треснувшие колокола, не во всяком набате звучит бронза. Колебание страстей и невежества – нечто иное, чем толчок прогресса. Восставайте, пусть, но только для того, чтобы расти! Укажите мне, куда вы идете. Восстание – это только движение вперед. Всякое другое возмущение вредно. Всякий яростный шаг назад есть мятеж; движение вспять – это насилие над человеческим родом. Восстание – это взрыв ярости, охватившей истину; уличные мостовые, взрытые восстанием, высекают искры права. Эти же мостовые предоставляют мятежу только свою грязь. Дантон против Людовика XVI – это восстание; Гебер против Дантона – это мятеж.
Отсюда следует, что если восстание, подобное упомянутым выше, может быть, как сказал Лафайет, самым священным долгом, то мятеж может быть самым роковым, преступным покушением.
Существует и некоторое различие в степени накала; нередко восстание – вулкан, а мятеж – горящая солома.
Бунт, мы уже отметили это, вспыхивает иной раз в недрах самой власти. Полиньяк – мятежник; Камилл Демулен – правитель.
Порою восстание – это возрождение.
Решение всех вопросов посредством всеобщего голосования – явление совершенно новое, поэтому каждая эпоха предшествовавшей нам истории, в течение четырех тысяч лет только и говорившей что о попранном праве и страдании народов, несла с собой свою, возможную для нее форму протеста. При цезарях не было восстания, зато был Ювенал.
Facit indignatio[133] заступает место Гракхов.
При цезарях был сиенский изгнанник; был, кроме него, и человек, написавший «Анналы».
Мы не говорим о великом изгнаннике Патмоса, он также обрушил свой гнев на мир реальный во имя мира идеального, создал из своего видения чудовищную сатиру и отбросил на Рим-Ниневию, на Рим-Вавилон, на Рим-Содом пылающий отблеск Апокалипсиса.
Иоанн на своей скале – это сфинкс на пьедестале; можно его не понимать, он еврей, и язык его слишком труден; но человек, написавший «Анналы», – латинянин; выразимся точнее – римлянин.
Царствование неронов напоминает мрачные гравюры, напечатанные меццо-тинто, поэтому надо и их самих изображать тем же способом. Работа одним гравировальным резцом вышла бы слишком бледной; следует влить в сделанные им борозды сгущенную, язвящую прозу.
Деспоты оказывают некоторое влияние на мыслителей. Слово, закованное в цепи, – слово страшное. Писатель удваивает и утраивает силу своего пера, когда молчание навязано народу властелином. Из этого молчания вытекает некая таинственная полнота, просачивающаяся в мысль и застывающая в ней бронзой. Гнет в истории порождает сжатость у историков. Гранитная прочность их прославленной прозы лишь следствие уплотнения ее тираном.
Тирания вынуждает писателя к уменьшению объема, что увеличивает силу произведения. Острие цицероновского периода, едва ощутимое для Верреса, совсем затупилось бы о Калигулу. Меньше размаха в строении фразы – больше напряженности в ударе. Тацит мыслит со всей мощью.
Честность великого сердца, превратившаяся в сгусток истины и справедливости, поражает подобно молнии.
Скажем мимоходом, примечательно, что Тацит исторически не противостоял Цезарю. Для него были приуготовлены Тиберии. Цезарь и Тацит – два последовательных явления, встречу которых таинственным образом отклонил тот, кто в постановке веков на сцене руководит входами и выходами. Цезарь велик, Тацит велик; бог пощадил эти два величия, не столкнув их между собой. Страж справедливости, нанеся удар Цезарю, мог бы ударить слишком сильно и быть несправедливым. Господь не пожелал этого. Великие войны в Африке и в Испании, уничтожение сицилийских пиратов, насаждение цивилизации в Галлии, в Британии, в Германии – вся эта слава искупает Рубикон. Здесь сказывается своего рода чуткость божественного правосудия, которое поколебалось выпустить на узурпатора грозного историка и спасло Цезаря от Тацита, признав за гением смягчающие обстоятельства.
Конечно, деспотизм остается деспотизмом даже при гениальном деспоте. И во времена прославленных тиранов процветает развращенность, но нравственная чума еще более отвратительна при тиранах бесчестных. В пору их владычества ничто не заслоняет постыдных дел, и мастера на примеры – Тацит и Ювенал – с еще большею пользой бичуют перед лицом человечества этот позор, которому нечего возразить.
Рим смердит отвратительнее при Вителлии, чем при Сулле. При Клавдии и Домициане отвратительное пресмыкательство соответствует мерзости тирана. Низость рабов – дело рук деспота; их растленная совесть, в которой отражается их повелитель, распространяет вокруг себя миазмы; власть имущие гнусны, сердца мелки, совесть немощна, души зловонны; то же при Каракалле, то же при Коммоде, то же при Гелиогабале, тогда как из римского сената времен Цезаря исходит запах помета, свойственный орлиному гнезду.
Отсюда появление, с виду запоздалое, Тацитов и Ювеналов; лишь когда очевидность становится бесспорной, приходит ее истолкователь.
Но и Ювенал, и Тацит, точно так же как Исайя в библейские времена, как Данте в эпоху Средневековья, – это человек; мятеж и восстание – это народ, иногда неправый, иногда правый.
В наиболее частых случаях мятеж является следствием причин материального порядка; восстание – всегда явление нравственного порядка. Мятеж – это Мазаньелло, восстание – это Спартак. Восстание в дружбе с разумом, мятеж – с желудком. Чрево раздражается, но Чрево, конечно, не всегда виновно. В случаях голода мятеж, в Бюзансе например, имеет реальный, волнующий и справедливый повод. Тем не менее он остается мятежом. Почему? Потому что, будучи правым по существу, он неправ по форме. Свирепый, хотя и справедливый, исступленный, хотя и мощный, он поражал наугад; он шествовал, как слепой слон, все круша на пути. Он оставлял за собой трупы стариков, женщин и детей, он проливал, сам не зная почему, кровь невинных и безобидных. Накормить народ – цель хорошая, истреблять его – плохой для этого способ.
Всякий вооруженный народный протест, даже самый законный, даже 10 августа, даже 14 июля, начинается той же смутой. Перед тем как право разобьет свои оковы, поднимаются волнение и пена. Нередко начало восстания – мятеж, точно так же как исток реки – горный поток. И обычно оно впадает в океан – Революцию. Иногда, однако, рожденное на тех горных вершинах, которые возносятся над нравственным горизонтом, на высотах справедливости, мудрости, разума и права, созданное из чистейшего снега идеала, после долгого падения со скалы на скалу, отразив в своей прозрачности небо и вздувшись от сотни притоков в величественном своем триумфальном течении, восстание вдруг теряется в какой-нибудь буржуазной трясине, как Рейн в болоте.
Все это в прошлом, будущее – иное. Всеобщее голосование замечательно тем, что оно уничтожает самые принципы мятежа и, предоставляя право голоса восстанию, обезоруживает его. Исчезновение войн – как уличных войн, так и войн на границах государства – вот в чем скажется неизбежный прогресс. Каково бы ни было наше Сегодня, наше Завтра – это мир.
Впрочем, восстание, мятеж, чем бы первое ни отличалось от второго, в глазах истого буржуа одно и то же, он мало разбирается в этих оттенках. Для него все это просто-напросто беспорядки, крамола, бунт собаки против хозяина, лай, тявканье, попытка укусить, за которую следует посадить на цепь в конуру; так он думает до того дня, когда собачья голова, внезапно увеличившись, неясно обрисуется в полутьме, приняв львиный облик.
Тогда буржуа кричит: «Да здравствует народ!».
Чем же, после этого объяснения, является для истории июньское движение 1832 года? Мятеж это или восстание?
Это восстание.
Может статься, что в изображении грозного события нам придется иногда употребить слово «мятеж», но лишь для того, чтобы определить внешние его проявления, в то же время всегда памятуя о различии между его формой – мятежом и его сущностью – восстанием.
Движение 1832 года, в его стремительном взрыве, в его мрачном угасании, было так величаво, что даже те, кто видит в нем только мятеж, говорят о нем с уважением. Для них это как бы отзвук 1830 года. Взволнованное воображение, заявляют они, в один день не успокоить. Революция сразу не прекращается. Подобно горной цепи, спускающейся к долине, она всегда неизбежно вздымается несколько раз, прежде чем приходит к состоянию спокойствия. Без Юрского кряжа нет Альп, без Астурии нет Пиренеев.
Этот исполненный пафоса кризис современной истории, который парижане памятуют как эпоху мятежей, без сомнения, представляет собой характерный час среди бурных часов нынешнего века.
Еще несколько слов, прежде чем приступить к рассказу.
События, подлежащие изложению, неотделимы от той живой и драматической действительности, которою историк иногда пренебрегает за отсутствием места и времени. Однако тут, и мы настаиваем на этом, – именно тут жизнь, трепет, биение человеческого сердца. Малые подробности, как мы, кажется, уже говорили, – это, так сказать, листва великих событий, и они теряются в далях истории. Эпоха, именуемая мятежной, изобилует подробностями такого рода. Судебные следствия, хоть и по иным основаниям, чем история, но также не все выявили и, быть может, не все глубоко изучили. Поэтому мы собираемся осветить, кроме известных и попавших в печать обстоятельств, то, что не ведомо никому, – факты, над которыми прошло забвение одних и смерть других. Большинство действующих лиц этих гигантских сцен исчезло, они умолкли уже назавтра; но мы можем дать заверение: мы сами видели то, о чем расскажем. Мы изменим некоторые имена, потому что история повествует, а не выдает, но изобразим то, что было на самом деле. В рамках книги, которую мы пишем, мы покажем только одну сторону событий и только один эпизод, и, наверное, наименее известный, – дни 5 и 6 июня 1832 года; но мы сделаем это таким образом, что читатель увидит под темным покрывалом, которое мы собираемся приподнять, подлинный облик этого страшного общественного дерзновения.
Глава 3. Погребение – повод к возрождению.
Весной 1832 года, несмотря на то что эпидемия холеры в течение трех месяцев леденила возбужденные умы, наложив на них печать какого-то мрачного успокоения, Париж, в котором давно назревало недовольство, готов был вспыхнуть. Как мы уже отмечали, большой город похож на артиллерийское орудие: когда оно заряжено, достаточно искры, чтобы последовал залп. В июне 1832 года такой искрой оказалась смерть генерала Ламарка.
Ламарк был человек действия и доброй славы. Последовательно, при Империи и при Реставрации, он проявил двойную доблесть, необходимую для этих двух эпох: доблесть воина и доблесть оратора. Он был так же красноречив, как ранее был отважен: его слово было подобно мечу. Как и Фуа, его предшественник, он, высоко державший знамя командования, теперь высоко держал знамя свободы. Занимая место между левой и крайней левой, он был любим народом за то, что смело смотрел в будущее, и толпой – за то, что хорошо служил императору. Вместе с графом Жераром и графом Друэ он чувствовал себя in petto[134] одним из маршалов Наполеона. Трактаты 1815 года задели его как личное оскорбление. Он ненавидел Веллингтона нескрываемой ненавистью, вызывавшей сочувствие у народа, и в продолжение семнадцати лет, едва замечая происходившие в это время события, величественно хранил печаль Ватерлоо. Умирая, он в свой смертный час прижал к груди шпагу, которую ему поднесли как почетную награду офицеры Ста дней. Наполеон умер со словом армия на устах, Ламарк – со словом отечество.
Близкая его смерть страшила народ, как потеря, а правительство – как повод к волнениям. Эта смерть была трауром. Как всякая скорбь, траур может обернуться взрывом. Так именно и произошло.
В канун и утро 5 июня – день, назначенный для погребения генерала Ламарка, Сент-Антуанское предместье, мимо которого должна была проходить похоронная процессия, приняло угрожающий вид. Запутанная сеть улиц наполнилась глухим ропотом толпы. Люди вооружались, как могли. Столяры запасались распорками от своих верстаков, «чтобы взламывать двери». Один из них сделал кинжал из крючка для надевания сапог, взятого у сапожника, отломив его и заточив обломок. Другой, горя желанием «идти на приступ», три дня спал не раздеваясь. Один плотник, по имени Ломбье, встретил приятеля; тот спросил: «Куда ты идешь?» – «Да, видишь ли, у меня нет оружия». – «Ну, так что же?» – «Вот я и иду на стройку за своим циркулем». – «А на что он тебе?» – «Не знаю», – ответил Ломбье. Некто Жаклин, человек предприимчивый, ловил проходивших рабочих: «Ну-ка, поди сюда!» Потом давал им десять су на вино и спрашивал: «У тебя есть работа?» – «Нет». – «Поди к Фиспьеру, что между Монрейльской и Шаронской заставами, там найдешь работу». У Фиспьера они получали патроны и оружие. Некоторые известные главари «гоняли, точно на почтовых», то есть бегали повсюду, чтобы собрать свой народ. У Бартелеми, возле Тронной заставы, и у Капеля, в «Колпачке», посетители подходили друг к другу с серьезным видом. Слышно было, как они переговаривались: «Ты где держишь пистолет?» – «Под блузой». – «А ты?» – «Под рубашкой». На Поперечной улице, у мастерской Роланда, и во дворе Мезон-Брюле, против мастерской инструментальщика Бернье, шептались кучки людей. Неистовой своей горячностью бросался в глаза некий Маво, который ни в одной мастерской не работал более недели – хозяева увольняли его, «потому что приходилось все время спорить с ним». Маво был убит на баррикаде на улице Менильмонтан. Прето, которому тоже суждено было умереть в схватке, вторил Маво и на вопрос: «Чего же ты хочешь?» – отвечал: «Восстания». Рабочие, собравшись на углу улицы Берси, поджидали некоего Лемарена, революционного уполномоченного предместья Сен-Марсо. Пароль передавался друг другу почти открыто.
Итак, 5 июня, в день, попеременно то солнечный, то дождливый, по улицам Парижа с официальной, военной пышностью, из предосторожности несколько преувеличенной, следовал похоронный кортеж генерала Ламарка. Гроб сопровождали два батальона с барабанами, затянутыми черным крепом, и с опущенными ружьями, десять тысяч национальных гвардейцев с саблями на боку и артиллерийские батареи национальной гвардии. Катафалк везла молодежь. За ним шли отставные офицеры с лавровыми ветвями в руках. Затем шествовало несметное множество людей, возбужденное, необычное, – члены общества Друзей народа, студенты юридического факультета, медицинского факультета, изгнанники всех национальностей; знамена испанские, итальянские, польские, немецкие, трехцветные длинные знамена, всевозможные флаги; дети, размахивающие зелеными ветками, плотники и каменотесы, как раз бастовавшие в это время, типографщики, приметные по их бумажным колпакам, шли по двое, по трое, крича, почти все размахивая палками, а некоторые и саблями, беспорядочно и тем не менее дружно, иногда шумной толпой, иногда колонной. Отдельные группы выбирали себе предводителей; какой-то человек, вооруженный парой отчетливо проступавших под одеждой пистолетов, казалось, делал смотр плотным рядам, которые проходили перед ним. На боковых аллеях бульваров, на сучьях деревьев, на балконах, в окнах, на крышах – всюду виднелись головы мужчин, женщин, детей; все глаза были полны тревоги. Толпа вооруженная проходила, толпа смятенная глядела.
Правительство наблюдало в свою очередь. Оно наблюдало, держа руку на эфесе шпаги. На площади Людовика XV можно было заметить в боевой готовности, с полными патронташами, с заряженными ружьями и мушкетонами, четыре эскадрона карабинеров на конях, с трубачами во главе; в Латинском квартале и в Ботаническом саду – муниципальную гвардию, построенную эшелонами от улицы к улице; на Винном рынке – эскадрон драгун; на Гревской площади – половину 12-го полка легкой кавалерии, другую половину – на площади Бастилии; 6-й драгунский – у Целестинцев; двор Лувра запрудила артиллерия. Остальные войска, не считая полков парижских окрестностей, стояли в казармах, ожидая приказа. Встревоженные власти держали наготове, чтобы обрушить их на грозные толпы, двадцать четыре тысячи солдат в городе и тридцать тысяч в пригороде.
В процессии передавались всевозможные слухи. Говорили о происках легитимистов; говорили о герцоге Рейхштадтском, которого бог приговорил к смерти в ту самую минуту, когда толпа прочила его в императоры. Некто, оставшийся неизвестным, объявил, что в назначенный час два завербованных мастера откроют народу ворота оружейного завода. На лицах большинства людей, шедших с обнаженной головой, преобладало выражение восторженности и одновременно подавленности. Там и сям среди этого множества народа, находившегося во власти столь неистовых, но благородных чувств, виднелись также физиономии настоящих злодеев, виднелись гнусные рты, словно кричавшие: «Пограбим!» Существуют такого рода волнения, которые словно взбалтывают глубину болот, и тогда со дна поднимается на поверхность туча грязи. Явление это возникает не без участия «хорошо организованной» полиции.
Шествие двигалось с какой-то лихорадочной медлительностью вдоль бульваров, от дома умершего до самой Бастилии. Время от времени накрапывал дождь, но толпа не замечала его. Несколько происшествий – гроб, обнесенный вокруг Вандомской колонны, камни, брошенные в замеченного на балконе герцога Фицжама, который не обнажил головы при виде шествия, галльский петух, сорванный с одного народного знамени и втоптанный в грязь, полицейский, раненный ударом сабли у ворот Сен-Мартен, офицер 12-го легкого кавалерийского полка, громко провозгласивший: «Я республиканец», Политехническая школа, неожиданно вырвавшаяся из своего вынужденного заточения и появившаяся здесь, крики: «Да здравствует Политехническая школа! Да здравствует Республика!» – отметили путь процессии. У Бастилии длинные ряды любопытных устрашающего вида, спустившись из Сент-Антуанского предместья, присоединились к похоронному кортежу, и какое-то грозное волнение всколыхнуло толпу.
Слышали, как один человек сказал другому: «Видишь вон того, с рыжей бородкой, он-то и скажет, когда надо будет стрелять». Кажется, эта самая рыжая бородка снова появилась позднее, в той же самой роли, но во время другого выступления, в деле Кениссе.
Похоронная колесница миновала Бастилию, проследовала вдоль канала, пересекла маленький мост и достигла эспланады Аустерлицкого моста. Там она остановилась. Если бы в это время взглянуть на толпу с высоты птичьего полета, то она показалась бы кометой, голова которой находилась у эспланады, а хвост распускался на Колокольной набережной, площади Бастилии и тянулся по бульвару до ворот Сен-Мартен. У колесницы образовался круг. Огромная толпа умолкла. Говорил Лафайет, он прощался с Ламарком. Это была умилительная и торжественная минута. Все головы обнажились, забились все сердца. Внезапно среди толпы появился всадник в черном, с красным знаменем в руках, а некоторые говорили – с пикой, увенчанной красным колпаком. Лафайет отвернулся. Эксельманс покинул процессию.
Красное знамя подняло бурю и исчезло в ней. От Колокольного бульвара до Аустерлицкого моста по толпе прокатился гул, подобный шуму морского прибоя. Раздались громогласные крики: Ламарка в Пантеон! Лафайета в ратушу! Молодые люди при одобрительных восклицаниях толпы впряглись в похоронную колесницу и фиакр и повлекли Ламарка через Аустерлицкий мост, а Лафайета по Морландской набережной.
В толпе, окружавшей и приветствовавшей Лафайета, люди, заметив одного немца, по имени Людвиг Шнейдер, показывали на него друг другу; этот человек, умерший впоследствии столетним стариком, тоже участвовал в войне 1776 года, дрался при Трентоне под командой Вашингтона и при Брендивайне под командой Лафайета.
Тем временем на левом берегу двинулась вперед муниципальная кавалерия и загородила мост, на правом – драгуны тронулись от Целестинцев и развернулись на Морландской набережной. Народ, сопровождавший катафалк Лафайета, внезапно заметил их на повороте набережной и закричал: «Драгуны!» Драгуны, с пистолетами в кобурах, саблями в ножнах, мушкетами в чехлах при седлах, молча двигались вперед шагом, с видом мрачного выжидания.
В двухстах шагах от маленького моста они остановились. Фиакр Лафайета достиг их, они разомкнули ряды, пропустили его и снова сомкнулись. В это время драгуны и толпа вошли в соприкосновение. Женщины в ужасе бросились бежать.
Что произошло в эту роковую минуту? Никто не сумел бы ответить. Это было смутное мгновение, когда две тучи слились в одну. Кто говорил, что со стороны Арсенала была услышана фанфара, подавшая сигнал к атаке, а другие – что какой-то мальчик ударил кинжалом драгуна, с этого и началось. Несомненно лишь одно: внезапно раздались три выстрела, первым был убит командир эскадрона Шоле, вторым – глухая старуха, закрывавшая окно на улице Контрэскарп, третий задел эполет у одного офицера; какая-то женщина закричала: «Начали слишком рано!..» – и тут же со стороны, противоположной Морландской набережной, показался остававшийся до сих пор в казармах эскадрон драгун, с саблями наголо, мчавшийся галопом по улице Бассомпьера и Колокольному бульвару, сметая все перед собой.
Теперь кончено: разражается буря, летят камни, гремят ружейные выстрелы, многие стремглав бегут вниз по скату и перебираются через малый рукав Сены, в настоящее время засыпанный; тесные дворы острова Лувье, этой обширной естественной крепости, наводнены сражающимися; здесь вырывают из оград колья, стреляют из пистолетов, воздвигается баррикада; молодые люди, оттесненные назад, проносятся бегом с похоронной колесницей по Аустерлицкому мосту и нападают на муниципальную гвардию, прибегают карабинеры, драгуны рубят саблями, толпа рассыпается в разные стороны, шум войны разносится по всем четырем концам Парижа, люди кричат: «К оружию!», люди бегут, падают, отступают, сопротивляются. Гнев раздувает мятеж, как ветер раздувает огонь.
Глава 4. Волнения былых времен.
Нет ничего более изумительного, чем первые часы закипающего мятежа. Все вспыхивает всюду и сразу. Было ли это предвидено? Да. Было ли подготовлено? Нет. Откуда это исходит? От уличных мостовых. Откуда это падает? С облаков. Здесь восстание имеет характер заговора, там – внезапного порыва гнева. Первый прохожий завладевает потоком толпы и направляет его куда хочет. Начало, исполненное ужаса, к которому примешивается какая-то зловещая веселость. Сперва раздаются крики, магазины запираются, вмиг исчезают выставки товаров; потом слышатся отдельные выстрелы; люди бегут; удары прикладов сотрясают ворота; слышно, как во дворах хохочут служанки, приговаривая: «Ну, теперь начнется потеха!».
Не прошло и четверти часа, как в двадцати различных местах Парижа почти в одно и то же время произошло следующее.
На улице Сент-Круа-де-ла-Бретоннери десятка два молодых людей, длинноволосых и бородатых, вошли в кабачок и минуту спустя вышли оттуда с трехцветным длинным знаменем, обернутым крепом, и тремя вооруженными людьми во главе – один из них держал саблю, другой ружье, третий пику.
На улице Нонендьер хорошо одетый буржуа, лысый, с брюшком, с высоким лбом, черной бородой и жесткими торчащими усами, звучным голосом открыто предлагал прохожим патроны.
На улице Сен-Пьер-Монмартр люди с засученными рукавами несли черное знамя, на нем белыми буквами начертаны были слова: Республика или смерть! На улицах Постников, Часовой, Монторгейль, Мандар появились кучки людей со знаменами, на которых блестели написанные золотыми буквами слова секция и номер. Одно из этих знамен было красное с синим и чуть заметной промежуточной белой полоской.
На бульваре Сен-Мартен разгромили оружейную мастерскую и три лавки оружейников – одну на улице Бобур, вторую на улице Мишель-ле-Конт, третью на улице Тампль. В несколько минут тысячерукая толпа расхватала и унесла двести тридцать ружей – почти все двухствольные, – шестьдесят четыре сабли, восемьдесят три пистолета. Чтобы вооружить побольше людей, один брал ружье, другой – штык.
Напротив Гревской набережной молодые люди, вооруженные карабинами, располагались для стрельбы в квартирах, где остались только женщины. У одного из них было кремневое ружье. Эти люди звонили у дверей, входили и принимались делать патроны. Одна из женщин рассказывала: «Я и не знала, что это такое – патроны, мой муж потом сказал мне».
Толпа людей на улице Вьей-Одриет взломала двери лавки редкостей и унесла оттуда ятаганы и турецкое оружие.
Труп каменщика, убитого ружейным выстрелом, валялся на Жемчужной улице.
И всюду – на левом берегу, на правом берегу, на всех набережных, на бульварах, в Латинском квартале, в квартале рынков – запыхавшиеся мужчины, рабочие, студенты, члены секций, читали прокламации и кричали: «К оружию!», били фонари, распрягали повозки, разбирали мостовые, взламывали двери домов, вырывали с корнем деревья, шарили в погребах, выкатывали бочки, громоздили булыжник, бут, мебель, доски, строили баррикады.
Они заставляли буржуа помогать им. Заходили к женщинам, требовали у них сабли и ружья отсутствующих мужей, потом испанскими белилами писали на дверях: Оружие сдано. Некоторые ставили «собственное имя» на расписке в получении ружья и сабли, говоря при этом: Завтра пошлите за ними в мэрию. На улицах разоружали часовых-одиночек и национальных гвардейцев, шедших в муниципалитет. С офицеров срывали эполеты. На улице Кладбище Сен-Никола́ офицеру национальной гвардии, которого преследовала толпа, вооруженная палками и рапирами, с большим трудом удалось укрыться в одном доме, откуда он мог выйти только ночью и переодетый.
В квартале Сен-Жак студенты целыми роями выходили из своих меблированных комнат и поднимались по улице Сен-Иасент к кафе «Прогресс» или спускались вниз к кафе «Семь бильярдов» на улице Матюринцев. Там молодые люди, стоя на каменных тумбах у подъездов, распределяли оружие. На улице Транснонен, чтобы построить баррикады, разнесли лесной склад. Лишь в одном только месте – на углу улиц Сент-Авуа и Симон-де-Фран – жители оказали сопротивление и сами разрушили баррикаду. И лишь в одном только месте повстанцы отступили: обстреляв отряд национальной гвардии, они оставили баррикаду, начатую на улице Тампль, и бежали по Канатной улице. Отряд подобрал на баррикаде красное знамя, пакет с патронами и триста пистолетных пуль. Гвардейцы разорвали знамя и унесли клочья на своих штыках.
То, что мы здесь рассказываем медленно и последовательно, происходило сразу во всем городе, среди невероятной суматохи, подобно множеству молний, вспыхнувших при одном раскате грома.
Меньше чем за час двадцать семь баррикад выросли точно из-под земли в одном только квартале рынков. Средоточием их был тот знаменитый дом № 50, который служил крепостью Жанну и его ста шести соратникам; защищенный с одной стороны баррикадой Сен-Мерри, а с другой – баррикадой на улице Мобюэ, он господствовал над улицами Арси, Сен-Мартен и улицей Обри-ле-Буше, являвшейся его фронтом. Две баррикады заходили под прямым углом – одна с улицы Монторгейль на улицу Большая Бродяжная, другая – с улицы Жофруа-Ланжевен на улицу Сент-Авуа. Это не считая бесчисленных баррикад в двадцати других кварталах Парижа, в Марэ, на горе Сент-Женевьев; не считая еще одной – на улице Менильмонтан, где виднелись ворота, сорванные с петель, и другой – возле маленького моста Отель-Дье, сооруженной из опрокинутой двуколки, в трехстах шагах от полицейской префектуры.
У баррикады на улице Гудочников какой-то хорошо одетый человек раздавал деньги ее строителям. У баррикады на улице Гренета появился всадник и вручил тому, кто казался начальником баррикады, сверток, похожий на сверток с монетами. «Вот, – сказал он, – на расходы, на вино и прочее». Молодой блондин, без галстука, переходил от баррикады к баррикаде, сообщая пароль. Другой, в синей полицейской фуражке, с обнаженной саблей, расставлял часовых. Кабачки и помещения привратников внутри, за баррикадами, были превращены в караульные посты. К тому же мятеж вел себя согласно законам искуснейшей военной тактики. Узкие, неровные, извилистые улицы, с бесчисленными углами и поворотами, были выбраны превосходно, в особенности окрестности рынков, представляющие собой сеть улиц, более запутанную и беспорядочную, чем лес. Говорили, что общество Друзей народа взяло на себя руководство восстанием в квартале Сент-Авуа. Человек, убитый на улице Понсо, как установили, обыскав его, имел при себе план Парижа.
В действительности же правила мятежом какая-то неведомая стремительная сила, носившаяся в воздухе. Восстание, мгновенно построив баррикады одною рукою, другою захватило почти все сторожевые посты гарнизона. Меньше чем в три часа, подобно вспыхнувшей пороховой дорожке, повстанцы отбили и заняли на правом берегу Арсенал, мэрию на Королевской площади, все Марэ, оружейный завод Попенкур, Галиот, Шато-д’О, все улицы возле рынков; на левом берегу – казармы Ветеранов, Сент-Пелажи, площадь Мобер, пороховой погреб Двух мельниц, все заставы. К пяти часам вечера они уже были хозяевами Бастилии, Ленжери, квартала Белые мантии; их разведчики вошли в соприкосновение с площадью Победы и угрожали Французскому банку, казарме Пти-Пер, Почтамту. Треть Парижа была в руках повстанцев.
Битва завязалась всюду с гигантским размахом; разоружения, домашние обыски, быстро захваченные лавки оружейников свидетельствовали о том, что сражение, начатое градом камней, продолжалось ливнем оружейных выстрелов.
К шести часам вечера пассаж Сомон стал полем боя. Мятежники заняли один его конец, войска – другой, противоположный. Перестреливались от одной решетки к другой. Наблюдатель, мечтатель, автор этой книги, отправившись взглянуть на вулкан поближе, оказался в пассаже между двух огней. Он мог укрыться от пуль, только спрятавшись за полуколоннами, разделявшими лавки; почти полчаса он провел в этом щекотливом положении.
Тем временем пробили сбор, национальные гвардейцы торопливо одевались и вооружались, отряды выходили из мэрий, полки из казарм. Против Якорного пассажа один барабанщик получил удар кинжалом. Другой на Лебяжьей улице был окружен тридцатью молодыми людьми, которые прорвали его барабан и отобрали саблю. Третий был убит на улице Гренье-Сен-Лазар. На улице Мишель-ле-Конт три офицера пали мертвыми один за другим. Много муниципальных гвардейцев, раненных на Ломбардской улице, отступили.
Перед Батавским подворьем отряд национальной гвардии обнаружил красное знамя с такой надписью: Республиканская революция, № 127. Была ли это революция на самом деле?
Восстание превратило центр Парижа в какую-то недоступную, в извилинах улиц, огромную цитадель.
Там находился очаг восстания; очевидно, все дело было в нем. Остальное представляло собою лишь мелкие стычки. В центре до сих пор еще не дрались, это и доказывало, что вопрос решался именно там.
В некоторых полках солдаты колебались, и это увеличивало ужасающую неизвестность исхода. Они вспоминали народное ликование, с которым была встречена в июне 1830 года нейтральность 53-го линейного полка. Два человека, бесстрашные и испытанные в больших войнах, маршал Лобо и генерал Бюжо, командовали войсками – Бюжо под начальством Лобо. Огромные патрули, состоявшие из пехотных батальонов, окруженные ротами национальной гвардии и предшествуемые полицейскими приставами в шарфах, производили разведку занятых повстанцами улиц. А повстанцы ставили дозоры на перекрестках и дерзко высылали патрули за линию баррикад. Обе стороны наблюдали друг за другом. Правительство, располагая целой армией, все же было в нерешительности; близилась ночь, и послышался набат Сен-Мерри. Тогдашний военный министр, маршал Сульт, видевший Аустерлиц, смотрел на это мрачно.
Эти старые морские волки, привыкшие к правильным военным приемам и обладавшие в качестве источника силы и руководства только знанием тактики – этого компаса сражений, совершенно растерялись при виде необозримой бурлящей стихни, которая зовется народным гневом. Ветром революции управлять нельзя.
Национальные гвардейцы предместья прибежали второпях в беспорядке. Батальон 12-го легкого полка прибыл на рысях из Сен-Дени, 14-й линейный пришел из Курбвуа, батареи военной школы заняли позиции на площади Карусель; из Венсенского леса спустились пушки.
В Тюильри становилось пустынно, но Луи-Филипп сохранял полное спокойствие.
Глава 5. Своеобразие Парижа.
Как мы уже говорили, Париж в течение двух лет видел не одно восстание. Обычно, за исключением взбунтовавшихся кварталов, ничто не отличается столь удивительным спокойствием, как облик Парижа во время мятежа. Париж очень быстро свыкается со всем – ведь это всего лишь мятеж, а у Парижа так много дел, что он не беспокоится из-за всякого пустяка. Только такие огромные города могут представлять собой подобное зрелище. Только в их бесконечных пределах совместима гражданская война с какой-то странной невозмутимостью. Каждый раз, когда в Париже начинается восстание, когда слышатся барабан, сигналы сбора и тревоги, лавочник ограничивается тем, что говорит:
– Кажется, на улице Сен-Мартен заварилась каша.
Или:
– В предместье Сент-Антуан.
Часто он беззаботно прибавляет:
– Где-то в той стороне.
Позже, когда уже можно различить мрачную и раздирающую душу трескотню перестрелки и ружейные залпы, лавочник говорит:
– Дерутся там, что ли? Так и есть, пошла драка!
Немного спустя, если мятеж приближается и берет верх, хозяин лавки быстро закрывает ее и поспешно напяливает мундир, иначе говоря, спасает свои товары и подвергает опасности самого себя.
Пальба на перекрестке, в пассаже, в тупике. Захватывают, отдают и снова берут баррикады; течет кровь, картечь решетит фасады домов, пули убивают людей в постелях, трупы усеивают мостовые. А пройдя несколько улиц, можно услышать стук бильярдных шаров в кофейнях.
Театры открыты, там разыгрываются водевили; любопытные беседуют и смеются в двух шагах от улиц, где торжествует война. Проезжают фиакры, прохожие идут обедать в рестораны, и иногда в тот самый квартал, где сражаются. В 1831 году стрельба была приостановлена, чтобы пропустить свадебный поезд.
Во время восстания 12 мая 1839 года на улице Сен-Мартен маленький хилый старичок, тащивший увенчанную трехцветной тряпкой ручную тележку, в которой стояли графины с какой-то жидкостью, переходил от баррикады к осаждавшим ее войскам и от войск к баррикаде, услужливо предлагая стаканчик настойки то правительству, то анархии.
Нет ничего более поразительного, но такова характерная особенность парижских мятежей; ни в одной из других столиц ее не встретишь. Для этого необходимы два условия – величие Парижа и его веселость. Надо быть городом Вольтера и Наполеона.
Однако на этот раз, в вооруженном выступлении 5 июня 1832 года, великий город почувствовал нечто, быть может, более сильное, чем он сам. Он испугался. Всюду, в наиболее отдаленных и «безучастных» кварталах, виднелись запертые среди бела дня двери, окна и ставни. Храбрецы вооружались, трусы прятались. Исчез и праздный, и занятой прохожий. Многие улицы были безлюдны, словно в четыре часа утра. Передавались тревожные подробности, распространялись зловещие слухи о том, что они овладели Французским банком; что в одном только монастыре Сен-Мерри шестьсот человек укрепились в церкви и засели за проделанными в стенах бойницами; что пехотные войска ненадежны; что Арман Карель видел маршала Клозеля, и маршал сказал: Сначала раздобудьте полк; что Лафайет болен, но тем не менее заявил им: Я ваш. Я буду с вами всюду, где только найдется место для носилок; что нужно быть настороже; что ночью явятся люди, которые пойдут грабить уединенные дома в пустынных уголках Парижа (здесь можно узнать разыгравшееся воображение полиции, этой Анны Ратклиф в услужении у правительства); что целая батарея заняла позицию на улице Обри-ле-Буше, что Лобо и Бюжо согласовали свои действия и в полночь или, самое позднее, на рассвете четыре колонны одновременно выступят к центру восстания – первая от Бастилии, вторая от ворот Сен-Мартен, третья от Гревской площади, четвертая от рынков; что, впрочем, возможно, войска оставят Париж и отступят к Марсову полю; что вообще неизвестно, чего надо ждать, но на этот раз дело обстоит, несомненно, серьезно. Всех тревожила нерешительность маршала Сульта. Почему он не атакует немедленно? Было очевидно, что он крайне озабочен. Казалось, старый лев учуял в этом мраке какое-то неведомое чудовище.
Наступил вечер, театры не открылись, патрули, разъезжая с сердитым видом, обыскивали прохожих, арестовывали подозрительных. К десяти часам было задержано более восьмисот человек; полицейская префектура была переполнена, тюрьма Консьержери переполнена, тюрьма Форс переполнена. В частности, в Консьержери длинное подземелье, именовавшееся «Парижской улицей», было все покрыто охапками соломы, на которых валялось множество арестованных; некто Лагранж, лионец, мужественно поддерживал их своим красноречием. Шуршание соломы под этими копошащимися на ней людьми казалось шумом ливня. В других местах задержанные спали вповалку под открытым небом, во внутренних дворах тюрем. Повсюду чувствовалась тревога и какой-то мало свойственный Парижу трепет.
В домах баррикадировались; жены и матери выражали беспокойство, только и слышалось: «Боже мой, он еще не вернулся!» Изредка доносился отдаленный грохот повозок. Стоя на порогах дверей, прислушивались к гулу голосов, крикам, суматохе, к глухому и неясному шуму, о котором говорили: «Это кавалерия» или: «Это мчатся артиллерийские повозки»; прислушивались к рожкам, барабанам, ружейной трескотне, а больше всего к надрывному набату Сен-Мерри. Ждали первого пушечного выстрела. На углах улиц вдруг появлялись люди и исчезали, крича: «Идите домой!» И все торопились запереть двери на засовы. Спрашивали друг друга: «Чем все это кончится?» С минуты на минуту, по мере того как сгущалась ночь, на Париж, казалось, все гуще ложились зловещие краски грозного зарева восстания.
Книга одиннадцатая. Атом братается с ураганом.
Глава 1. Несколько разъяснений относительно корней поэзии Гавроша. Влияние некоего академика на эту поэзию.
В тот миг, когда восстание, вспыхнувшее при столкновении народа и войска перед Арсеналом, вызвало движение передних рядов назад, в толпу, сопровождавшую погребальную колесницу и, так сказать, навалившуюся всей длиной бульваров на головную часть процессии, начался ужасающий отлив людей. Все это скопище дрогнуло, ряды расстроились, все бросились бежать, уходить, спасаться – одни, призывая к сопротивлению, другие, побледнев от страха. Огромная река людей, покрывавшая бульвары, мгновенно разделилась, выступила из берегов направо и налево и разлилась потоками по двумстам улицам, струясь ручьями, как из прорвавшейся плотины. В это время какой-то оборванный мальчишка, спускавшийся по улице Менильмонтан с веткой цветущего дрока, которую он сорвал на высотах предместья Бельвиль, обнаружил на лотке торговки всяким хламом старый седельный пистолет. Он бросил ветку на мостовую и, крикнув: «Мамаша, как бишь тебя звать, я забираю твою машинку!» – убежал с пистолетом.
Минуты две спустя волна перепуганных буржуа, устремившаяся по улице Амело и по Нижней, встретила мальчика, который размахивал пистолетом и напевал:
То был маленький Гаврош, отправлявшийся на войну.
На бульваре он заметил, что у пистолета нет собачки.
Кто сочинил этот куплет, в такт которому он шагал, и все другие песни, которые он охотно распевал при случае? Бог знает. Возможно, они были его собственные. Помимо того, Гаврош хорошо знал все ходячие народные песенки и присоединял к ним свое собственное щебетание. Проказливый гном и уличный мальчишка, он создавал попурри из голосов природы и голосов Парижа. К птичьему репертуару он добавлял все песенки рабочих мастерских. Он водился с подмастерьями живописцев, этим родственным ему племенем. Кажется, он работал три месяца типографским учеником. Как-то ему даже пришлось выполнить поручение для господина Баур-Лормиана, одного из сорока Бессмертных. Гаврош был гамен, причастный к литературе.
Кстати сказать, Гаврош и не подозревал, что в ту ненастную, дождливую ночь, когда он предложил двум карапузам воспользоваться гостеприимством своего слона, он выполнил роль провидения для собственных братьев. Братья вечером, отец утром – вот какова была его ночь. Покинув на рассвете Балетную улицу, он поспешно вернулся к слону, мастерски извлек оттуда обоих малышей, разделил с ними кое-какой изобретенный им завтрак, затем ушел, доверив их той доброй матери-улице, которая, можно сказать, воспитала его самого. Расставаясь с ними, он назначил им свидание вечером здесь же и на прощание произнес следующую речь: «Теперь драла, иначе говоря, я даю тягу, или, как выражаются при дворе, удираю. Ребята, если вы не найдете папу-маму, возвращайтесь сюда вечером. Я вам дам поужинать и уложу спать». Оба мальчика, подобранные полицейским сержантом и уведенные в участок, или украденные каким-нибудь фокусником, или просто заблудившиеся в огромной китайской головоломке Парижа, не возвратились. На дне нашего общества полно таких исчезнувших следов. Гаврош больше их не видел. Два с половиной или три месяца протекло с той ночи. Не раз Гаврош почесывал себе затылок, приговаривая: «Куда, к черту, девались мои ребята?».
Между тем он прибыл с пистолетом в руке на улицу Капустный мост. Он заметил, что на этой улице осталась открытой только одна лавчонка, и притом, что заслуживало внимания, лавчонка пирожника. Это был ниспосланный провидением случай поесть еще разок яблочного пирожка, перед тем как ринуться в неизвестность. Гаврош остановился, пошарил во всех своих карманах и кармашках, вывернул их и, не найдя ничего, даже одного су, закричал: «Караул!».
Тяжело лишаться последнего в жизни пирожка!
Это не помешало, однако, Гаврошу продолжать свой путь.
Через две минуты он был на улице Сен-Луи. Переходя улицу Королевский парк, он почувствовал потребность вознаградить себя за недоступный яблочный пирожок и доставил себе глубочайшее удовлетворение, принявшись срывать среди бела дня театральные афиши.
Немного подальше, увидев группу пышущих здоровьем прохожих, показавшихся ему домовладельцами, он пожал плечами и послал им вслед плевок философской желчи:
– До чего они жирные, эти самые рантье! Знай едят. Набивают себе зобы до отказа. А спросите-ка их, что они делают со своими деньгами? Они и сами не скажут. Они их прожирают, вот что! Жрут сколько влезет в брюхо.
Глава 2. Гаврош в походе.
Размахивать среди улицы пистолетом без собачки – занятие, имеющее весьма важное общественное значение, и Гаврош чувствовал, что его пыл возрастает с каждым шагом. Между обрывками распеваемой им Марсельезы он выкрикивал:
– Все идет отлично! У меня здорово болит левая лапа, я ушиб мой ревматизм, но я доволен, граждане. Держитесь, буржуа, вы у меня зачихаете от моих зажигательных песенок. Что такое шпики? Собачья порода. Нет, черт возьми, не надо оскорблять собак! Мне так нужна собачка в пистолете. Друзья мои, я шел бульваром, там варится, там закипает, там бурлит. Пора снимать пенку с горшка. Мужчины, вперед! Пусть вражья кровь поля зальет! Я за отечество умру, не видеть мне моей подружки! О да, Нини, конец, ни-ни! Но все равно, да здравствует веселье! Будем драться, черт побери! Хватит с меня деспотизма!
В эту минуту упала лошадь проезжавшего мимо улана национальной гвардии; Гаврош положил пистолет на мостовую, поднял всадника, затем помог поднять лошадь. После этого он подобрал свой пистолет и пошел дальше.
На улице Ториньи все было тихо и спокойно. Это равнодушие, присущее Марэ, представляло резкий контраст с огромным возбуждением вокруг. Четыре кумушки беседовали у входа в дом. Если в Шотландии известны трио ведьм, то в Париже – квартеты кумушек, и «Ты будешь королем» столь же мрачно могло быть брошено Бонапарту на перекрестке Бодуайе, как в свое время Макбету – в вереске Армюира. Это было бы почти такое же карканье.
Но кумушки с улицы Ториньи – три привратницы и одна тряпичница с корзиной и крюком – занимались только собственными делами.
Казалось, все четыре стоят у четырех углов старости – одряхления, немощи, нужды и печали.
Тряпичница была смиренной. В этом обществе, живущем на вольном воздухе, тряпичница валяется, привратница покровительствует. Причина этого коренится в куче отбросов за уличной тумбой; она бывает такой, какой создают ее привратницы, скоромной или постной, – по прихоти того, кто сгребает кучу. Случается, что метла добросердечна.
Тряпичница была благодарна поставщицам ее мусорной корзинки, она улыбалась трем привратницам, и какой улыбкой! Разговоры между ними шли примерно такие:
– А ваша кошка все такая же злюка?
– Боже мой, кошки, сами знаете, от природы враги собак. Собаки – вот кто может на них пожаловаться.
– Да и люди тоже.
– Однако кошачьи блохи не переходят на людей.
– Это пустяки, вот собаки – те опаснее. Я помню год, когда развелось столько собак, что пришлось писать об этом в газетах. Это было в те времена, когда в Тюильри большие бараны возили маленькую колясочку Римского короля. Вы помните Римского короля?
– А мне больше нравился герцог Бордоский.
– А я знала Людовика Семнадцатого. Я больше люблю Людовика Семнадцатого.
– Говядина-то как вздорожала, мамаша Патагон!
– Ах, и не говорите, мясники эти просто мерзавцы! Мерзкие мерзавцы. Одни только обрезки и получаешь.
Тут вмешалась тряпичница:
– Да, сударыни мои, с торговлей дело плохо. В отбросах ничего не найдешь. Ничего больше не выкидывают. Все поедают.
– Есть люди и победнее вас, тетушка Варгулем.
– Что правда, то правда, – угодливо согласилась тряпичница, – у меня все-таки есть профессия.
После недолгого молчания тряпичница, уступая потребности похвастаться, присущей натуре человека, прибавила:
– Как вернусь утром домой, так сразу разбираю плетенку и принимаюсь за сервировку (по-видимому, она хотела сказать: сортировку). И все раскладываю по кучкам у меня в комнате. Потом я убираю тряпки в корзину, огрызки фруктов – в лохань, простые лоскутья – в шкаф, шерстяные – в комод, бумагу – в угол под окном, съедобное – в миску, осколки стаканов – в камин, стоптанные башмаки – за двери, кости – под кровать.
Гаврош, остановившись позади, слушал.
– Старушки, – спросил он, – по какому это случаю вы завели разговор о политике?
Целый залп ругательств, учетверенный силой четырех глоток, обрушился на него.
– Еще один злодей тут как тут!
– Что это он держит в своей культяпке? Пистолет?
– Скажите на милость, этакий негодный мальчишка!
– Такие не успокоятся, пока не сбросят правительство!
Гаврош, исполненный презрения, ограничился вместо всякого возмездия тем, что щедро, всей пятерней, сделал им нос.
Тряпичница крикнула:
– Ах ты, бездельник босопятый!
Та, что именовалась мамашей Патагон, яростно всплеснула руками:
– Быть беде, это уж наверняка. Есть тут по соседству один молодчик с бороденкой, он мне попадался каждое утро с красоткой в розовом чепце под ручку, а нынче смотрю, – уж у него ружье под ручкой. Мамаша Баше мне говорила, что на прошлой неделе была революция в… в… – ну, там, где этот теленок! – в Понтуазе. А теперь посмотрите-ка на этого с пистолетом, на этого мерзкого озорника! Кажется, у Целестинцев полно пушек. Что же еще может сделать правительство с негодяями, которые сами не знают, что выдумать, лишь бы не давать людям жить, и ведь только-только начали успокаиваться после всех несчастий! Господи боже мой, я-то видела нашу бедную королеву, как ее везли на телеге! И опять из-за всего этого вздорожает табак! Это подлость! А тебя-то, разбойник, я уж наверное увижу на гильотине!
– Ты сопишь, старушенция, – ответил Гаврош. – Высморкай получше свой хобот.
И отправился дальше.
Когда он дошел до Мощеной улицы, он вспомнил о тряпичнице и разразился следующим монологом:
– Напрасно ты ругаешь революционеров, мамаша Мусорная Куча. Этот пистолет на тебя же поработает. Чтобы ты нашла побольше съедобного для своей корзинки.
Внезапно он услышал шум позади: погнавшаяся за ним привратница Патагон издали грозила ему кулаком и кричала:
– Ублюдок несчастный!
– Плевать мне на это с высокого дерева, – ответил Гаврош.
Немного погодя он прошел мимо особняка Ламуаньона. Здесь он испустил следующий клич:
– Вперед, на бой!
Но тут его охватила тоска. С упреком посмотрел он на свой пистолет, казалось, пытаясь его растрогать.
– Я иду биться, – сказал он, – а ты вот не бьешь!
Одна собачка может отвлечь внимание от другой. Мимо пробегал тощий пуделек. Гаврош разжалобился.
– Бедненький мой тяв-тяв, – сказал он ему, – ты, верно, проглотил целый бочонок, у тебя все обручи наружу.
Затем он направился к Орм-Сен-Жерве.
Глава 3. Справедливое негодование парикмахера.
Достойный парикмахер, выгнавший двух малышей, для которых Гаврош разверз гостеприимное чрево слона, в это время был занят в своем заведении бритьем старого солдата-легионера, служившего во время Империи. Между ними завязалась беседа. Разумеется, парикмахер говорил с ветераном о мятеже, затем о генерале Ламарке, а от Ламарка перешли к императору. Если бы Прюдом присутствовал при этом разговоре брадобрея с солдатом, он его приукрасил бы и назвал: «Диалог бритвы и сабли».
– Сударь, – спросил парикмахер, – а как император держался на лошади?
– Плохо. Он не умел падать. Поэтому он никогда не падал.
– А хорошие кони были у него? Должно быть, прекрасные?
– В тот день, когда он мне пожаловал крест, я разглядел его лошадь. То была рысистая кобыла, вся белая. У нее были очень широко расставленные уши, глубокая седловина, изящная голова с черной звездочкой, очень длинная шея, крепкие колени, выпуклые бока, покатые плечи, мощный круп. И немного больше пятнадцати пядей ростом.
– Славная лошадка, – сказал парикмахер.
– Да, это была верховая лошадь его величества.
Парикмахер почувствовал, что после таких значительных слов подобает немного помолчать; он сообразовался с этим, затем снова начал:
– Император был ранен только раз, не правда ли, сударь?
Старый солдат ответил спокойным и важным тоном человека, который присутствовал при этом:
– В пятку. Под Ратисбоном. Я его никогда не видел так хорошо одетым, как в тот день. Он был чистенький, как новая монетка.
– А вы, господин ветеран, надо думать, были ранены не раз?
– Я? – спросил солдат. – Пустяки! Под Маренго получил два удара саблей по затылку, под Аустерлицем – пулю в правую руку, другую – в левую ляжку под Иеной, под Фридландом – удар штыком, вот сюда, под Москвой – семь или восемь ударов пикой куда попало, под Люценом осколок бомбы раздробил мне палец… Ах да, еще в битве при Ватерлоо я получил картечную пулю в бедро. Вот и все.
– Как прекрасно умереть на поле боя! – с пиндарическим пафосом воскликнул цирюльник. – Что касается меня, то, честное слово, вместо того чтобы подыхать на дрянной постели от какой-нибудь болезни, медленно, понемногу, каждый день, с лекарствами, припарками, спринцовками и слабительными, я предпочел бы получить в живот пушечное ядро!
– У вас губа не дура, – сказал солдат.
Едва он это сказал, как оглушительный грохот потряс лавочку. Стекло витрины внезапно украсилось звездообразной трещиной.
Парикмахер побледнел как полотно.
– О боже, – воскликнул он, – это то самое!
– Что?
– Пушечное ядро.
– Вот оно, – сказал солдат.
И он поднял что-то, катившееся по полу. То был булыжник.
Парикмахер подбежал к разбитому стеклу и увидел Гавроша, убегавшего со всех ног к рынку Сен-Жан. Проходя мимо лавочки парикмахера, Гаврош, таивший в себе обиду за малышей, не мог воспротивиться желанию приветствовать его по-своему и швырнул камнем в окно.
– Понимаете ли, – прохрипел цирюльник, у которого бледность перешла в синеву, – они делают пакости, лишь бы напакостить! Чем его обидели, этого мальчишку?
Глава 4. Ребенок удивляется старику.
Между тем на рынке Сен-Жан, где уже успели разоружить пост, произошло стратегическое соединение Гавроша с кучкой людей, которую вели Анжольрас, Курфейрак, Комбефер и Фейи. Почти все были вооружены. Баорель и Жан Прувер разыскали их и увеличили собою отряд. У Анжольраса была охотничья двустволка, у Комбефера ружье национальной гвардии с номером легиона, а за поясом – два пистолета, высовывавшихся из-под расстегнутого сюртука; у Жана Прувера старый кавалерийский мушкетон, у Баореля карабин; Курфейрак размахивал тростью, из которой вытащил спрятанный в ней клинок. Фейи, с обнаженной саблей в руке, шествовал впереди, крича: «Да здравствует Польша!».
Они шли с Морландской набережной, без галстуков, без шляп, запыхавшиеся, промокшие под дождем, с горящими глазами. Гаврош спокойно подошел к ним.
– Куда мы идем?
– Иди с нами, – ответил Курфейрак.
Позади Фейи шел, или, вернее, прыгал, Баорель, чувствовавший себя среди мятежа, как рыба в воде. Он был в малиновом жилете и имел при себе запас слов, способных сокрушить все, что угодно. Его жилет потряс какого-то прохожего, который, потеряв голову от страха, закричал:
– Красные пришли!
– Красные, красные! – подхватил Баорель. – Что за нелепый страх, буржуа! Я вот, например, нисколько не боюсь алых маков, и красная шапочка не внушает мне никакого ужаса. Поверьте мне, буржуа, предоставим бояться красного только рогатому скоту.
Где-то на стене он заметил листок бумаги самого миролюбивого свойства – разрешение есть яйца; это было великопостное послание парижского архиепископа своей «пастве».
Баорель воскликнул:
– Паства! Это вежливый способ сказать: «стадо».
И он сорвал со стены послание, покорив этим сердце Гавроша. С этой минуты он стал присматриваться к Баорелю.
– Баорель, – заметил Анжольрас, – ты неправ. Тебе бы следовало оставить это разрешение в покое, не в нем дело, ты зря расходуешь гнев. Береги боевые припасы. Не следует открывать огонь в одиночку, ни ружейный, ни душевный.
– У каждого своя манера, – возразил Баорель. – Эти епископские упражнения в прозе меня оскорбляют, я хочу есть яйца без всякого разрешения. У тебя манера – кипеть под ледком, ну а я развлекаюсь. К тому же я вовсе не расходую себя, я беру разбег; а послание я разорвал, клянусь Геркулесом, только чтобы войти во вкус!
Слово «Геркулес» поразило Гавроша. Он пользовался всяким случаем чему-нибудь поучиться, а к этому срывателю объявлений он возымел почтительные чувства. Он спросил его:
– Что это значит – «Геркулес»?
Баорель ответил:
– По-латыни это обозначает: черт меня побери.
Здесь Баорель увидел в окне смотревшего на них бледного молодого человека с черной бородкой, по-видимому одного из Друзей азбуки, и крикнул ему:
– Живо патронов! Para bellum![135].
– Красивый мужчина! Это верно, – сказал Гаврош, теперь уже понимавший латынь.
Их сопровождала шумная толпа – студенты, художники, молодые люди, состоявшие членами Кугурды из Экса, рабочие, портовые грузчики, вооруженные дубинами и штыками, а иные и с пистолетами за поясом, как Комбефер. В этой толпе шел какой-то старик, с виду очень дряхлый. Он был без всякого оружия, но старался не отставать, хотя и казался погруженным в какие-то думы. Гаврош заметил его.
– Этшкое? – спросил он.
– Так, старичок.
То был г-н Мабеф.
Глава 5. Старик.
Расскажем о том, что произошло.
Анжольрас и его друзья проходили по Колокольному бульвару, мимо казенных хлебных амбаров, когда драгуны бросились в атаку. Анжольрас, Курфейрак и Комбефер принадлежали к числу тех, кто двинулся по улице Бассомпьера с криком: «На баррикады!» На улице Ледигьера они встретили медленно шедшего старика.
Их внимание привлекло то, что старика шатало из стороны в сторону, точно пьяного. К тому же, хотя все утро моросило, да и теперь шел довольно сильный дождь, шляпу он держал в руке. Курфейрак узнал дедушку Мабефа. Он был с ним знаком, так как не раз провожал Мариуса до самого его дома. Зная мирный и более чем робкий нрав бывшего церковного старосты и любителя книг, он изумился, увидев в этой сутолоке, в двух шагах от надвигавшейся конницы старика, который разгуливал с непокрытой головой, под дождем, среди пуль, почти в самом центре перестрелки; он подошел к нему, и здесь между двадцатипятилетним бунтовщиком и восьмидесятилетним старцем произошел следующий диалог:
– Господин Мабеф, ступайте домой.
– Почему?
– Начинается суматоха.
– Отлично.
– Будут рубить саблями, стрелять из ружей, господин Мабеф.
– Отлично.
– Палить из пушек.
– Отлично. А куда вы все идете?
– Мы идем свергать правительство.
– Отлично.
И он пойдет с ними. С этого времени он не произнес ни слова. Его шаг сразу стал твердым; рабочие хотели взять его под руки, он отказался, отрицательно покачав головой. Он шел почти в первом ряду колонны, и все его движения были как у человека бодрствующего, а лицо – как у спящего.
– Что за странный старикан, – перешептывались студенты. В толпе пронесся слух, что это старый член Конвента, старый цареубийца.
Все это скопище народа вступило на Стекольную улицу. Маленький Гаврош шагал впереди, во все горло распевая песенку и как бы изображая собой живой рожок горниста. Он пел:
Они направлялись к Сен-Мерри.
Глава 6. Новобранцы.
Толпа увеличивалась каждое мгновение. Возле Щепной улицы к ней присоединился высокий седоватый человек; Курфейрак, Анжольрас и Комбефер заметили его вызывающую и грубую внешность, но никто из них не знал его. Гаврош шел, поглощенный пением, свистом, шумом, движением вперед, постукивал в ставни лавочек рукояткой своего увечного пистолета и вовсе не обратил внимания на этого человека.
Случилось так, что, свернув на Стекольную улицу, толпа проходила мимо подъезда Курфейрака.
– Это очень кстати, – сказал Курфейрак, – я забыл дома кошелек, и я потерял шляпу. – Он оставил толпу и быстро, шагая через четыре ступеньки, взбежал к себе наверх. Там он взял старую шляпу и кошелек, а также захватил с собой довольно объемистый квадратный ящик, который был запрятан у него в грязном белье. Когда он бегом спускался вниз, его окликнула привратница:
– Господин де Курфейрак!
– Привратница, как вас зовут? – в ответ спросил Курфейрак.
Привратница опешила.
– Но вы же хорошо знаете, что меня зовут тетушка Вевен.
– Ну так вот, если вы еще раз назовете меня господин де Курфейрак, то я вас буду звать тетушка де Вевен. А теперь говорите: в чем дело? Что такое?
– Здесь кто-то вас спрашивает.
– Кто такой?
– Не знаю.
– Где он?
– У меня, в привратницкой.
– К черту! – крикнул Курфейрак.
– Но он уже больше часа ждет вас, – заметила привратница.
В это время из каморки привратницы вышел юноша, по виду молодой рабочий, худой, бледный, маленький, веснушчатый, в дырявой блузе и заплатанных плисовых панталонах, больше похожий на переряженную девушку, чем на мужчину, и обратился к Курфейраку, причем голос его, кстати сказать, нисколько не походил на женский:
– Могу я повидать господина Мариуса, позвольте вас спросить?
– Его нет.
– Вернется он сегодня вечером?
– Я ничего не знаю. – И Курфейрак прибавил: – Что до меня, то я не вернусь.
Молодой человек пристально взглянул на него и спросил:
– Почему?
– Потому.
– Куда же вы идете?
– А тебе какое дело?
– Можно мне понести ваш ящик?
– Я иду на баррикаду.
– Можно мне пойти с вами?
– Как хочешь! – ответил Курфейрак. – Улица свободна, мостовые – для всех.
И он бегом бросился догонять своих друзей. Нагнав их, он поручил одному из них нести ящик. Только через четверть часа он заметил, что молодой человек действительно последовал за ними.
Толпа никогда не идет именно туда, куда хочет. Мы объяснили уже, что ее несет, словно порывом ветра. Она миновала Сен-Мерри и оказалась, сама хорошенько не зная каким образом, на улице Сен-Дени.
Книга двенадцатая. «Коринф».
Глава 1. История «Коринфа» со времени его основания.
Нынешние парижане, входя на улицу Рамбюто со стороны Центрального рынка, замечают направо, против улицы Мондетур, лавку корзинщика, вывеской которому служит корзина, изображающая императора Наполеона Первого со следующей надписью:
НАПОЛЕОН ИЗ ИВЫ ЗДЕСЬ СПЛЕТЕН.
Однако они нисколько не подозревают о тех страшных сценах, свидетелем которых был этот самый квартал каких-нибудь тридцать лет тому назад.
Именно здесь была улица Шанврери, которая в старину писалась Шанверери, и прославленный кабачок, именуемый «Коринфом».
Вспомним все, что говорилось о воздвигнутой в этом месте баррикаде, которую, впрочем, затмила баррикада Сен-Мерри. На эту-то замечательную баррикаду по улице Шанврери, теперь покрытую глубоким мраком забвения, мы и хотим пролить немного света.
Да будет нам дозволено для ясности рассказа прибегнуть к простому способу, уже примененному нами при описании Ватерлоо. Кто пожелал бы достаточно точно представить себе массивы домов, возвышавшихся в то время поблизости от церкви Сент-Эсташ, в северо-восточном углу Центрального рынка, где сейчас начинается улица Рамбюто, должен лишь мысленно начертить букву N, взяв вершиной улицу Сен-Дени, а основанием – рынок; вертикальные ее черточки обозначали бы улицы Большую Бродяжную и Шанврери, а поперечина – улицу Малую Бродяжную. Старая улица Мондетур перерезала все три линии буквы N под самыми неожиданными углами. Таким образом, путаный лабиринт этих четырех улиц создавал на пространстве в сто квадратных туазов, между Центральным рынком и улицей Сен-Дени – с одной стороны, и улицами Лебяжьей и Проповедников – с другой, семь маленьких кварталов причудливой формы, различной величины, расположенных вкривь и вкось, как бы случайно, и едва отделенных друг от друга узкими щелями, подобно каменным глыбам на стройке.
Мы говорим «узкими щелями», так как не можем дать более ясного понятия об этих темных уличках, тесных, коленчатых, окаймленных ветхими восьмиэтажными домами. Эти развалины были столь преклонного возраста, что на улицах Шанврери и Малой Бродяжной фасады подпирались рядом балок, тянувшихся от дома к дому. Улица была узкой, а сточная канава широкой, прохожие брели по вечно мокрой мостовой, пробираясь возле лавчонок, похожих на погреба, возле толстых каменных тумб с железными обручами, возле невыносимо зловонных мусорных куч и ворот с огромными вековыми решетками. Улица Рамбюто стерла все это.
Название Мондетур[136] отлично передает извилистость всех этих улиц. Еще выразительнее говорит об этом название улицы Пируэт, примыкающей к улице Мондетур.
Прохожий, свернувший с улицы Сен-Дени на улицу Шанврери, видел, что она мало-помалу суживается перед ним, как если бы он вошел в удлиненную воронку. В конце этой коротенькой улички он обнаруживал, что впереди со стороны Центрального рынка путь преграждает ряд высоких домов, и мог полагать, что попал в тупик, если бы не замечал направо и налево двух темных проходов, которыми он мог пробраться. Это и была улица Мондетур, одним концом соединявшаяся с улицей Проповедников, а другим – с улицами Лебяжьей и Малой Бродяжной. В глубине этого своего рода тупика, на углу правого прохода, стоял дом пониже остальных и выдававшийся на улицу наподобие мыса.
Именно в этом доме, только о двух этажах, бойко обосновался на целых три столетия знаменитый кабачок. Он наполнял шумным весельем то самое место, которое старик Теофиль отметил следующим двустишием:
Место для этого заведения было подходящее, кабатчики наследовали его от отца к сыну.
Во времена Матюрена Ренье кабачок назывался «Горшок роз», а так как тогда были в моде ребусы, то вывеску ему заменял столб, выкрашенный в розовый цвет[137]. В прошлом столетии почтенный Натуар, один из причудливых живописцев, ныне презираемый чопорной школой, многократно напиваясь в этом кабачке за тем самым столом, где пил Ренье, из благодарности нарисовал на розовом столбе кисть коринфского винограда. Восхищенный кабатчик изменил свою вывеску и велел под этой кистью написать золотом «Коринфский виноград». Отсюда и название «Коринф». Для пьяниц нет ничего более естественного, чем пропустить слово. Пропуск слова – это извилина фразы. Название «Коринф» мало-помалу вытеснило «Горшок роз». Последний представитель династии кабатчиков, дядюшка Гюшлу, уже совершенно не зная предания, приказал выкрасить столб в синий цвет.
Зала внизу, где была стойка, зала на втором этаже, где был бильярд, узкая винтовая лестница, проходившая через потолок, вино на столах, копоть на стенах, свечи среди бела дня – вот что представлял собою кабачок. Лестница с люком в нижней зале вела в погреб. На третьем этаже жил сам Гюшлу. Туда поднимались по лестнице, скорее по лесенке, за незаметной дверью в большую залу второго этажа. Под крышей находились две чердачных каморки – приют служанок. Первый этаж делили между собой кухня и зала со стойкой.
Дядюшка Гюшлу, возможно, родился химиком, да вышел поваром; в его кабачке не только пили, но и ели. Гюшлу изобрел изумительное блюдо, которым можно было лакомиться только у него, а именно – фаршированных карпов, которых он называл carpes au gras[138]. Их ели при свете сальной свечи или кенкетов времен Людовика XVI, за столами, где прибитая гвоздями клеенка заменяла скатерть. Сюда приходили издалека. В одно прекрасное утро Гюшлу счел уместным уведомить прохожих о своей «специальности»; он обмакнул кисть в горшок с черной краской, и так как у него была своя орфография, равно как и своя кухня, то он изобразил на стене следующую примечательную надпись:
Carpes ho gras.
Зиме, ливням и граду заблагорассудилось стереть букву s, которой кончалось первое слово, и g, которой начиналось третье, после чего осталось:
Carpe ho ras.
При помощи непогоды и дождя скромное гастрономическое извещение стало глубоко осмысленным советом.
Таким образом, оказалось, что, не зная французского, Гюшлу знал латинский, что кухня помогла ему создать философское изречение и, желая только затмить Карема, он сравнялся с Горацием[139]. Было поразительно и то, что сие изречение означало также: «Зайдите в мой кабачок».
Теперь от всего этого не осталось и следа. Лабиринт Мондетур был разворочен и широко открыт в 1847 году и, по всей вероятности, сейчас не существует. Улица Шанврери и «Коринф» исчезли под мостовой улицы Рамбюто.
Как мы упоминали, «Коринф» был местом встреч, если не сборным пунктом, для Курфейрака и его друзей. Открыл «Коринф» Грантэр. Он зашел туда, привлеченный надписью Carpe ho ras, и возвратился ради carpes au gras. Здесь пили, здесь ели, здесь кричали; мало ли платили, плохо ли платили, вовсе ли не платили – здесь всякого ожидал радушный прием. Дядюшка Гюшлу был добряк.
Да, Гюшлу был добряк, как мы сказали, но вместе с тем трактирщик-вояка – забавная разновидность. Казалось, он всегда пребывал в скверном настроении, он словно стремился застращать своих клиентов, ворчал на посетителей и с виду был больше расположен затеять с ними ссору, чем подать им ужин. И тем не менее, мы подтверждаем это, здесь всякого ожидал радушный прием. Такая чудаковатость хозяина привлекала в его заведение посетителей и была приманкой для молодых людей, приглашавших туда друг друга со словами: «Ну-ка, пойдем послушаем, как дядюшка Гюшлу будет брюзжать». Когда-то он был учителем фехтования. Порою он вдруг разражался оглушительным хохотом. У кого громкий голос, тот добрый малый. В сущности, это был шутник с мрачной внешностью; для него не было большего удовольствия, чем напугать; он напоминал табакерку в форме пистолета, выстрел из которой вызывает только чихание.
Его жена, тетушка Гюшлу, была бородатое и весьма безобразное создание.
В 1830 году Гюшлу умер. С ним исчезла тайна приготовления «скоромных карпов». Его безутешная вдова продолжала вести дело. Но кухня ухудшилась и стала отвратительной; вино, которое всегда было скверным, стало ужасным. Курфейрак и его друзья продолжали, однако, ходить в «Коринф», – «из жалости», как говорил Боссюэ.
Одышка и безобразие не мешали вдове Гюшлу предаваться воспоминаниям о сельской жизни. Благодаря ее произношению они утрачивали слащавость. У нее была особенная манера выражаться, что придавало соль ее экскурсиям в свое деревенское и девическое прошлое. «В девушках слушаю, бывало, пташку-малиновку, как она заливается в кустах боярки, и ничего мне на свете больше не нужно», – рассказывала она.
Зала во втором этаже, где помещался «ресторан», представляла собой большую, длинную комнату, уставленную табуретками, скамеечками, стульями, длинными лавками и столами; в ней же стоял и старый, хромой бильярд. Туда поднимались по винтовой лестнице, кончавшейся в углу залы четырехугольной дырой, наподобие корабельного трапа.
Эта зала с одним-единственным узким окном освещалась всегда горевшим кенкетом и была похожа на чердак. Любая мебель, снабженная четырьмя ножками, вела себя в ней так, как будто была трехногой. Единственным украшением выбеленных известкой стен было следующее четверостишие в честь хозяйки Гюшлу:
Это было написано углем на стене.
Госпожа Гюшлу, весьма сходная с портретом, изображенным в этих стихах, с утра до вечера совершенно невозмутимо ходила взад и вперед мимо них. Две служанки, Матлота и Жиблота, известные только под этими именами[140], помогали г-же Гюшлу ставить на столы кувшинчики с красным скверным вином и всевозможную бурду, подававшуюся голодным посетителям в глиняных мисках. Матлота, жирная, круглая, рыжая и крикливая, в свое время любимая султанша покойного Гюшлу, была безобразнее любого мифологического чудовища, но так как служанке всегда подобает уступать первое место своей хозяйке, то она и была менее безобразна, чем г-жа Гюшлу. Жиблота, долговязая, тощая, с лимфатической бледностью в лице, с синевой под глазами и всегда опущенными ресницами, изнуренная, изнемогающая, можно было бы сказать – пораженная хронической усталостью, вставала первой, ложилась последней, прислуживала всем, даже другой служанке, молча и кротко улыбаясь какой-то неопределенной усталой, сонной улыбкой.
У входа в залу кабачка взгляд посетителя останавливали на себе следующие строчки, написанные на дверях мелом рукой Курфейрака:
Глава 2. Чем закончилась веселая попойка.
Легль из Мо, как известно, имел пребывание главным образом у Жоли. Он находил жилье так же, как птица, – на любой ветке. Оба друга жили вместе, ели вместе, спали вместе. Все у них было общим, даже отчасти Мюзикетта. Эти своеобразные близнецы никогда не расставались. Утром 5 июня они отправились завтракать в «Коринф». Жоли был простужен и гнусавил от сильного насморка, насморк начинался и у Легля. Сюртук у Легля был поношенный, Жоли был хорошо одет.
Было около девяти часов утра, когда они толкнулись в двери «Коринфа».
Они поднялись на второй этаж.
Их встретили Матлота и Жиблота.
– Устриц, сыру и ветчины, – приказал Легль.
Затем они уселись за стол.
В кабачке никого не было; они сидели только вдвоем.
Жиблота, узнав Жоли и Легля, поставила бутылку вина на стол.
Только они принялись за устриц, как чья-то голова появилась в лестничном трапе и чей-то голос произнес:
– Шел мимо. Почувствовал на улице восхитительный запах сыра бри. Зашел.
То был Грантэр.
Он взял табурет и уселся за стол.
Жиблота, увидев Грантэра, поставила две бутылки вина на стол.
Итого – три.
– Ты разве собираешься выпить обе бутылки? – спросил Легль у Грантэра.
– Тут все люди с умом, один ты недоумок, – ответил Грантэр. – Где это видано, чтобы две бутылки удивили мужчину?
Друзья начали с еды, Грантэр с вина. Полбутылки было живо опорожнено.
– Дыра у тебя в желудке, что ли? – спросил Легль.
– Дыра у тебя на локте, – ответил Грантэр. И, допив свой стакан, прибавил: – Да, да, Легль – орел надгробных речей, сюртук-то у тебя старенек.
– Надеюсь, что так, – ответствовал Легль. – У нас согласная домашняя жизнь, у моего сюртука и у меня. Он сам принял форму моего тела, нигде не жмет, прилегает к моей нескладной фигуре, снисходительно относится к моим движениям; я его чувствую только потому, что мне в нем тепло. Старое платье – что старые друзья.
– Вод эдо правда, – воскликнул Жоли, вступив в разговор, – сдарый сюрдук – все равдо что сдарый друг.
– Особенно в устах человека с насморком, – согласился Грантэр.
– Грантэр, – спросил Легль, – ты с бульвара?
– Нет.
– А мы с Жоли видели начало шествия.
– Чудесдое зрелище, – сказал Жоли.
– А как спокойно на этой улице! – воскликнул Легль. – Кто бы подумал, что все в Париже вверх дном? Чувствуется и сейчас, что здесь когда-то были одни монастыри! Дю Брель и Соваль приводят их список, и аббат Лебеф также. Они тут были повсюду. Все так и кишело обутыми, разутыми, бритыми, бородатыми, серыми, черными, белыми францисканцами Франциска Ассизского, францисканцами Франциска де Поль, капуцинами, кармелитами, малыми августинцами, большими августинцами, старыми августинцами… Их расплодилось видимо-невидимо.
– Не будем говорить о монахах, – прервал Грантэр, – от этого хочется чесаться.
Потом он разразился:
– Брр! Я только что проглотил скверную устрицу. Гипохондрия снова овладевает мной! Устрицы испорчены, служанки безобразны. Я ненавижу род людской. Сейчас я проходил по улице Ришелье мимо большой книжной лавки. Эта куча устричных раковин, именуемая библиотекой, отбивает у меня охоту мыслить. Сколько бумаги! Сколько чернил! Сколько мазни! И все это написано людьми! Какой же это плут сказал, что человек – двуногое без перьев? А потом я встретил одну знакомую хорошенькую девушку, прекрасную, как весна, достойную называться Флореалью, и она была в восхищении, в восторге, на седьмом небе от счастья, презренная, потому что вчера некий омерзительный банкир, рябой от оспы, удостоил пожелать ее! Увы! Женщина подстерегает и старого откупщика, и молодого щеголя; кошки охотятся и за мышами, и за птицами. Не прошло еще и двух месяцев, как эта мамзель вела благонравную жизнь в мансарде, она вставляла медные колечки в петельки корсета, или как это у них там называется. Она шила, спала на складной кровати, у нее был горшок с цветами, и она была счастлива. Теперь она банкирша. Это превращение произошло сегодня ночью. Я встретил жертву ныне утром развеселой. И всего омерзительней то, что бесстыдница сегодня была так же красива, как и вчера. Сделка с финансистом не отразилась на ее лице. Розы в том отношении лучше или хуже женщин, что следы, оставляемые на них гусеницами, заметны. Ах, нет более нравственности на земле! В свидетели я призываю мирт – символ любви, лавр – символ войны, оливу, эту глупышку, – символ мира, яблоню, которая промахнулась, не заставив Адама подавиться ее семечком, и смоковницу – эту прародительницу прекрасного пола. Вы говорите – право? Хотите знать, что такое право? Галлы зарятся на Клузиум, Рим оказывает покровительство Клузиуму и спрашивает их, в чем же Клузиум виноват перед ними. Бренн отвечает: «В том же, в чем были виноваты перед вами Альба, Фидены, в чем виноваты эквы, вольски и сабиняне. Они были ваши соседи. Жители Клузиума – наши. Мы понимаем соседство так же, как вы. Вы захватили Альбу, мы берем Клузиум». Рим отвечает: «Вы не возьмете Клузиум».
Тогда Бренн взял Рим. После этого он вскричал: Vae victis![141] Вот что такое право. Ах, сколько в этом мире хищных тварей! Сколько орлов! Прямо мороз по коже продирает!
Он протянул свой стакан, Жоли наполнил его, Грантэр выпил и продолжал, почти не прервав своих разглагольствований, – этот стакан вина словно и не был никем замечен, даже им самим:
– Бренн, завладевающий Римом, – орел; банкир, завладевающий гризеткой, – орел. Здесь не меньше бесстыдства, чем там. Так не будем же верить ничему. Истина – лишь в вине. Каково бы ни было наше мнение, будете ли вы за тощего петуха, вместе с кантоном Ури, или за петуха жирного, вместе с кантоном Гларис, – неважно, пейте. Вы спрашиваете меня о бульваре, шествии и прочем. Вот как! Значит, опять наклевывается революция? Меня удивляет такая скудость средств у господа бога. Ему то и дело приходится смазывать маслом пазы событий. Там цепляется, тут не идет. Живо, революцию! У господа бога руки всегда в этом скверном смазочном масле. На его месте я поступил бы проще: я бы не занимался каждую минуту починкой моей механики, я плавно вел бы человеческий род, нанизывал бы события, петля за петлей, не разрывая нити, мне бы не нужны были запасные средства, у меня не было бы экстренных постановок. То, что иные прочие называют прогрессом, преуспевает при помощи двух двигателей: людей и событий. Но как это ни печально, время от времени необходимо что-нибудь из ряда вон выходящее. Для событий, как и для людей, заурядного недостаточно: среди людей должны быть гении, а меж событий – революции. Чрезвычайные события – это закон; мировой порядок вещей не может обойтись без них; вот почему при появлении кометы нельзя удержаться от соблазнительной мысли, что само небо нуждается в актерах для своих театральных постановок. В ту минуту, когда этого меньше всего ожидают, бог вывешивает блуждающее светило на стене небесного свода. Появляется нежданно какая-то чудна́я звезда с огромным хвостом. И это служит причиной смерти Цезаря. Брут наносит ему удар кинжалом, а бог – кометой. Трах! – и вот северное сияние, вот – революция, вот – великий человек; девяносто третий год дается крупной прописью, с красной строки – Наполеон, наверху афиши – комета тысяча восемьсот одиннадцатого года. Ах, прекрасная голубая афиша, вся усеянная нежданными сверкающими звездами! Бум! бум! Редкое зрелище! Смотрите вверх, зеваки! Все тут в беспорядке – и светила, и пьеса. Бог мой, это чересчур, и вместе с тем этого недостаточно. Такие способы, применяемые в исключительных случаях, кричат о великолепии, но означают скудость. Друзья, провидение прибегает здесь к крайним средствам. Революция – что этим доказывается? Что господь иссяк. Он производит переворот, потому что налицо разрыв связи между настоящим и будущим и потому что он, бог, не мог связать концы с концами. Право, меня это утверждает в моих предположениях относительно материального положения Иеговы. Видя столько неблагополучия наверху и внизу, столько мелочности, скряжничества, скаредности и нужды в небесах и на земле, начиная с птицы, у которой нет ни зернышка проса, и кончая мной, у которого нет ста тысяч ливров годового дохода; видя нашу человеческую долю, даже долю королевскую, столь потертой – до самой веревочной основы, чему свидетель повесившийся принц Конде; видя зиму, являющуюся не чем иным, как прорехой в зените, откуда дует ветер; видя столько лохмотьев даже в совершенно свежем пурпуре утра, одевающем вершины холмов; видя капли росы – этот поддельный жемчуг; видя иней – этот стеклярус; видя разлад среди человечества, и заплаты на событиях, и столько пятен на солнце, и столько трещин на луне, видя всюду столько нищеты, я подозреваю, что бог не богат. Правда, у него есть видимость богатства, но я чую тут безденежье. Под небесной позолотой я угадываю бедную вселенную. Он дает революцию, как банкир дает бал, когда у него пуста касса. Не следует судить о богах по одной видимости вещей. Все в их творениях говорит о несостоятельности. Вот почему я и недоволен. Смотрите, сегодня пятое июня, а почти темно; с самого утра я жду наступления дня, но его нет, и я держу пари, что он так и не наступит нынче. Это неаккуратность плохо оплачиваемого приказчика. Да, все скверно устроено, одно не прилажено к другому, старый мир совсем скособочился, я перехожу в оппозицию. Все идет вкривь и вкось; вселенная только дразнит. Все равно как детей: тем, которые чего-то хотят, ничего не дают, а тем, которые не хотят, дают. Словом, я сердит. Кроме того, меня огорчает вид этого плешивца Легля из Мо. Унизительно думать, что я в том же возрасте, как это голое колено. Впрочем, я критикую, но не оскорбляю. Мир таков, каков он есть. Я говорю без дурного умысла, а просто для очистки совести. Прими, отец предвечный, уверение в моем совершенном уважении. Ах, клянусь всеми святыми ученого Олимпа и всеми кумирами райка, я не был создан, чтобы стать парижанином, то есть чтобы всегда отскакивать, как мяч, между двух ракеток, от толпы бездельников к толпе буянов! Мне бы родиться турком, целый день созерцать глуповатых дщерей востока, исполняющих восхитительные танцы Египта, сладострастные, подобно сновидениям целомудренного человека, мне бы родиться босеронским крестьянином, или венецианским вельможей, окруженным прелестными синьоринами, или немецким князьком, поставляющим половину пехотинцев германскому союзу и посвящающим досуги сушке своих носков на плетне, то есть на границах собственных владений! Вот для чего я был предназначен! Да, я сказал, что рожден быть турком, и не отрекаюсь от этого. Не понимаю, почему обычно так плохо судят о турках; у Магомета есть кое-что и хорошее. Почет изобретателю сераля с гуриями и рая с одалисками! Не будем оскорблять магометанство – единственную религию, возвеличившую роль петуха в курятнике! Засим выпьем. Земной шар – неимоверная глупость. Похоже на правду, что они идут драться, все эти дураки, идут разбивать друг другу морды, резать друг друга, и когда же? – в разгар лета, в июне, когда можно отправиться с каким-нибудь милым созданием под руку в поле и вдохнуть полной грудью чайный запах необъятного моря скошенной травы! Нет, право, делается слишком много глупостей. Старый разбитый фонарь, который я только что заметил у торговца рухлядью, внушил мне такую мысль: пора просветить человеческий род! Увы, я снова печален! Вот что значит проглотить такую устрицу и пережить такую революцию. Я снова мрачнею. О, этот ужасный старый мир! Здесь силы напрягают, со службы увольняют, здесь унижают, здесь убивают, здесь ко всему привыкают!
После этого припадка красноречия Грантэр стал жертвой вполне им заслуженного приступа кашля.
– Кстати, о революции, – сказал Жоли, – виддо Бариус влюблед по-дастоящему.
– В кого, не знаешь? – спросил Легль.
– Дет.
– Нет?
– Я же тебе говорю – дет!
– Любовные истории Мариуса! – воскликнул Грантэр. – Я наперед знаю все. Мариус – туман, и он, наверное, нашел свое облачко. Мариус из породы поэтов. Поэт – значит безумец. Timbroeus Apollo[142]. Мариус и его Мари, или его Мария, или его Мариетта, или его Марион, – должно быть, забавные влюбленные. Отлично представляю их роман. Тут такие восторги, что забывают о поцелуе. Они хранят целомудрие здесь, на земле, но соединяются в бесконечности. Это неземные души, но с земными чувствами. Они воздвигли себе ложе среди звезд.
Грантэр уже собрался приступить ко второй бутылке и, быть может, ко второй речи, как вдруг новая фигура вынырнула из квадратного отверстия люка. Появился мальчишка лет десяти, оборванный, очень маленький, желтый, с остреньким личиком, с живым взглядом, вихрастый, промокший под дождем, однако с виду вполне довольный.
Не колеблясь, он сразу сделал выбор между тремя собеседниками и, хотя не знал ни одного, обратился к Леглю из Мо.
– Не вы ли господин Боссюэ? – спросил он.
– Это мое уменьшительное имя, – ответил Легль. – Что тебе надо?
– Вот что. Какой-то высокий блондин на бульваре спросил меня: «Ты знаешь тетушку Гюшлу?» – «Да, – говорю я, – на улице Шанврери, вдова старика». Он и говорит: «Поди туда. Там ты найдешь господина Боссюэ и скажешь ему от моего имени: «Азбука». Он вас разыгрывает, что ли? Он дал мне десять су.
– Жоли, дай мне взаймы десять су, – сказал Легль, потом повернулся к Грантэру: – Грантэр, дай мне взаймы десять су.
Таким образом, составилось двадцать су, и Легль дал их мальчику.
– Благодарю вас, сударь, – сказал тот.
– Как тебя зовут? – спросил Легль.
– Наве. Я приятель Гавроша.
– Оставайся с нами, – сказал Легль.
– Позавтракай с нами, – сказал Грантэр.
– Не могу, – ответил мальчик, – я иду в процессии, ведь это я кричу: «Долой Полиньяка!».
И, скользнув одной ногой далеко назад, что является наиболее почтительным из всех возможных приветствий, он удалился.
Когда мальчик ушел, взял слово Грантэр:
– Вот это чистокровный гамен. Есть много разновидностей этой породы. Гамен-нотариус зовется попрыгуном, гамен-повар – котелком, гамен-булочник – колпачником, гамен-лакей – грумом, гамен-моряк – юнгой, гамен-солдат – барабанщиком, гамен-живописец – мазилкой, гамен-лавочник – мальчишкой на побегушках, гамен-царедворец – пажом, гамен-король – дофином, гамен-бог – младенцем.
Тем временем Легль размышлял, потом он сказал вполголоса:
– «Азбука» – иначе говоря, «Похороны Ламарка».
– А высокий блондин, – установил Грантэр, – это Анжольрас, уведомивший тебя.
– Пойдем? – спросил Боссюэ.
– Да улице дождь, – заметил Жоли. – Я поклялся идти в огодь, до де в воду. Я де хочу простудиться.
– Я остаюсь здесь, – сказал Грантэр. – Я предпочитаю завтрак похоронным дрогам.
– Короче, мы остаемся, – заключил Легль. – Отлично! Выпьем в таком случае. Тем более что можно пропустить похороны, не пропуская мятежа.
– А, бятеж! Я за дего! – воскликнул Жоли.
Легль потер себе руки и сказал:
– Вот и взялись подправить революцию тысяча восемьсот тридцатого года! В самом деле, она жмет народу под мышками.
– Для меня она почти безразлична, ваша революция, – сказал Грантэр. – Я не питаю отвращения к нынешнему правительству. Это корона, укращенная ночным колпаком. Это скипетр, заканчивающийся дождевым зонтом. В самом деле, я думаю, что сегодня Луи-Филипп благодаря непогоде может воспользоваться своими королевскими атрибутами двояко: поднять скипетр против народа, а зонт – против дождя.
В зале стало темно, тяжелые тучи совсем заволокли небо. Ни в кабачке, ни на улице никого не было: все пошли «смотреть на события».
– Полдень сейчас или полночь? – вскричал Боссюэ. – Ничего решительно не видно. Жиблота, огня!
Грантэр мрачно продолжал пить.
– Анжольрас презирает меня, – бормотал он. – Анжольрас сказал: «Жоли болен, Грантэр пьян». И он послал Наве к Боссюэ, а не ко мне. А приди он за мной, я пошел бы с ним. Тем хуже для Анжольраса! Я не пойду на эти его похороны.
Приняв такое решение, Боссюэ, Жоли и Грантэр остались в кабачке. К двум часам дня стол, за которым они заседали, был уставлен пустыми бутылками. На нем горели две свечи, одна в медном, совершенно позеленевшем подсвечнике, другая в горлышке треснувшего графина. Грантэр пробудил в Жоли и Боссюэ вкус к вину; Боссюэ и Жоли помогли Грантэру вновь обрести веселое расположение духа.
Сам Грантэр после полудня уже бросил пить вино – этот незамысловатый источник мечты. У настоящих пьяниц вино пользуется только уважением, не больше. Что касается хмеля, то здесь существует черная и белая магия; вино всего лишь белая магия. Грантэр был великий охотник до зелья грез. Тьма опасного опьянения, приоткрывавшаяся ему, вместо того чтобы остановить, притягивала его. Он оставил рюмки и принялся за кружку. Кружка – это бездна. Не имея под рукой ни опиума, ни гашиша и желая затемнить сознание, он прибегнул к той ужасающей смеси водки, пива и абсента, которая вызывает страшное оцепенение. Три вида паров – пива, водки и абсента – ложатся на душу свинцовой тяжестью. Это тройной мрак; душа – этот небесный мотылек – тонет в нем; и в слоистом дыму, который, сгущаясь, принимает смутные очертания крыла летучей мыши, возникают три немые фигуры – Кошмар, Ночь, Смерть, парящие над заснувшей Психеей.
Грантэр еще не дошел до такого прискорбного состояния, отнюдь нет. Он был возмутительно весел, и Боссюэ и Жоли, чокаясь с ним, разделяли его веселье. Грантэр подчеркивал причудливость своих мыслей и слов непринужденностью движений. Важно опершись кулаком левой руки на колено и выставив вперед локоть, он сидел верхом на табурете, с развязавшимся галстуком, с полным стаканом вина в правой руке, и обращал к толстухе Матлоте следующие торжественные тирады:
– Да откроют ворота дворца! Да будут все академиками и да получат право обнимать мадам Гюшлу! Выпьем!
И, повернувшись к тетушке Гюшлу, он прибавил:
– О женщина, античная и древностью освященная, приблизься, дабы я созерцал тебя!
А Жоли кричал:
– Батлота и Жиблота, де давайте больше пить Градтэру. Од растратил субасшедшие дедьги. Од уже прожрал с сегоддяшдего утра с чудовищдой расточительдостью два фрадка девядосто пять садтибов!
А Грантэр снова вопиял:
– Кто же это без моего позволения сорвал с небосвода звезды и поставил их на стол под видом свечей?
Боссюэ, сильно упившийся, сохранял обычное спокойствие.
Он сидел на подоконнике открытого окна, подставив спину поливавшему его дождю, и взирал на своих друзей.
Внезапно он услышал позади какой-то смутный шум, быстрые шаги и крики: «К оружию!» Он обернулся и увидел на улице Сен-Дени, где кончалась улица Шанврери, Анжольраса, шедшего с карабином в руке, Гавроша с пистолетом, Фейи с саблей, Курфейрака со шпагой, Жана Прувера с мушкетоном, Комбефера с ружьем, Баореля с ружьем и все вооруженное шумное сборище людей, следовавшее за ними.
Улица Шанврери в длину не превышала расстояния ружейного выстрела. Боссюэ, приставив ладони рупором ко рту, крикнул:
– Курфейрак, Курфейрак! Ого-го!
Курфейрак услышал призыв, заметил Боссюэ, сделал несколько шагов по улице Шанврери, и «Чего тебе надо?» Курфейрака скрестилось с «Куда ты идешь?» Боссюэ.
– Строить баррикаду, – ответил Курфейрак.
– Отлично, иди сюда! Место хорошее! Строй здесь!
– Правильно, Орел, – ответил Курфейрак.
И по знаку Курфейрака вся ватага устремилась на улицу Шанврери.
Глава 3. Ночь начинает опускаться на Грантэра.
Место действительно было указано превосходно: улица с въезда была широкая, потом суживалась, превращаясь в глубине в тупик, где ее перехватывал «Коринф»; загородить улицу Мондетур справа и слева не представляло труда; таким образом, атака была возможна только с улицы Сен-Дени, то есть в лоб и по открытой местности. У пьяного Боссюэ был острый глаз трезвого Ганнибала.
При вторжении этого сборища страх охватил всю улицу. Не было ни одного прохожего, который не поспешил бы скрыться. С быстротой молнии по всей улице, направо, налево, заперлись лавочки, мастерские, подъезды, окна, жалюзи, мансарды, ставни всевозможных размеров, начиная с первого этажа до самой крыши. Какая-то перепуганная старуха, чтобы заглушить ружейную стрельбу, закрыла свое окно тюфяком, укрепив его при помощи двух жердей для сушки белья. Только кабачок оставался открытым, и по уважительной причине, ибо в него ворвалась толпа. «Боже мой! Боже мой!» – вздыхала тетушка Гюшлу.
Боссюэ сошел вниз, навстречу Курфейраку.
Жоли, высунувшись в окно, кричал:
– Курфейрак, почебу ты без зодтика, ты простудишься!
Тем временем в несколько минут из зарешеченных нижних окон кабачка было вырвано двадцать железных прутьев и разобрано десять туаз мостовой. Гаврош и Баорель остановили и опрокинули проезжавшие мимо роспуски некоего Ансо, торговца известью; на этих роспусках стояли три бочонка с известью, которые тут же были завалены грудами булыжника из развороченной мостовой. Анжольрас поднял дверцу погреба, и все пустые бочки вдовы Гюшлу отправились прикрывать с флангов эти бочонки с известью. Фейи, пальцы которого привыкли разрисовывать тонкие пластинки вееров, подпер бочки и роспуски двумя внушительными кучами щебня, появившегося внезапно, как и все остальное, и взятого неизвестно где. С фасада соседнего дома были сорваны подпиравшие его балки и положены на бочки. Когда Боссюэ и Курфейрак обернулись, половина улицы уже была перегорожена валом выше человеческого роста. Ничто не может сравниться с рукою народа, когда необходимо построить все то, что строят разрушая.
Матлота и Жиблота присоединились к работающим. Жиблота ходила взад и вперед, таская для строителей щебень. Ее равнодушная усталость пришла на помощь баррикаде. Она подавала булыжник, как подавала бы вино, – словно во сне.
В конце улицы показался омнибус, запряженный двумя белыми лошадьми.
Боссюэ перескочил через груды булыжника, побежал за ним, остановил кучера, заставил выйти пассажиров, помог сойти «дамам», отпустил кондуктора и, взяв лошадей под уздцы, возвратился с экипажем к баррикаде.
– Омнибусы, – сказал он, – не проходят перед «Коринфом». Non licet omnibus adire Corinthum[143].
Мгновение спустя распряженные лошади отправились куда глаза глядят по улице Мондетур, а омнибус, поваленный набок, довершил заграждение улицы.
Потрясенная тетушка Гюшлу укрылась во втором этаже.
Глаза ее блуждали, она смотрела на все невидящим взглядом и тихо подвывала. Вопль испуга словно не осмеливался вылететь из ее глотки.
– Светопреставление, – бормотала она.
Жоли запечатлел поцелуй на жирной, красной и морщинистой шее тетушки Гюшлу, сказав при этом Грантэру: «Здаешь, бой билый, жедская шея всегда была для бедя чеб-то бескодечдо изыскаддым».
Но Грантэр достиг высот дифирамбического красноречия. Он схватил за талию поднявшуюся во второй этаж Матлоту и раскатисто хохотал у открытого окна.
– Матлота безобразна! – кричал он. – Матлота – идеал безобразия. Матлота – химера. Тайна ее рождения такова: некий готический Пигмалион, делавший фигурные рыльца для водосточных труб на крышах соборов, в один прекрасный день влюбился в самое страшное из них. Он умолил Любовь одушевить его, и оно стало Матлотой. Взгляните на нее, граждане! У нее рыжие волосы, как у любовницы Тициана, и она славная девушка. Ручаюсь, что она будет драться хорошо. В каждой славной девушке сидит герой. А уж тетушка Гюшлу – та старый вояка. Посмотрите, что у нее за усы! Она их унаследовала от своего супруга. Женщина-гусар, вот она кто! Она тоже будет драться. Они вдвоем нагонят страху на все предместье. Товарищи, мы свалим правительство, это так же верно, как верно то, что существует пятнадцать промежуточных кислот между кислотой муравьиной и кислотой маргариновой. Впрочем, наплевать мне на это. Господа, отец всегда презирал меня за то, что я не понимал математику. Я понимаю только любовь и свободу. Я Грантэр – добрый малый! У меня никогда не бывает денег, я к ним не привык, а потому никогда в них и не нуждаюсь; но если бы я был богат, больше бы не осталось бедняков! Вы бы увидели! О, если бы у добрых людей была толстая мошна! Насколько все пошло бы лучше! Представляю себе Иисуса Христа с состоянием Ротшильда! Сколько бы добра он сделал! Матлота, поцелуй меня! Ты сладострастна и робка! Твои щечки жаждут сестринского поцелуя, а губки – поцелуя любовника!
– Замолчи, пивная бочка! – сказал Курфейрак.
– Я член муниципального совета Тулузы и магистр игр в честь Флоры там же! – ответил с важностью Грантэр.
Анжольрас, стоявший с ружьем в руке на гребне заграждения, поднял свое прекрасное строгое лицо. Анжольрас, как известно, был из породы спартанцев и пуритан. Он умер бы при Фермопилах вместе с Леонидом и сжег бы Дрохеду вместе с Кромвелем.
– Грантэр, – крикнул он, – пойди куда-нибудь, проспись. Здесь место опьянению, а не пьянству. Не позорь баррикаду!
Эти гневные слова произвели на Грантэра необычайное впечатление. Ему словно выплеснули стакан холодной воды в лицо. Он, казалось, сразу протрезвился, сел, облокотился на стол возле окна, с невыразимой кротостью взглянул на Анжольраса и сказал ему:
– Позволь мне поспать здесь.
– Ступай для этого в другое место! – крикнул Анжольрас.
Но Грантэр, не сводя с него нежного и мутного взгляда, ответил:
– Позволь мне тут поспать, пока я не умру.
Анжольрас презрительно взглянул на него.
– Грантэр, ты не способен ни верить, ни думать, ни хотеть, ни жить, ни умирать.
– Ты увидишь, – серьезно ответил Грантэр. Он пробормотал еще несколько невнятных слов, потом его голова тяжело упала на стол, и мгновение спустя он уже спал, что довольно обычно для второй стадии опьянения, к которой его сразу и резко подтолкнул Анжольрас.
Глава 4. Попытка утешить тетушку Гюшлу.
Баорель, в восторге от баррикады, кричал:
– Вот улица и декольтирована! Любо смотреть!
Курфейрак, продолжая понемногу растаскивать кабачок, старался утешить вдову кабатчика:
– Тетушка Гюшлу, вы как будто жаловались, что полиция составила на вас протокол, когда Жиблота вытряхнула постельный коврик в окно?
– Да, да, дорогой господин Курфейрак. Ах, боже мой, неужели вы собираетесь втащить и столик на эту вашу ужасную штуку? А за коврик да за горшок с цветами, который вывалился из чердачной каморки на улицу, правительство взяло с меня сто франков штрафу. Подумайте, какая гнусность!
– Вот видите, тетушка Гюшлу, мы мстим за вас.
Но тетушка Гюшлу, кажется, не слишком понимала, какое благодеяние оказывают ей подобным возмещением убытков. Ей предлагали такое же удовлетворение, как той арабской женщине, которая, получив пощечину от мужа, пошла жаловаться своему отцу, требуя отмщения. «Отец, – сказала она, – ты должен воздать моему мужу оскорблением за оскорбление». Отец спросил: «В какую щеку он ударил тебя?» – «В левую». Отец ударил ее в правую и сказал: «Теперь ты можешь быть довольна. Поди скажи своему мужу, что если он дал пощечину моей дочери, то я дал пощечину его жене».
Дождь прекратился. Желающие драться прибывали. Рабочие принесли под блузами бочонок пороху, корзинку, наполненную бутылками с купоросом, два или три карнавальных факела и плетенку с плошками, оставшимися от праздника «тезоименитства короля», каковой состоялся совсем недавно, 1 мая. Говорили, что этими припасами снабдил их один лавочник из Сент-Антуанского предместья, некий Пепен. На улице Шанврери разбили единственный фонарь, затем стоящий против него фонарь на улице Сен-Дени и все фонари на окрестных улицах – Мондетур, Лебяжьей, Проповедников, Большой и Малой Бродяжной.
Анжольрас, Комбефер и Курфейрак руководили всем. Одновременно строились две баррикады, обе опиравшиеся на «Коринф» и образовавшие прямой угол; большая замыкала улицу Шанврери, а другая – улицу Мондетур со стороны Лебяжьей. Меньшая баррикада, очень узкая, была построена из одних бочек и булыжника. Здесь собралось около пятидесяти рабочих; тридцать из них были вооружены ружьями, так как по дороге они сделали внушительный «заем» в лавке оружейника.
Трудно представить себе что-либо более причудливое и пестрое, чем это сборище людей. Один был в куртке с кавалерийской саблей и двумя седельными пистолетами, другой в жилете, в круглой шляпе и с пороховницей на боку, третий был в нагруднике из девяти листов серой бумаги и вооружен шилом шорника. Был один, который кричал: «Истребим всех до последнего и умрем на острие наших штыков!» Как раз у него-то и не было штыка. У других поверх сюртука красовалась кожаная портупея и патронташ национальной гвардии, на покрышке которого красной шерстью была вышита надпись: «Общественный порядок». Здесь было много ружей с номерами легионов, мало шляп, полное отсутствие галстуков, много обнаженных рук, несколько пик. Прибавьте к этому все возрасты, все разнообразие лиц бледных подростков, загорелых портовых рабочих. Все торопились и, помогая друг другу, говорили о своей надежде на успех: о том, что к трем часам утра подойдет помощь, что можно рассчитывать на один из полков, что весь Париж поднимется. То были страшные слова, к которым примешивалось какое-то сердечное веселье. Эти люди казались братьями, но они даже не знали имен друг друга. Великая опасность прекрасна тем, что выявляет братство незнакомых.
На кухне развели огонь, и в формочке для отливки пуль плавили жбаны, ложки, вилки, все оловянное «серебро» кабачка. Тут же пили. На столах меж стаканов вина были рассыпаны капсюли и крупная дробь. В бильярдной тетушка Гюшлу, Матлота и Жиблота, по-разному изменившиеся от страха – одна отупев, другая запыхавшись, третья проснувшись, – рвали старые полотенца и щипали корпию; им помогали трое повстанцев – трое волосатых, бородатых и усатых молодцов, внушавших им ужас и раздиравших холст с ловкостью приказчиков из бельевого магазина.
Человек высокого роста, замеченный Курфейраком, Комбефером и Анжольрасом в ту минуту, когда он пристал к отряду на углу Щепной улицы, работал на малой баррикаде и оказался там полезным. Гаврош работал на большой. А молодой человек, который поджидал Курфейрака у него на дому и спрашивал про Мариуса, исчез незадолго до того, как опрокинули омнибус.
Гаврош, полный вдохновения, сияющий, взял на себя задачу пустить все дело в ход. Он сновал взад и вперед, поднимался вверх, спускался вниз, снова поднимался, шумел, сверкал радостью. Казалось, он явился сюда для того, чтобы всех подбадривать. Была ли у него для этого какая-нибудь побудительная причина? Да, конечно, – его нищета. Были ли у него крылья? Да, конечно, – его веселость. Это был какой-то вихрь. Гавроша видели непрерывно, его слышали непрестанно. Он как бы наполнял собою воздух, присутствуя одновременно всюду. То была своего рода вездесущность, почти раздражающая; он не давал передышки. Огромная баррикада чувствовала его на своем хребте. Он приставал к бездельникам, подстегивал ленивых, оживлял усталых, досаждал медлительным, веселил одних, вдохновлял других, сердил третьих, всех расшевеливал, жалил студента, язвил рабочего; он останавливался, присаживался, снова убегал, носился над всей этой суматохой и работой, прыгал от одних к другим, жужжал, звенел и изводил всю упряжку – настоящая муха, суетившаяся возле исполинской колесницы Революции.
Его маленькие руки действовали без устали, а маленькое горло неустанно исторгало крики:
– Смелей! Давай еще булыжника! Еще бочек! Еще какую-нибудь штуку! Где бы ее взять? Вали сюда корзинку со щебнем, заткнем эту дыру. Она совсем маленькая, ваша баррикада. Ей надо подрасти. Бросай в нее все, швыряй в нее все, втыкай в нее все! Ломайте дом. Баррикада – это окрошка из всякой крошки. Глянь-ка, вон застекленная дверь!
Один из работавших воскликнул:
– Застекленная дверь! На что она, по-твоему, нужна, пузырь?
– Подумаешь, сам богатырь! – отпарировал Гаврош. – Застекленная дверь на баррикаде – превосходная вещь! Атаковать баррикаду она не мешает, а взять помешает. Разве вам никогда не приходилось воровать яблоки и перелезать через стену, где понатыкано донышек от бутылок? Стеклянная дверь! Да она срежет все мозоли на ногах национальной гвардии, когда та полезет на баррикаду. Черт побери, со стеклом не шутите! Эх, плохо вы соображаете, приятели!
Впрочем, он был взбешен своим пистолетом без собачки. Он ходил от одного к другому и требовал: «Ружье, давайте ружье! Почему мне не дают ружья?».
– Ружье, тебе? – удивился Комбефер.
– Вот те на? – возмутился Гаврош. – А почему бы нет? Было ведь у меня ружье в тысяча восемьсот тридцатом году, когда поспорили с Карлом Десятым.
Анжольрас пожал плечами.
– Когда ружей хватит для мужчин, тогда их дадут детям.
Гаврош гордо повернулся к нему и объявил:
– Если тебя убьют раньше меня, я возьму твое.
– Мальчишка! – крикнул Анжольрас.
– Молокосос! – не остался в долгу Гаврош. Заблудившийся щеголь, бродивший в конце улицы, отвлек его внимание. Гаврош крикнул: – Идите к нам, молодой человек! Как насчет нашей старушки родины? Неужели нет желанья ей помочь?
Щеголь поспешно скрылся.
Глава 5. Подготовка.
Газеты того времени, сообщавшие, что баррикада на улице Шанврери, «сооружение почти неодолимое», достигала уровня второго этажа, заблуждались. На деле она была в среднем не выше шести-семи футов. Ее построили с таким расчетом, чтобы сражавшиеся могли по своему желанию или исчезать за нею, или показываться над заграждением и даже взбираться на верхушку его при помощи четырех рядов камней, положенных друг на друга и образующих с внутренней стороны ступени. Сложенная из куч булыжника, из бочек, укрепленных балками и досками, концы которых были просунуты в колеса роспусков Ансо и опрокинутого омнибуса, баррикада словно ощетинилась и снаружи, с фронта, казалась неприступной.
Между стеной дома и наиболее отдаленным от кабачка краем баррикады была оставлена щель, достаточная для того, чтобы сквозь нее мог пройти человек, – таким образом, возможен был выход. Дышло омнибуса поставили стоймя и привязали веревками; красное знамя, прикрепленное к этому дышлу, реяло над баррикадой.
Малая баррикада Мондетур, скрытая позади кабачка, была незаметна. Обе соединенные баррикады представляли собой настоящий редут. Анжольрас и Курфейрак не сочли нужным забаррикадировать другой конец улицы Мондетур, открывавший через улицу Проповедников выход к Центральному рынку, без сомнения желая сохранить возможность сообщаться с внешним миром и не слишком страшась нападения со стороны опасной и труднопроходимой улицы Проповедников.
Таким образом, если не считать этого выхода, который Фолар на своем военном языке назвал бы «коленом траншеи», а также узкой щели, оставленной на улице Шанврери, внутренность баррикады, где кабачок образовывал резко выступавший угол, представляла собой неправильный четырехугольник, закрытый со всех сторон. Между большим заграждением и высокими домами, расположенными в глубине улицы, имелся промежуток шагов в двадцать, таким образом, баррикада, можно сказать, прикрывала свой тыл этими, хотя и населенными, но запертыми сверху донизу домами.
Вся работа была произведена без помехи меньше чем за час; перед горсточкой этих смелых людей ни разу не появилась ни меховая шапка гвардейца, ни штык. Изредка попадавшиеся буржуа, которые еще отваживались пройти по улице Сен-Дени, ускоряли шаг, взглянув на улицу Шанврери и заметив баррикаду.
Как только были закончены обе баррикады и водружено знамя, из кабачка вытащили стол, на который тут же взобрался Курфейрак. Анжольрас принес квадратный ящик, и Курфейрак открыл его. Ящик был наполнен патронами. Среди самых храбрых, когда они увидели патроны, пробежал трепет, и на мгновение воцарилась тишина.
Курфейрак раздавал их, улыбаясь.
Каждый получил тридцать патронов. У многих повстанцев был порох, и они принялись изготовлять новые патроны, забивая в них отлитые пули. Что касается бочонка пороха, то он стоял в сторонке на столе возле дверей, и его не тронули, оставив про запас.
Сигналы боевой тревоги, разносившиеся по всему Парижу, все не умолкали, но, превратясь в конце концов в какой-то однообразный шум, уже более не привлекали внимания. Этот шум то отдалялся, то приближался с заунывными раскатами.
Все одновременно, не спеша, с торжественной важностью, зарядили ружья и карабины. Анжольрас расставил перед баррикадами трех часовых – одного на улице Шанврери, другого на улице Проповедников, третьего на углу Малой Бродяжной.
А когда баррикады были построены, места назначены, ружья заряжены, дозоры поставлены, тогда одни на этих страшных безлюдных улицах, одни среди безмолвных и словно мертвых домов, в которых не ощущалось никаких признаков человеческой жизни, окутанные нараставшими тенями сумерек, оторванные от всего мира, в этой тьме и в этом молчании, где чувствовалось приближение чего-то трагического и ужасающего, повстанцы, полные решимости, вооруженные, спокойные, стали ждать.
Глава 6. В ожидании.
Что делали они в эти часы ожидания?
Нам следует рассказать об этом, ибо это принадлежит истории.
Пока мужчины изготовляли патроны, а женщины корпию, пока широкая кастрюля, предназначенная для отливки пуль, полная расплавленного олова и свинца, дымилась на раскаленной жаровне, пока дозорные с оружием в руках наблюдали за баррикадой, а Анжольрас, которого ничем нельзя было отвлечь, наблюдал за дозорами, Комбефер, Курфейрак, Жан Прувер, Фейи, Боссюэ, Жоли, Баорель и некоторые другие отыскали друг друга и собрались вместе, как в самые мирные дни студенческой дружбы. В уголке кабачка, превращенного в каземат, в двух шагах от воздвигнутого ими редута, прислонив заряженные и приготовленные карабины к спинкам своих стульев, эти прекрасные молодые люди на пороге смертного часа начали читать любовные стихи.
Какие стихи? Вот они:
Час, место, ожившие воспоминания юности, редкие звезды, загоравшиеся в небе, кладбищенская тишина пустынных улиц, неизбежность неумолимо надвигавшихся событий – все придавало волнующее очарование этим стихам, прочитанным вполголоса в сумерках Жаном Прувером, который, – мы упоминали о нем, – был нежным поэтом.
Тем временем зажгли плошку на малой баррикаде, а на большой – один из тех восковых факелов, которые на Масленице можно увидеть впереди колясок с ряжеными, отправляющимися в Куртиль. Эти факелы, как мы знаем, доставили из Сент-Антуанского предместья.
Факел был помещен в своего рода клетку из булыжника, закрытую с трех сторон для защиты его от ветра, и установлен таким образом, что весь свет падал на знамя. Улица и баррикада оставались погруженными в тьму, и было видно только красное знамя, грозно освещенное как бы огромным потайным фонарем.
Этот свет придавал багрецу знамени какой-то зловещий кровавый отблеск.
Глава 7. Человек, завербованный на Щепной улице.
Уже совсем наступила ночь, а все оставалось по-прежнему. Слышался только смутный гул, порой ружейная стрельба, но редкая, прерывистая и отдаленная. Затянувшаяся передышка свидетельствовала о том, что правительство стягивает свои силы. На баррикаде пятьдесят человек ожидали шестидесяти тысяч.
Анжольрасом овладело нетерпение, испытываемое сильными душами на пороге опасных событий. Он пошел за Гаврошем, который занялся изготовлением патронов в нижней зале при неверном свете двух свечей, поставленных из предосторожности на прилавок, так как на столах был рассыпан порох. На улицу от этих двух свечей не проникало ни одного луча света. Повстанцы позаботились также о том, чтобы не зажигали огня в верхних этажах.
В эту минуту Гаврош был очень занят, и отнюдь не одними своими патронами. Только что в нижнюю залу вошел человек со Щепной улицы и уселся за наименее освещенный стол. На снаряжение ему досталось солдатское ружье крупного калибра, которое он поставил между колен. До сих пор Гаврош, отвлеченный множеством «занятных» вещей, даже не замечал этого человека.
Когда он вошел, Гаврош, восхитившись его ружьем, машинально проводил его взглядом, потом, когда человек сел, мальчишка вновь вскочил со своего места. Тот, кто проследил бы за ним до этого мгновения, заметил бы, что человек со Щепной улицы внимательно наблюдал решительно за всем происходившим на баррикаде и в отряде повстанцев; но, едва войдя в залу, он погрузился в какую-то сосредоточенную задумчивость и, казалось, перестал замечать окружающее. Мальчик подошел к этому задумавшемуся человеку и начал вертеться вокруг него на цыпочках, как это делают, когда боятся кого-нибудь разбудить. В то же время на его детском лице, одновременно дерзком и рассудительном, легкомысленном и серьезном, веселом и скорбном, замелькали одна за другой все те выразительные стариковские гримасы, которые обозначают: «Вздор! Не может быть! Мне померещилось! Разве это не… Нет, не он! Конечно, он! Да нет же!» и т. д. Гаврош раскачивался на пятках, сжимал кулаки в карманах, вытягивал шею, как птица, и выпячивал нижнюю губу – свидетельство того, что он пустил в ход всю свою проницательность. Он был озадачен, нерешителен, неуверен, убежден, восхищен. Ужимками своими он напоминал начальника евнухов, отыскавшего на невольничьем рынке среди дебелых бабищ Венеру, или знатока, распознавшего среди бездарной мазни картину Рафаэля. Все в нем пришло в движение: инстинкт его что-то учуял, ум его что-то сопоставлял. Было очевидно, что Гаврош натолкнулся на важное открытие.
В самый разгар его усиленных размышлений к нему и подошел Анжольрас.
– Ты маленький, – сказал Анжольрас, – тебя не заметят. Выйди за баррикаду, прошмыгни вдоль домов, пошатайся немножко по улицам, потом вернешься и расскажешь мне, что там происходит.
Гаврош выпрямился.
– Значит, и маленькие на что-нибудь годятся! Очень приятно! Иду. А покамест доверяйте маленьким и не доверяйте большим… – Затем, подняв голову и понизив голос, Гаврош прибавил, показав на человека со Щепной улицы: – Вы хорошо видите этого верзилу?
– Ну и что же?
– Это сыщик.
– Ты уверен?
– Не прошло и двух недель, как он стащил меня за ухо с карниза Королевского моста, где я уселся подышать свежим воздухом.
Анжольрас быстро отошел от мальчика и тихо прошептал несколько слов оказавшемуся здесь портовому рабочему. Тот вышел из залы и почти тотчас вернулся обратно в сопровождении трех товарищей. Четверо мужчин, четыре широкоплечих грузчика, незаметно встали позади стола, на который облокотился человек со Щепной улицы, явно готовые броситься на него.
Тогда Анжольрас подошел к нему и спросил:
– Кто вы такой?
При этом неожиданном вопросе человек вздрогнул. Пристально взглянув в ясные глаза Анжольраса, он в их глубине, казалось, прочел его мысль. Он улыбнулся самой презрительной, самой смелой и решительной улыбкой, какую только можно вообразить, и ответил с высокомерной важностью:
– Я вижу, что… Ну да!
– Вы сыщик?
– Я представитель власти.
– Ваше имя?
– Жавер.
Анжольрас сделал знак четырем рабочим. В мгновение ока, прежде чем Жавер успел обернуться, он был схвачен за шиворот, опрокинут на землю, связан, обыскан.
У него нашли маленькую круглую карточку, вделанную между двух стекол, с гербом Франции и оттиснутой вокруг надписью: «Надзор и Бдительность» на одной стороне, а на другой – «ЖАВЕР, полицейский надзиратель, пятидесяти двух лет» и подпись тогдашнего префекта полиции Жиске.
Кроме того, у него были обнаружены часы и кошелек с несколькими золотыми монетами. Кошелек и часы ему оставили. Под часами, в глубине жилетного кармана, нащупали и извлекли вложенный в конверт листок бумаги. Развернув его, Анжольрас прочел пять строк, написанных рукой того же префекта полиции:
«Выполнив свою политическую задачу, полицейский надзиратель Жавер должен удостовериться особым розыском, действительно ли замечены следы злоумышленников на откосе правого берега Сены, возле Иенского моста».
Окончив обыск, Жавера поставили на ноги и, скрутив ему руки за спиной, привязали к тому знаменитому столбу, стоящему посредине нижней залы, который некогда дал название кабачку.
Гаврош, присутствовавший при этой сцене, вынес всему свое молчаливое одобрение кивком головы, потом подошел к Жаверу и сказал ему:
– Вот мышь и поймала кота.
Все было выполнено столь быстро, что, когда об этом узнали люди, толпившиеся возле кабачка, дело было кончено. Жавер ни разу не крикнул. Услышав, что Жавер привязан к столбу, Курфейрак, Боссюэ, Жоли, Комбефер и повстанцы с обеих баррикад сбежались в нижнюю залу.
Жавер, стоявший у столба и так оплетенный веревками, что не мог пошевельнуться, поднял голову с неустрашимым спокойствием никогда не лгавшего человека.
– Это сыщик, – сказал Анжольрас. – И, обернувшись к Жаверу, добавил: – Вас расстреляют за десять минут до того, как баррикада будет взята.
В ответ Жавер высокомерным тоном спросил:
– Почему же не сейчас?
– Мы бережем порох.
– В таком случае прикончите меня ударом ножа.
– Шпион, – ответил красавец Анжольрас, – мы судьи, а не убийцы.
Затем он позвал Гавроша:
– Ну, а ты отправляйся по своим делам! Выполни, что я тебе сказал.
– Иду, – крикнул Гаврош.
И уже на пороге, на минутку задержавшись, сказал:
– Кстати, вы мне отдадите его ружье! – И прибавил: – Я оставляю вам музыканта, но хочу получить кларнет.
Мальчик отдал честь по-военному и весело проскользнул в проход большой баррикады.
Глава 8. Несколько вопросительных знаков по поводу некоего Кабюка, который, быть может, и не именовался Кабюком.
Трагическое описание, предпринятое нами, не было бы полным, и читатель не увидел бы во всей их строгой и жизненной выразительности эти великие часы рождения революции, часы высоких социальных усилий, сопряженных с мучительными судорогами, если бы мы опустили в начатом здесь наброске исполненный эпического и дикого ужаса случай, последовавший тотчас после ухода Гавроша.
Скопища людей, как известно, подобны снежному кому; катясь вперед, они обрастают шумной человеческой массой, в которой не спрашивают, кто откуда пришел. Среди прохожих, присоединившихся к сборищу, руководимому Анжольрасом, Комбефером и Курфейраком, находился некто, одетый в потертую на спине куртку грузчика; он размахивал руками, вопил и был похож на буйного пьяницу. Этот человек, именовавшийся или принявший имя Кабюк, по сути совершенно неизвестный тем, которые утверждали, будто его знают, сильно подвыпивший или притворявшийся пьяным, сидел с несколькими повстанцами за столом, который они вытащили из кабачка. Этот Кабюк, приставая с угощением к тем, кто отказывался пить, казалось, в то же время внимательно оглядывал большой дом в глубине баррикады, пять этажей которого возвышались над всей улицей и глядели в сторону Сен-Дени. Внезапно он вскричал:
– Товарищи, знаете что? Вон из какого дома нам следует стрелять. Если мы там засядем за окнами, тогда – черта с два! – никто не пройдет по улице!
– Да, но дом заперт, – сказал один из его собутыльников.
– А мы постучимся.
– Не откроют.
– Высадим дверь!
Тут Кабюк бежит к двери, возле которой висит весьма увесистый молоток, и стучится. Дверь не открывают. Он стучит во второй раз. Никто не отвечает. Третий раз. То же молчание.
– Есть тут кто-нибудь? – кричит Кабюк.
Никаких признаков жизни.
Тогда он хватает ружье и начинает бить в дверь прикладом. Дверь была старинная, сводчатая, низкая, узкая, крепкая, из цельного дуба, обитая изнутри листовым железом, с железной оковкой, – настоящая потайная дверь крепости. Дом задрожал от ударов, но дверь не поддалась.
Тем не менее жильцы дома, вероятно, встревожились: на третьем этаже осветилось и открылось, наконец, слуховое квадратное оконце. В оконце показалась свеча и благообразное испуганное лицо седовласого старика привратника.
Кабюк перестал стучать.
– Что вам угодно, господа? – спросил привратник.
– Отворяй! – потребовал Кабюк.
– Господа, это невозможно.
– Отворяй сейчас же.
– Нельзя, господа!
Кабюк взял ружье и прицелился в привратника, но так как он стоял внизу и было очень темно, то привратник этого не видел.
– Ты отворишь? Да или нет?
– Нет, господа!
– Ты говоришь – нет?
– Я говорю – нет, милостивые…
Привратник не договорил. Раздался выстрел; пуля ударила ему под подбородок и вышла сквозь затылок, пронизав шейную вену. Старик свалился без единого стона. Свеча упала и потухла, и ничего больше нельзя было различить, кроме неподвижной головы, лежавшей на краю оконца, и беловатого дымка, поднимавшегося к крыше.
– Так! – сказал Кабюк, опустив ружье прикладом на мостовую.
Едва он произнес это слово, как почувствовал чью-то руку, взявшую его за плечо со всей мощью орлиной хватки, и услышал голос:
– На колени.
Убийца обернулся и увидел перед собой бледное и холодное лицо Анжольраса. Анжольрас держал в руке пистолет.
Он пришел на звук выстрела.
Левой рукой он схватил ворот блузы, рубаху и подтяжки Кабюка.
– На колени, – повторил он.
И властным движением согнув, как тростинку, коренастого, здоровенного крючника, хрупкий двадцатилетний юноша поставил его на колени в грязь. Кабюк пытался сопротивляться, но, казалось, был схвачен рукой сверхчеловеческой силы.
Бледный, с обнаженной шеей и разметавшимися волосами, Анжольрас женственным своим лицом напоминал в эту минуту античную Фемиду. Раздувавшиеся ноздри и опущенные глаза придавали его строгому греческому профилю то выражение неумолимого гнева и чистоты, которое, в представлении Древнего мира, подобает правосудию.
Сбежавшиеся с баррикады люди стали поодаль, чувствуя невозможность произнести хотя бы слово перед тем, что им предстояло увидеть.
Побежденный Кабюк не пытался больше отбиваться и дрожал всем телом. Анжольрас отпустил его и вынул часы.
– Соберись с силами, – сказал он. – Молись или размышляй. У тебя осталась одна минута.
– Пощадите! – пролепетал убийца; потом он опустил голову и пробормотал несколько невнятных ругательств.
Анжольрас не сводил глаз с часовой стрелки; выждав минуту, он сунул часы в карман. Потом, схватив за волосы Кабюка, который, скорчившись и завывая, жался к его коленям, он приблизил к его уху дуло пистолета. Многие из этих отважных людей, так спокойно отправившихся на самое рискованное и страшное предприятие, отвернулись.
Раздался выстрел, убийца упал ничком на мостовую, Анжольрас выпрямился и оглядел всех уверенным и строгим взглядом.
Потом он толкнул ногою труп и сказал:
– Выбросьте это вон.
Три человека подняли тело негодяя, еще дергавшееся в последних непроизвольных судорогах уходящей жизни, и перебросили его через малую баррикаду на улицу Мондетур.
Анжольрас стоял задумавшись. Выражение какого-то мрачного величия медленно проступало на его грозном и спокойном челе. Вдруг он заговорил. Все затихли.
– Граждане, – сказал Анжольрас, – то, что сделал этот человек, гнусно, а то, что сделал я, – ужасно. Он убил, и вот почему я убил его. Я обязан был так поступить, ибо у восстания должна быть своя дисциплина. Убийство здесь – большее преступление, чем где бы то ни было: на нас взирает революция, мы жрецы Республики, мы священные жертвы долга, и не следует давать другим повод оклеветать нашу борьбу. Поэтому я осудил этого человека и приговорил его к смерти. Принужденный сделать то, что я сделал, хотя и чувствовал к этому отвращение, я осудил также и себя, и вы скоро увидите, к чему я себя приговорил.
Слушавшие содрогнулись.
– Мы разделим твою участь! – крикнул Комбефер.
– Пусть так, – ответил Анжольрас. – Еще одно слово. Казнив этого человека, я повиновался необходимости, но необходимость – чудовище старого мира; там необходимость называлась Роком. Закон же прогресса в том, что чудовища рассеиваются перед лицом ангелов и Рок исчезает перед лицом Братства. Сейчас не время для слова «любовь». И все же я его произношу, и я прославляю его. Любовь – тебе будущее! Смерть, я прибегнул к тебе, но я тебя ненавижу! Граждане, в грядущем не будет ни мрака, ни неожиданных потрясений, ни свирепого невежества, ни кровавого возмездия. Так же как не будет больше Сатаны, не будет больше и Михаила Архангела. В грядущем никто не станет никого убивать, земля будет сиять, род человеческий – любить. Граждане, он придет, тот день, когда все станет согласием, гармонией, светом, радостью и жизнью, он придет! И вот, для того чтобы он пришел, мы идем на смерть.
Анжольрас умолк. Его целомудренные уста сомкнулись; неподвижно, точно мраморное изваяние, стоял он на том самом месте, где пролил кровь. Его застывший взгляд принуждал окружавших говорить вполголоса.
Жан Прувер и Комбефер молча сжимали друг другу руки и, прислонившись один к другому в углу баррикады, с восторгом, к которому примешивалось сострадание, смотрели на строгое лицо этого юноши, палача и жреца, светлого, как кристалл, и твердого, как скала.
Скажем тут же, что позднее, после боя, когда трупы были доставлены в морг и обысканы, у Кабюка нашли карточку полицейского агента. Автор этой книги располагал в 1848 году особым рапортом, представленным по этому поводу префекту полиции в 1832 году.
Добавим также, что, если верить странному, но, вероятно, обоснованному полицейскому преданию, Кабюк был не кто иной, как Звенигрош. Во всяком случае, после смерти Кабюка больше никто не слышал о Звенигроше. Исчезнув, Звенигрош не оставил за собой никакого следа; казалось, он слился с невидимым. Его жизнь была мраком, его конец – тьмою.
Весь повстанческий отряд был еще под впечатлением этого трагического судебного дела, столь быстро расследованного и быстро законченного, когда Курфейрак снова увидел на баррикаде невысокого молодого человека, который утром спрашивал у него про Мариуса.
Этот юноша, смелый и беззаботный на вид, с наступлением ночи вернулся, чтобы вновь присоединиться к повстанцам.
Книга тринадцатая. Мариус уходит во мрак.
Глава 1. От улицы Плюме до квартала Сен-Дени.
Голос в сумерках, позвавший Мариуса на баррикаду улицы Шанврери, показался ему голосом рока. Он хотел умереть, и ему представился к этому случай; он стучался в ворота гробницы, и рука во тьме протягивала ему ключ от них. Зловещий выход, открывающийся во мраке отчаянию, всегда полон соблазна. Мариус раздвинул прутья решетки, столько раз пропускавшей его, вышел из сада и сказал: «Пойдем!».
Обезумев от горя, не в силах принять какое-либо твердое решение, неспособный отныне согласиться ни с чем, что предложила бы ему судьба после этих двух месяцев опьянения молодостью и любовью, одолеваемый самыми мрачными мыслями, какие только может внушить отчаяние, он хотел лишь одного – скорее покончить с жизнью.
Он пошел быстрым шагом. У него были при себе пистолеты Жавера, таким образом, он оказался вооруженным.
Молодой человек, которого он мельком увидел, скрылся из виду где-то на повороте улицы.
Мариус, выйдя с улицы Плюме бульваром, пересек эспланаду и мост Инвалидов, Елисейские поля, площадь Людовика XV и очутился на улице Риволи. Здесь магазины были открыты, под аркадами горел газ, женщины делали покупки в лавках; в кафе «Летер» ели мороженое, а в английской кондитерской – пирожки. Лишь несколько почтовых карет пронеслись галопом, выехав из гостиниц «Пренс» и «Мерис».
Через пассаж Делорм Мариус вышел на улицу Сент-Оноре. Здесь лавки были заперты, торговцы переговаривались у полуотворенных дверей, по тротуарам сновали прохожие, фонари были зажжены, все окна, начиная со второго этажа, были освещены, как обычно. На площади Пале-Рояль стояла кавалерия.
Мариус пошел по улице Сент-Оноре. По мере того как он удалялся от площади Пале-Рояль, освещенных окон попадалось все меньше, лавки были наглухо закрыты, на порогах домов никто не переговаривался, улица становилась все темнее, а толпа людей все гуще, ибо прохожие теперь собирались толпой. В этой толпе никто как будто не произносил ни слова, и, однако, оттуда доносилось глухое, низкое гудение.
По дороге к фонтану Арбр-Сэк попадались «сборища» – неподвижные и мрачные группы людей, которые среди прохожих напоминали камни в потоке воды.
У въезда на улицу Прувер толпа больше не двигалась. То была стойкая, внушительная, крепкая, плотная, почти непроницаемая глыба из тесно сгрудившихся людей, которые тихонько толковали между собой. Тут почти не было сюртуков или круглых шляп – всюду рабочие балахоны, блузы, фуражки, взъерошенные волосы и землистые лица. Все это скопище смутно колыхалось в ночном тумане. В глухом говоре толпы был хриплый отзвук закипающих страстей. Хотя никто не двигался, слышно было, как переступают ноги в грязи. По ту сторону этой толщи людей, на улицах Руль, Прувер и в конце улицы Сент-Оноре, не было ни одного окна, в котором горел бы огонек свечи. Виднелись только убегающие вдаль и меркнущие в глубине улиц цепочки фонарей. Фонари того времени напоминали подвешенные на веревках большие красные звезды, отбрасывавшие на мостовую тень, похожую на громадного паука. Улицы не были пустынны. Там можно было различить ружья в козлах, покачивавшиеся штыки и стоявшие биваком войска. Ни один любопытный не переходил этот рубеж. Там движение прекращалось. Там кончалась толпа и начиналась армия.
Мариус стремился туда с настойчивостью человека, потерявшего надежду. Его позвали, значит, нужно было идти. Ему удалось пробиться сквозь толпу, сквозь биваки отрядов, он ускользнул от патрулей и избежал часовых. Сделав крюк, он вышел на улицу Бетизи и направился к рынку. На углу улицы Бурдоне фонарей больше не было.
Миновав зону толпы, он перешел границу войск и очутился среди чего-то страшного. Ни одного прохожего, ни одного солдата, ни проблеска света, никого; безлюдье, молчание, ночь; неведомый, пронизывающий холод. Войти в такую улицу все равно что войти в погреб.
Он продолжал двигаться вперед.
Он сделал несколько шагов. Кто-то бегом промчался мимо. Кто это был? Мужчина? Женщина? Было ли их несколько? Он не мог этого сказать. Тень мелькнула и исчезла.
Окольными путями он вышел в переулок, решив, что это Гончарная улица; в середине этой улицы он натолкнулся на препятствие. Он протянул руки вперед. То была опрокинутая тележка; он чувствовал под ногами лужи, выбоины, разбросанный и наваленный булыжник. Здесь была начатая и покинутая баррикада. Перебравшись через кучи булыжника, он очутился по другую сторону заграждения. Он шел у самых уличных тумб и находил дорогу по стенам домов. Ему показалось, будто немного поодаль от баррикады промелькнуло что-то белое. Он приблизился, и это белое приняло определенную форму. То были две белые лошади – те, которых Боссюэ утром выпряг из омнибуса. Они брели весь день наугад, из улицы в улицу и в конце концов остановились здесь с тупым терпением животных, которые в такой же степени постигают действия человека, в какой человек – пути провидения.
Мариус прошел мимо них. Когда он подходил к улице, показавшейся ему улицей Общественного договора, откуда-то грянул ружейный выстрел, и просвистевшая совсем близко от него пуля, наугад прорезая мрак, пробила над его головой медный таз для бритья, висевший над дверью цирюльника. Еще в 1846 году на улице Общественного договора в углу рыночной колоннады можно было увидеть этот продырявленный таз для бритья.
Ружейный выстрел был все же проявлением жизни. Но с этой минуты больше ничего не случилось.
Весь его путь походил на спуск по черным ступеням.
И все же Мариус шел вперед.
Глава 2. Париж – глазами совы.
Существо, наделенное крыльями летучей мыши или совы, которое парило бы в это время над Парижем, увидело бы мрачную картину.
Весь старый квартал Центрального рынка, пересеченный улицами Сен-Дени и Сен-Мартен, образующий как бы город в городе, являющийся местом скрещения тысячи переулков и превращенный повстанцами в свой оплот и укрепление, предстал бы перед этим крылатым существом какой-то громадной темной ямой, вырытой в самом сердце Парижа. Здесь взгляд погружался в пропасть. Разбитые фонари, закрытые окна – это исчезновение всякого света, всякой жизни, всякого шума, всякого движения. Невидимый дозор мятежа бодрствовал повсюду и поддерживал порядок, то есть ночной мрак. Погрузить малое количество людей во всеобъемлющую тьму, так сказать, умножить число бойцов с помощью всех тех средств, которыми эта темнота располагает, – вот необходимая тактика восстания. На исходе дня каждое окно, где зажигали свечу, разбивалось пулей. Свет потухал, а иногда лишался жизни и обитатель. Поэтому все замерло там. В домах царили только страх, печаль и оцепенение; на улицах – какой-то священный ужас. Нельзя было различить ни длинных рядов окон и этажей, ни зубчатых выступов труб и крыш, ни тех смутных бликов, которыми отсвечивает грязная и влажная мостовая. Око, взиравшее с высоты на этот сгусток тьмы, быть может, уловило бы там и сям мерцавший свет, подобный огонькам, блуждающим среди развалин; этот свет выхватывал из мрака ломаные и причудливые линии, очертания странных сооружений: там были баррикады. Остальное представлялось озером темноты, туманным, гнетущим, унылым. Над ним вставали неподвижные и зловещие силуэты: башня Сен-Жак, церковь Сен-Мерри и два или три других громадных здания, которые человек создает гигантами, а ночь превращает в призраки.
Всюду, вокруг этого пустынного и внушавшего тревогу лабиринта, в кварталах, где парижская суматоха не стихла окончательно и где горело несколько редких фонарей, воздушный наблюдатель мог бы различить металлическое поблескивание сабель и штыков, глухой грохот артиллерии и движение молчаливых батальонов, возраставшее с каждой минутой; он увидел бы страшный пояс, который стягивался и медленно смыкался вокруг восставших.
Обложенный войсками квартал был теперь чем-то вроде чудовищной пещеры; там все казалось уснувшим или неподвижным, и, как мы видели, каждая улица, в которую удавалось пробраться, встречала человека только мраком.
Мраком первобытным, полным ловушек, чреватым неведомыми и опасными столкновениями, куда страшно было проникнуть и где жутко было остаться; входящие трепетали перед теми, кто поджидал их, ожидавшие дрожали перед теми, кто приближался. За каждым поворотом улиц – невидимые бойцы в засадах, грозящие смертью западни, скрытые в толщах мрака. Тут был конец всему. Никакой надежды отныне на иной свет, кроме вспышки ружейного выстрела, на иную встречу, кроме внезапного и короткого знакомства со смертью. Где? Как? Когда? Никто не знал. Но это было бесспорно и неизбежно. Здесь, в этом месте, избранном для борьбы, правительство и восстание, национальная гвардия и народ, буржуазия и мятежники собирались схватиться врукопашную ощупью, наугад. Для одних и для других необходимость этого была одинаковой. Отныне оставался лишь один исход – выйти отсюда победителями или сойти в могилу. Положение было настолько напряженным, тьма настолько непроницаемой, что самые робкие проникались решимостью, а самые смелые – ужасом.
Впрочем, обе стороны не уступали друг другу в ярости, ожесточении и решимости. Для одних идти вперед – значило умереть, и никто не думал отступать, для других остаться – значило умереть, но никто не думал бежать.
Необходимость требовала, чтобы завтра все закончилось, чтобы победу одержала та или другая сторона, чтобы восстание стало революцией или оказалось лишь неудавшимся дерзким предприятием. Правительство это понимало так же, как и повстанцы; ничтожнейший буржуа чувствовал это. Отсюда и мучительное беспокойство, усугубляемое беспросветным мраком этого квартала, где все должно было решиться, отсюда и нарастающая тревога вокруг этого молчания, которому предстояло разразиться катастрофой. Здесь был слышен только один звук, раздирающий сердце, как хрипение, угрожающий, как проклятие: набат Сен-Мерри. Нельзя было представить ничего более леденящего душу, чем растерянный, полный отчаяния вопль этого колокола, жалостно сетующего во мгле.
Как это часто бывает, природа, казалось, дала согласие на то, что люди готовились делать. Ничто не нарушало горестной гармонии целого. Звезды исчезли, тяжелые облака затянули весь горизонт своими угрюмыми складками. Над мертвыми улицами распростерлось черное небо, точно исполинский саван над исполинской могилой.
Пока битва, еще всецело политическая битва, подготовлялась на том самом месте, которое уже видело столько революционных событий, пока юношество, тайные общества, школы – во имя принципов, а средний класс – во имя корысти приближались друг к другу, чтобы столкнуться и повергнуть друг друга в прах, пока каждый торопил и призывал последний и решительный час, – вдали и вне рокового квартала, в глубочайших бездонных низинах того старого отверженного Парижа, который теряется в блеске Парижа счастливого и пышущего изобилием, слышалось глухое рокотание сурового голоса народа.
Голоса, устрашающего и священного, который слагается из рычания зверя и из слова божьего, который ужасает слабых и предупреждает мудрых, который звучит одновременно снизу, как львиный рык, и с высоты, как глас громовый.
Глава 3. Последний рубеж.
Мариус дошел до Центрального рынка.
Здесь все было еще безмолвнее, еще мрачнее и неподвижнее, чем на соседних улицах. Казалось, леденящий покой гробницы изошел от земли и распростерся под небом.
Какое-то красноватое зарево, однако, вырисовывало на этом черном фоне высокие кровли домов, заграждавших улицу Шанврери со стороны церкви Сент-Эсташ. То был отблеск факела, горевшего на баррикаде «Коринфа». Мариус двинулся по направлению к этому зареву. Оно привело его к Свекольному рынку, и Мариус разглядел мрачное устье улицы Проповедников. Он вошел туда. Сторожевой пост повстанцев, карауливший на другом конце, не заметил его. Он чувствовал близость того, что искал, и шел, легко и бесшумно ступая. Так он добрался до крутого поворота улочки Мондетур, короткий отрезок которой, как помнит читатель, служил единственным средством сообщения с внешним миром, которое сохранил Анжольрас. Выглянув из-за угла последнего дома с левой стороны, Мариус осмотрел отрезок переулка Мондетур.
Немного подальше от черного угла этого переулка и улицы Шанврери, отбрасывающего широкое полотнище тени туда, где он схоронился, он увидел тусклый блик на мостовой, смутно различил кабачок, а за ним мигавшую плошку, которая стояла на какой-то бесформенной стене, и людей, прикорнувших с ружьями на коленях. Все это находилось туазах в десяти от него. То была внутренняя часть баррикады.
Дома, окаймлявшие улочку справа, скрывали от него остальную часть кабачка, большую баррикаду и знамя.
Мариусу оставалось сделать только один шаг.
Тогда несчастный юноша присел на тумбу, скрестил руки и стал думать о своем отце.
Он думал о героическом полковнике Понмерси, об отважном солдате, который при Республике охранял границы Франции, а при императоре достиг границ Азии, который видел Геную, Александрию, Милан, Турин, Мадрид, Вену, Дрезден, Берлин, Москву, который проливал свою кровь на всех бранных полях Европы – ту же кровь, что текла в жилах Мариуса, – и поседел раньше времени, подчиняясь сам и подчиняя других жесткой дисциплине; который прожил жизнь в мундире, с застегнутой портупеей, с густой, свисающей на грудь бахромой эполет, с почерневшей от пороха кокардой, с каской, давящей на лоб, в полевых бараках, в лагерях, на биваках, в госпиталях и который после двадцати лет великих войн вернулся с рубцами на лице, улыбающийся, простой, спокойный, ясный и чистый, как дитя, все сделав для Франции и ничего против нее.
Мариус говорил себе, что и его день настал, и его час, наконец, пробил, что по примеру отца он также должен быть смелым, неустрашимым, отважным, должен идти навстречу пулям, подставлять свою грудь под штыки, проливать свою кровь, искать врага, искать смерти, что и он, в свою очередь, будет воевать и выйдет на поле битвы, что это поле битвы – улица, а эта война – гражданская война.
Он увидел гражданскую войну, разверзшуюся перед ним, подобно пропасти, и в эту пропасть ему предстояло ринуться.
Тогда он содрогнулся.
Он вспомнил отцовскую шпагу, которую его дед продал старьевщику и о которой он так горько сожалел. Он говорил себе, что она правильно поступила, эта доблестная и незапятнанная шпага, ускользнув от него и гневно уйдя во мрак; что, если она так бежала, значит, она была одарена разумом и предвидела будущее, значит, она предчувствовала мятеж, войну в сточных канавах, уличную войну, стрельбу через отдушины погребов, удары, наносимые и получаемые в спину; что она, эта шпага, вернувшаяся с полей Маренго и Фридланда, не хотела идти на улицу Шанврери и после подвигов, свершенных с отцом, иного свершать с сыном не желала! Он говорил себе, что если бы эта шпага была с ним, если бы, приняв ее у изголовья умершего отца, он осмелился бы взять ее и принести с собой на это ночное сражение французов с французами на уличном перекрестке, она, наверное, обожгла бы ему руки и запылала перед ним, как меч архангела! Какое счастье, говорил он себе, что она исчезла. Как это хорошо, как справедливо! Какое счастье, что дед его оказался подлинным хранителем славы отца: ведь лучше шпаге полковника быть проданной с молотка, достаться старьевщику, быть брошенной в железный лом, чем обагрять сегодня кровью грудь отечества.
И он горько заплакал.
Это было ужасно. Но что же делать? Жить без Козетты он не мог. Раз она уехала, остается только умереть. Ведь он поклялся ей, что умрет! Она уехала, зная об этом, значит, она хочет, чтобы он умер. Ясно, что она его больше не любит, если исчезла, даже не уведомив его, не сказав ни слова, не послав письма, хотя знала его адрес! Ради чего и зачем теперь жить? И потом, как же это? Прийти сюда и отступить! Приблизиться к опасности и бежать! Увидеть баррикаду и улизнуть! Улизнуть, дрожа от страха и думая про себя: «Довольно, с меня хватит, я видел, и этого достаточно; это гражданская война, я ухожу!» Покинуть друзей, которые его ожидают, которые, быть может, в нем нуждаются! Эту горсточку, противостоявшую целой армии! Изменить всему сразу: любви, дружбе, слову! Оправдать свою трусость патриотизмом! Но это было невозможно. Если бы призрак отца появился здесь, во мраке, и увидел, что сын отступил, то отстегал бы его ножнами шпаги и крикнул бы ему: «Иди же, трус!».
Раздираемый противоречивыми мыслями, Мариус опустил голову.
Но вдруг он снова поднял ее. Нечто вроде торжественного просветления свершилось в его уме. Близость могилы расширяет горизонт мысли; когда стоишь перед лицом смерти, глазам открывается истина. Видение битвы, в которую он чувствовал себя готовым вступить, предстало перед ним, но уже не жалким, а величественным. Благодаря какой-то неведомой внутренней работе души уличная война внезапно преобразилась перед его умственным взором. Все неразрешимые вопросы, осаждавшие его во время раздумья, снова вернулись к нему беспорядочной толпой, но не смущали его более. На каждый из них был теперь ответ.
Рассудим, почему отец мог возмутиться? Разве не бывает случаев, когда восстание возвышается до степени исполняемого долга? В какой же мере для сына полковника Понмерси могло быть унизительным завязывающееся сражение? Это не Монмирайль, ни Шампобер, это нечто другое. Борьба идет не за священную землю отчизны, но за святую идею. Родина скорбит, пусть так; зато человечество приветствует восстание. Впрочем, действительно ли родина скорбит? Франция истекает кровью, но свобода радуется; а если свобода радуется, Франция забывает о своей ране. И затем, если смотреть на вещи шире, то что можно сказать о гражданской войне?
Гражданская война! Что это значит? Разве есть война с иноземцами? Разве всякая война между людьми – не война между братьями? Война определяется лишь ее целью. Нет ни войн с иноземцами, ни войн гражданских; есть только война несправедливая и война справедливая. До того дня, когда будет заключено великое человеческое соглашение, война, по крайней мере та, которая является порывом спешащего будущего против мешкотного прошлого, может быть необходимой. В чем могут упрекнуть такую войну? Война становится постыдной, а шпага становится кинжалом убийцы только тогда, когда она наносит смертельный удар праву, прогрессу, разуму, цивилизации, истине. В этом случае война, – будь она гражданской или против иноземцев, – равно несправедлива, и имя ее – преступление. Помимо этого священного условия – справедливости, по какому праву одна форма войны будет презирать другую? По какому праву шпага Вашингтона может служить отрицанием пики Камилла Демулена? Леонид против иноземца, Тимолеон против тирана, – который из них более велик? Один защитник, другой освободитель. Возможно ли клеймить позором всякое вооруженное выступление внутри государства, не задаваясь вопросом о его цели? В таком случае наложите печать бесчестья на Брута, Марселя, Арну де Бланкенгейма, Колиньи. Партизанская война? Уличная война? Почему же нет? Ведь такова война Амбиорикса, Артевелде, Марникса, Пелагия. Но Амбиорикс боролся против Рима, Артевелде – против Франции, Марникс – против Испании, Пелагий – против мавров; все – против внешнего врага. Так вот, монархия – это и есть внешний враг; угнетение – внешний враг; «священное право» – внешний враг. Деспотизм нарушает моральные границы, подобно тому как вторжение врага нарушает границы географические. Изгнать тирана или изгнать англичан – это в обоих случаях значит: освободить свою территорию. Наступает час, когда недостаточно только возражать; за философией должно следовать действие; живая сила заканчивает то, что наметила идея. «Скованный Прометей» начинает, Аристогитон заканчивает. «Энциклопедия» просвещает души, 10 августа их воспламеняет. После Эсхила – Фразибул; после Дидро – Дантон. Народ стремится найти руководителя. В массе он сбрасывает с себя апатию. Толпу легко сплотить в повиновении. Людей нужно расшевеливать, расталкивать, не давать покоя ради самого блага их освобождения, нужно колоть им глаза правдой, метать в них грозный свет полными пригоршнями. Нужно, чтобы они сами были слегка поражены собственным спасением; этот ослепительный свет пробуждает их. Отсюда необходимость набатов и битв. Нужно подняться великим воинам, озарить народы дерзновением и встряхнуть это несчастное человечество, над которым нависает мрак священного права, цезаристской славы, грубой силы, фанатизма, безответственной власти и самодержавных величеств; встряхнуть это скопище, тупо созерцающее мрачное торжество ночи во всем его сумеречном великолепии. Долой тирана! Как? О ком вы говорите? Вы называете Луи-Филиппа тираном? Нет, не больше, чем Людовика XVI. Оба они из тех, кого история обычно называет «добрыми королями»; но принципы не дробятся, логика истины прямолинейна, а свойство истины не оказывать снисхождения; стало быть, никаких уступок; всякое нарушение человеческих прав должно быть пресечено, Людовик XVI воплощает «священное право», Луи-Филипп тоже, потому что он Бурбон; оба в известной мере олицетворяют захват права, и, чтобы устранить всемирно распространенную узурпацию права, до́лжно с ними сразиться; так нужно, потому что всегда начинала именно Франция. Когда во Франции ниспровергается властелин, он ниспровергается всюду. Словом, вновь утвердить социальную правду, вернуть свободе ее престол, вернуть народ народу, вернуть человеку верховную власть, вновь возложить красный убор на голову Франции, восстановить разум и справедливость во всей их полноте, подавить всякий зародыш враждебности, возвратив каждого самому себе, уничтожить препятствие, которое королевская власть ставит всеобщему величайшему согласию, вновь поднять человечество на один уровень с правом, – какое дело может быть более справедливым и, следовательно, какая война более великой? Такие войны созидают мир. Огромная крепость предрассудков, привилегий, суеверий, лжи, лихоимства, злоупотреблений, насилий, несправедливостей и мрака все еще возвышается над миром со своими башнями ненависти. Нужно ее ниспровергнуть. Нужно обрушить эту чудовищную громаду. Победить при Аустерлице – великий подвиг; взять Бастилию – величайший.
Нет человека, который не заметил бы по собственному опыту, что душа – и в этом чудо ее единства, сопряженного с вездесущностью, – обладает странной способностью рассуждать почти хладнокровно при самых крайних обстоятельствах, и нередко безутешное любовное горе, глубочайшее отчаяние в самых мучительных, в самых мрачных своих монологах обсуждают и оспаривают те или иные положения. К буре чувств примешивается логика, и нить силлогизма вьется, не разрываясь, в скорбном неистовстве мысли. Именно в таком состоянии и находился Мариус.
Размышляя подобным образом, изнеможенный, то полный решимости, то колеблясь и в конечном счете трепеща перед тем, что он собирался сделать, Мариус окидывал блуждающим взором внутреннюю часть баррикады. Там вполголоса разговаривали не покидавшие своих мест повстанцы, и чувствовалось то обманчивое спокойствие, которое знаменует собою последнюю фазу ожидания. Над ними, в слуховом окне третьего этажа, Мариус различал какого-то зрителя или наблюдателя, казавшегося ему как-то по-особому внимательным. То был убитый Кабюком привратник. В отблесках факела, скрытого в груде булыжника, снизу едва можно было разглядеть его голову. Ничто не могло быть более необычным, чем это озаряемое колеблющимся мрачным светом иссиня-бледное, неподвижное, удивленное лицо под вставшими дыбом волосами, с открытыми и застывшими глазами и разинутым ртом, словно из любопытства наклонившееся над улицей. Можно было подумать, что тот, кто умер, всматривается в тех, кому предстоит умереть. От оконца красноватыми струйками спускалась вниз длинная кровяная дорожка, обрываясь на втором этаже.
Книга четырнадцатая. Величие отчаяния.
Глава 1. Знамя. Действие первое.
Все еще никто не появлялся. На Сен-Мерри пробило десять часов. Анжольрас и Комбефер уселись с карабинами в руках возле прохода, оставленного в большой баррикаде. Они сидели молча и прислушивались, стараясь уловить хотя бы даже самый глухой, самый отдаленный шум шагов.
Внезапно в этой зловещей тишине раздался звонкий молодой, веселый голос, казалось доносившийся с улицы Сен-Дени, и отчетливо, на мотив старой народной песенки «При свете луны», зазвучали стишки, кончавшиеся возгласом, подобным крику петуха:
Они сжали друг другу руки.
– Это Гаврош, – сказал Анжольрас.
– Он нас предупреждает, – добавил Комбефер.
Стремительный бег нарушил тишину пустынной улицы, какое-то существо, более проворное, чем клоун, перелезло через омнибус, и запыхавшийся Гаврош спрыгнул внутрь баррикады, воскликнув:
– Где мое ружье? Они идут!
Электрический ток пробежал по всей баррикаде, послышался шорох рук, нащупывающих ружья.
– Хочешь взять мой карабин? – спросил мальчика Анжольрас.
– Я хочу большое ружье, – ответил Гаврош.
И он взял ружье Жавера.
Двое часовых оставили свои посты и вернулись на баррикаду почти одновременно с Гаврошем. Один – стоявший на посту в конце улицы, другой – дозорный с Малой Бродяжной. Дозорный из переулка Проповедников остался на своем месте, – очевидно, со стороны мостов и рынков никто не появлялся.
Пролет улицы Шанврери, где при отблесках света, падавшего на знамя, лишь кое-где с трудом можно было различить булыжник мостовой, казался повстанцам какими-то огромными черными воротами, смутно зиявшими в тумане.
Каждый занял свое боевое место.
Сорок три повстанца, среди них Анжольрас, Комбефер, Курфейрак, Боссюэ, Жоли, Баорель и Гаврош, стояли на коленях внутри большой баррикады, держа головы на уровне ее гребня, с ружьями и карабинами, наведенными на мостовую словно из бойниц, настороженные, безмолвные, готовые открыть огонь. Шесть повстанцев под командой Фейи, с ружьями на прицеле, стояли в окнах обоих этажей «Коринфа».
Прошло еще несколько мгновений, затем гул размеренных, грузных шагов ясно послышался со стороны Сен-Ле. Этот гул, сначала слабый, затем более отчетливый, затем тяжелый и звучный, медленно приближался, нарастая безостановочно, беспрерывно, с каким-то грозным спокойствием. Ничего, кроме этого шума, не было слышно. То было и молчание, и гул движущейся статуи Командора, но этот каменный шаг заключал в себе что-то огромное и множественное, вызывающее представление о какой-то толпе и в то же время о призраке. Можно было подумать, что это шаг страшной статуи, чье имя Легион. Шаги приближались; они приблизились еще и остановились. Казалось, с конца улицы доносится дыхание большого скопища людей. Однако там ничего нельзя было рассмотреть, только в самой глубине этой густой тьмы мерцало множество металлических нитей, тонких, как иглы, и почти незаметных, мелькавших наподобие тех фосфорических, не поддающихся описанию сетчатых сплетений, которые возникают в дремоте, под сомкнутыми веками, в первом тумане сна. То были стволы и штыки ружей, неясно освещенные далеким отблеском факела.
Опять настало молчание, точно обе стороны чего-то выжидали. Внезапно из глубины мрака чей-то голос, особенно зловещий потому, что никого не было видно, – казалось, заговорила сама тьма, – крикнул:
– Кто идет?
В то же время послышалось звяканье опускаемых ружей.
– Французская революция, – взволнованно и гордо ответил Анжольрас.
– Огонь! – скомандовал голос.
Вспышка молнии озарила багровым светом все фасады домов, как если бы вдруг растворилась и сразу захлопнулась дверца пылавшей печи.
Ужасающий грохот пронесся над баррикадой. Красное знамя упало. Залп был такой неистовый и такой плотный, что срезал древко, то есть верхушку поставленного стоймя дышла омнибуса. Пули, отскочившие от карнизов домов, попали внутрь баррикады и ранили нескольких человек. Этот первый залп произвел жуткое впечатление. Атака оказалась жестокой и заставила задуматься самых бесстрашных. Было очевидно, что повстанцы имеют дело по меньшей мере с целым полком.
– Товарищи, – крикнул Курфейрак, – не будем зря тратить порох. Подождем отвечать, пока они не продвинутся дальше по улице.
– И прежде всего, – сказал Анжольрас, – поднимем снова знамя!
Он подобрал знамя, упавшее прямо к его ногам. За баррикадой слышался стук шомполов в стволах; отряд снова заряжал ружья.
– У кого из вас хватит отваги? – продолжал Анжольрас. – Кто водрузит знамя над баррикадой?
Никто не ответил. Взойти на баррикаду, когда вся она, без сомнения, опять была взята на прицел, – попросту значило умереть. Самому мужественному человеку трудно решиться вынести себе смертный приговор. Даже Анжольрас содрогнулся. Он повторил:
– Никто не возьмется?
Глава 2. Знамя. Действие второе.
Стех пор как повстанцы дошли до «Коринфа» и начали строить баррикаду, никто больше не обращал внимания на дедушку Мабефа. Однако г-н Мабеф не покинул отряда. Он вошел в первый этаж кабачка и уселся позади стойки. Там он как бы целиком погрузился в самого себя. Казалось, он ни на что не смотрит, ни о чем не думает. Курфейрак и другие несколько раз подходили к нему, предупреждая об опасности и предлагая ему удалиться, но, по-видимому, он их не слышал. Когда его оставляли в покое, его губы шевелились, словно он беседовал с кем-то, но стоило заговорить с ним, как его губы смыкались, а глаза потухали. За несколько часов до того, как баррикада была атакована, он принял позу, которую ни разу с тех пор не изменил. Его сжатые в кулаки руки лежали на коленях, голова наклонилась вперед, словно он заглядывал в пропасть. Ничто не могло вывести его из этого положения; казалось, мысль его витает далеко от баррикады. Когда каждый отправился к своему боевому посту, в нижней зале не осталось никого, кроме привязанного к столбу Жавера, караулившего его повстанца с обнаженной саблей и Мабефа. Во время атаки, при залпе, он почувствовал сотрясение воздуха, и это как бы пробудило его; он вдруг поднялся, прошел через залу, и как раз в то мгновение, когда Анжольрас повторил свой вопрос: «Никто не возьмется?» – старик появился на пороге кабачка.
Его появление глубоко взволновало повстанцев. Послышались крики:
– Это тот, кто голосовал за казнь короля! Член Конвента! Представитель народа!
Возможно, г-н Мабеф не слышал этого.
Он направился прямо к Анжольрасу, – повстанцы расступились перед ним с каким-то благоговейным страхом, – вырвал знамя у Анжольраса, который, попятившись назад, окаменел от изумления, затем этот восьмидесятилетний старец, с трясущейся головой, начал твердым шагом медленно всходить по лесенке из булыжника, устроенной на баррикаде; никто не осмелился ни остановить его, ни предложить ему помощь. Это было столь мрачно и столь величественно, что все вокруг вскричали: «Шапки долой!» То было страшное зрелище! С каждой следующей ступенькой эти седые волосы, старческое лицо, огромный облысевший и морщинистый лоб, эти впалые глаза, полуоткрытый от удивления рот, дряхлая рука, поднимавшая красный стяг, выступали из тьмы, вырастая в кровавом свете факелов, и чудилось, что призрак Девяносто третьего года вышел из-под земли со знаменем террора в руках.
Когда он достиг верхней ступеньки, когда это дрожащее и грозное привидение, стоя на груде обломков против тысячи двухсот невидимых ружей, выпрямилось перед лицом смерти, словно было сильнее ее, вся баррикада приняла во мраке сверхъестественный, грандиозный вид.
Наступило молчание, какое бывает только при лицезрении чуда.
Среди этого молчания старик взмахнул красным знаменем и крикнул:
– Да здравствует Революция! Да здравствует Республика! Братство! Равенство! И смерть!
На баррикаде услышали быстрый и тихий говорок, похожий на шепот торопящегося закончить молитву священника. Вероятно, то был полицейский пристав, который с другого конца улицы предъявлял именем закона требование «разойтись».
Затем тот же громкий голос, что спрашивал: «Кто идет?» – крикнул:
– Уходите прочь!
Господин Мабеф, мертвенно-бледный, исступленный, со зловещими огоньками безумия в глазах, поднял знамя над головой и повторил:
– Да здравствует Республика!
– Огонь! – скомандовал голос.
Второй залп, подобный урагану картечи, обрушился на баррикаду.
У старика подогнулись колени, затем он снова выпрямился, уронил знамя и упал, как доска, навзничь, на мостовую, вытянувшись во весь рост и раскинув руки.
Ручейки крови побежали из-под него. Старческое бледное и печальное лицо было обращено к небу.
Одно из тех чувств, над которыми не властен человек и которые заставляют забыть даже об опасности, охватило повстанцев, и они с почтительным страхом приблизились к трупу.
– Что за люди эти цареубийцы! – воскликнул Анжольрас.
Курфейрак прошептал ему на ухо:
– Скажу только одному тебе, я не хочу охлаждать восторг. Да он меньше всего цареубийца. Я был с ним знаком. Его звали дедушка Мабеф. Не знаю, что с ним случилось сегодня, но этот скудоумный оказался храбрецом. Ты только взгляни на его лицо.
– Голова скудоумного, а сердце Брута, – ответил Анжольрас.
Затем он повысил голос:
– Граждане! Вот пример, который старики подают молодым. Мы колебались, а он решился. Мы отступили перед опасностью, а он пошел ей навстречу! Вот чему те, кто трясется от старости, учат тех, кто трясется от страха! Этот старец исполнен величия перед лицом родины. Он долго жил и со славою умер! А теперь укроем в доме этот труп, пусть каждый из нас защищает этого мертвого старика, как защищал бы своего живого отца, и пусть его присутствие среди нас сделает баррикаду непобедимой!
Гул угрюмых и решительных голосов, выражающий согласие, последовал за этими словами.
Анжольрас наклонился, приподнял голову старика и, по-прежнему суровый, поцеловал его в лоб, затем, отведя назад его руки и с нежной осторожностью касаясь мертвеца, словно боясь причинить ему боль, он снял с него сюртук, показал всем окровавленные дыры и сказал:
– Отныне вот наше знамя.
Глава 3. Гаврош сделал бы лучше, если бы согласился взять карабин Анжольраса.
Дедушку Мабефа покрыли длинной черной шалью вдовы Гюшлу. Шесть человек сделали из своих ружей носилки, положили на них тело и, обнажив головы, ступая с торжественной медлительностью, отнесли его на большой стол в нижней зале.
Эти люди, целиком занятые тем священным и важным, что они делали, больше не думали о грозившей им опасности.
Когда труп проносили мимо Жавера, хранившего свою невозмутимость, Анжольрас сказал шпиону:
– Скоро и тебя!
В это время Гаврошу, единственному, кто не покинул своего поста и остался в дозоре, показалось, что какие-то люди тихонько подкрадываются к баррикаде. Он тотчас закричал:
– Берегись!
Курфейрак, Анжольрас, Жан Прувер, Комбефер, Жоли, Баорель, Боссюэ беспорядочной гурьбой выбежали из кабачка. Уже почти не оставалось времени. Они увидели густое поблескивание штыков, колыхавшихся над баррикадой. Рослые солдаты муниципальной гвардии, одни, перелезая через омнибус, другие, воспользовавшись проходом, пробрались внутрь, оттесняя мальчика, который хотя и отступал назад, но не бежал.
Мгновение было решительным. То была первая опасная минута наводнения, когда река поднимается в уровень с насыпью и вода начинает просачиваться сквозь щели в плотине. Еще секунда, и баррикада была бы взята.
Баорель бросился на первого появившегося гвардейца и убил его выстрелом в упор; второй заколол Баореля ударом штыка. Третий уже опрокинул наземь Курфейрака, кричавшего: «Ко мне!» Самый высокий из всех, настоящий великан, шел на Гавроша, выставив вперед штык. Мальчуган поднял своими ручонками огромное ружье Жавера, решительно нацелился в гиганта и спустил курок. Выстрела не последовало. Жавер не зарядил ружья. Гвардеец расхохотался и занес над ребенком штык.
Прежде чем штык коснулся Гавроша, ружье вывалилось из рук солдата: чья-то пуля ударила его прямо в лоб, и он упал на спину. Вторая пуля ударила в самую грудь гвардейца, напавшего на Курфейрака, и свалила его на мостовую.
То был Мариус, только что появившийся на баррикаде.
Глава 4. Бочонок с порохом.
Скрываясь за поворотом улицы Мондетур, Мариус, охваченный трепетом и сомнением, присутствовал при начале боя. Однако он не мог долго противиться тому таинственному и неодолимому безумию, которое можно было бы назвать призывом бездны. Безмерная опасность, смерть г-на Мабефа – эта скорбная загадка, убитый Баорель, крик Курфейрака: «Ко мне!», ребенок на краю гибели, друзья, взывавшие о помощи или отмщении, – все это сразу рассеяло его нерешительность, и он с пистолетами в руках бросился в свалку. Первым выстрелом он спас Гавроша, вторым освободил Курфейрака.
Под грохот выстрелов и крики раненых гвардейцев осаждающие взобрались на укрепление, на гребне которого теперь по пояс виднелись фигуры смешавшихся в одну толпу муниципальных гвардейцев, кадровых солдат и национальных гвардейцев предместья, с ружьями наготове. Они занимали уже более двух третей заграждения, но не прыгали внутрь баррикады, точно колебались, боясь какой-то ловушки. Они смотрели вниз в темноту, словно в львиное логово. Свет факела озарял только их штыки, меховые шапки и беспокойные, раздраженные лица.
У Мариуса не было больше оружия, он бросил свои разряженные пистолеты, но в нижней зале, возле дверей, он заметил бочонок с порохом.
Когда, полуобернувшись, он смотрел в ту сторону, какой-то солдат стал в него целиться. Солдат уже взял его на мушку, как вдруг чья-то рука схватила конец дула и закрыла его. Это был бросившийся вперед молодой рабочий в плисовых штанах. Раздался выстрел, пуля пробила руку и, быть может, грудь рабочего, потому что он упал, – но не задела Мариуса. Все это, казалось, скорее могло померещиться в дыму, чем произойти в действительности. Мариус, входивший в нижнюю залу, едва заметил это. Однако он смутно видел направленный на него ствол ружья, руку, закрывшую дуло, и слышал выстрел. Но в такие минуты все, что видит человек, мелькает перед ним, несется, и он ни на чем не останавливает внимания. Он лишь неясно чувствует, что этот вихрь увлекает его к еще большему мраку и все вокруг него в тумане.
Повстанцы, захваченные врасплох, но не устрашенные, вновь стянули свои силы. Анжольрас крикнул: «Подождите! Не стреляйте наугад!» Действительно, в первые минуты замешательства они могли ранить друга друга. Большинство повстанцев поднялось во второй этаж и в чердачные помещения, оттуда они могли из окон обстреливать осаждающих. Самые решительные, в их числе Анжольрас, Курфейрак, Жан Прувер и Комбефер, открыто отошли к домам, поднимавшимся позади кабачка, и гордо встали лицом к лицу с солдатами и гвардейцами, занявшими гребень баррикады.
Все это было сделано неторопливо, с той особенной грозной серьезностью, которая предшествует рукопашной схватке. Противники целились друг в друга в упор на таком близком расстоянии, что могли переговариваться. Достаточно было одной искры, чтобы вспыхнуло пламя. Офицер, в металлическом нагруднике и густых эполетах, протянул шпагу вперед и крикнул:
– Сдавайтесь!
– Огонь! – ответил Анжольрас.
Оба залпа раздались одновременно, и все исчезло в дыму.
Дым был едкий и удушливый, и в нем, слабо и глухо стеная, ползли раненые и умирающие.
Когда дым рассеялся, стало видно, как поредели ряды противников по обе стороны баррикады, но, оставаясь на своих местах, они молча заряжали ружья.
Внезапно послышался громовой голос:
– Убирайтесь прочь, или я взорву баррикаду!
Все обернулись в ту сторону, откуда раздавался голос. Мариус, войдя в нижнюю залу, взял там бочонок пороха, затем, воспользовавшись дымом и туманной мглой, застилавшими все огражденное пространство, проскользнул вдоль баррикады до той каменной клетки, где был укреплен факел. Вырвать факел, поставить на его место бочонок с порохом, подтолкнуть под него кучу булыжника, причем дно бочонка с какой-то страшной податливостью тотчас же продавилось, – все это отняло у Мариуса столько времени, сколько требуется для того, чтобы наклониться и снова выпрямиться; и теперь все – национальные гвардейцы, гвардейцы муниципальные, офицеры, солдаты, столпившиеся на другом конце баррикады, остолбенев от ужаса, смотрели, как он, встав на булыжники с факелом в руке, гордый, одушевленный роковым своим решением, наклонял пламя факела к этой страшной груде, где виднелся разбитый бочонок с порохом, и грозно воскликнул:
– Убирайтесь прочь, или я взорву баррикаду!
Мариус, заступивший на этой баррикаде место восьмидесятилетнего старца, казался видением юной революции после призрака старой.
– Взорвешь баррикаду? – воскликнул какой-то сержант. – Значит, и себя вместе с ней!
Мариус ответил:
– И себя вместе с ней!
И он приблизил факел к бочонку с порохом.
Но на баррикаде уже никого не было. Нападавшие, бросив своих убитых и раненых, отхлынули беспорядочной толпой к другому концу улицы и снова исчезли в ночи. Это было настоящее паническое бегство.
Баррикада была освобождена.
Глава 5. Конец стихам Жана Прувера.
Все окружили Мариуса. Курфейрак бросился ему на шею.
– Ты здесь?
– Какое счастье! – воскликнул Комбефер.
– Ты пришел кстати! – сказал Боссюэ.
– Без тебя меня бы уже не было на свете! – вставил Курфейрак.
– Без вас меня бы ухлопали! – прибавил Гаврош.
Мариус спросил:
– Кто тут начальник?
– Ты, – ответил Анжольрас.
Весь этот день мозг Мариуса был подобен пылающему горнилу, теперь же его мысли превратились в вихрь. Этот вихрь, заключенный в нем самом, казалось ему, бушует вокруг и уносит его с собой. Ему представлялось, что он уже отдалился от жизни на бесконечное расстояние. Два светлых месяца радости и любви, внезапно оборвавшиеся у этой ужасной пропасти, потерянная для него Козетта, эта баррикада, г-н Мабеф, принявший смерть за Республику, он сам во главе повстанцев – все это казалось ему чудовищным кошмаром. Он должен был напрячь весь свой разум и память, чтобы все, происходившее вокруг, стало для него действительностью. Мариус слишком мало жил, он еще не познал, что нет ничего неотвратимее, чем невозможное, и что должно всегда предвидеть непредвиденное. Словно непонятная для зрителя пьеса, пред ним развертывалась драма его собственной жизни.
В тумане, заволакивавшем его мысль, он не узнал привязанного к столбу Жавера, который не повернул головы во время штурма баррикады и смотрел на разгоравшееся вокруг него восстание с покорностью жертвы и величием судьи. Мариус даже не заметил его.
Между тем нападавшие больше не появлялись; слышно было, как они топчутся и копошатся в конце улицы, однако они не отваживались снова обрушиться на этот неприступный редут, ожидая, быть может, приказа, быть может, подкрепления. Повстанцы выставили часовых; некоторые, студенты медицинского факультета, принялись перевязывать раненых.
Из кабачка выставили все столы, за исключением двух, оставленных для корпии и патронов, и стола, на котором лежал дедушка Мабеф; вынесенные столы добавили к баррикаде, а в нижней зале заменили их тюфяками вдовы Гюшлу и служанок. На эти тюфяки положили раненых. Что касается трех бедных созданий, живших в «Коринфе», то было неизвестно, что с ними сталось. Однако впоследствии их нашли спрятавшимися в погребе.
Горестное событие омрачило радость освобожденной баррикады.
Когда сделали перекличку, одного из повстанцев не оказалось. И кого же? Одного из самых любимых, самых мужественных – Жана Прувера. Поискали среди раненых – его не было. Поискали среди убитых – его не было. Очевидно, он попал в плен.
Комбефер сказал Анжольрасу:
– Они взяли в плен нашего друга; зато у нас их агент. Тебе очень нужна смерть этого сыщика?
– Да, – ответил Анжольрас, – но меньше, чем жизнь Жана Прувера.
Все это происходило в нижней зале возле столба Жавера.
– Отлично, – ответил Комбефер, – я привяжу носовой платок к моей трости и пойду в качестве парламентера предложить им обмен пленными.
– Слушай, – сказал Анжольрас, положив руку на плечо Комбефера.
В конце улицы раздалось многозначительное бряцание оружия.
Послышался мужественный голос, крикнувший:
– Да здравствует Франция! Да здравствует будущее!
То был голос Прувера. Мелькнула молния, и грянул залп. Снова наступила тишина.
– Они его убили! – воскликнул Комбефер.
Анжольрас взглянул на Жавера и сказал:
– Твои друзья сами тебя расстреляли.
Глава 6. Томление смерти после томления жизни.
Особенность войны этого рода в том, что баррикады почти всегда атакуются в лоб, и нападающие, как правило, воздерживаются от обхода, быть может опасаясь засады или боясь углубляться далеко в извилистые улицы. Поэтому-то все внимание повстанцев было направлено на большую баррикаду, которая, очевидно, являлась наиболее угрожаемым местом, где неминуемо должна была снова начаться схватка. Мариус все же подумал о маленькой баррикаде и пошел туда. Она была пустынна и охранялась только плошкой, мигавшей среди булыжников. Впрочем, в переулке Мондетур и на перекрестках Малой Бродяжной и Лебяжьей улиц было совершенно спокойно.
Когда Мариус, произведя осмотр, возвращался обратно, он услышал, как в темноте кто-то тихо позвал его:
– Господин Мариус!
Он вздрогнул, узнав голос, окликнувший его два часа тому назад сквозь решетку на улице Плюме.
Но теперь этот голос казался лишь вздохом.
Он оглянулся и никого не заметил.
Мариус решил, что ослышался, что это был обман чувств, добавленный воображением к тем необыкновенным событиям, которые совершались вокруг. И он сделал еще шаг, желая выйти из того закоулка, где находилась баррикада.
– Господин Мариус! – повторил голос.
На этот раз сомнения не было, Мариус ясно слышал голос; он снова осмотрелся и никого не увидел.
– Я здесь, у ваших ног, – сказал голос.
Он нагнулся и увидел во мраке очертания какого-то живого существа. Оно тянулось к нему. Оно ползло по мостовой. Именно оно и обращалось к нему.
Свет плошки позволял разглядеть блузу, порванные панталоны из грубого плиса, босые ноги и что-то похожее на лужу крови. Мариус различил бледное, поднятое к нему лицо и услышал слова:
– Вы меня не узнаете?
– Нет.
– Эпонина.
Мариус быстро наклонился. Действительно, перед ним была эта несчастная девочка. Она была одета в мужское платье.
– Как вы очутились здесь? Что вы тут делаете?
– Я умираю, – сказала она.
Есть слова и события, пробуждающие людей, подавленных горем. Мариус воскликнул, как бы внезапно проснувшись:
– Вы ранены! Подождите, я отнесу вас в дом. Там вас перевяжут. Вас тяжело ранили? Как мне поднять вас, чтобы не сделать вам больно? Где у вас болит? Боже мой! Помогите! И зачем вы сюда пришли?
Он попытался подсунуть под нее руку, чтобы поднять ее с земли.
При этом он задел ее кисть.
Эпонина слабо вскрикнула.
– Я сделал вам больно? – спросил Мариус.
– Чуть-чуть.
– Но я дотронулся только до вашей руки.
Она подняла руку, и Мариус увидел посреди ладони темное отверстие.
– Что с вашей рукой? – спросил он.
– Она пробита!
– Пробита?
– Да.
– Чем?
– Пулей.
– Каким образом?
– Вы видели наведенное на вас ружье?
– Да, и руку, закрывшую дуло.
– То была моя рука.
Мариус содрогнулся.
– Какое безумие! Бедное дитя! Но тем лучше, если так; это пустяки. Дайте мне отнести вас на постель. Вам сделают перевязку, от простреленной руки не умирают.
Она прошептала:
– Пуля прострелила руку, но вышла через спину. Не стоит брать меня отсюда! Я скажу вам сейчас, как мне помочь намного лучше, чем это сделает доктор. Сядьте возле меня на этот камень.
Он повиновался; она положила голову к нему на колени и, не глядя на него, сказала:
– О, как хорошо! Как мне приятно! Вот и небольно! – Помолчав с минуту, она с усилием подняла голову и взглянула на Мариуса: – Знаете, господин Мариус? Меня злило, что вы ходите в тот сад, – это глупо, потому что я сама показала вам дом, и, кроме того, я должна была понимать, что такой молодой человек, как вы…
Она остановилась и, отгоняя какие-то мрачные мысли, видимо промелькнувшие в ее уме, снова заговорила с раздирающей душу улыбкой:
– Я казалась вам некрасивой, правда? Вот что, – продолжала она, – вы погибли! Теперь никому не уйти с баррикады. Ведь это я привела вас сюда. Вы скоро умрете; я на это и рассчитывала. И все-таки, когда я увидела, что в вас целятся, я закрыла рукой дуло ружья. Как чудно́! А это потому, что я хотела умереть раньше вас. Когда в меня попала пуля, я притащилась сюда, меня не видели, не подобрали. Я ожидала вас, я думала: «Неужели он не придет?» Ах, если бы вы знали! Я от боли рвала зубами блузу, я так страдала! А теперь мне хорошо. Помните тот день, когда я вошла в вашу комнату и когда я смотрелась в ваше зеркало, и тот день, когда я вас встретила на бульваре возле прачек? Как распевали там птицы! Это было совсем недавно. Вы мне дали сто су, я вам сказала: «Не нужны мне ваши деньги». Подняли вы по крайней мере монету? Вы ведь небогаты. Я не догадалась сказать вам, чтобы вы ее подняли. Солнце ярко светило, было тепло. Помните, господин Мариус? О, как я счастлива! Все, все скоро умрут.
У нее было безумное и серьезное выражение лица, раздирающее душу. Сквозь разорванную блузу виднелась ее обнаженная грудь. Разговаривая, она прижимала к ней простреленную руку, – там, где было другое отверстие, из которого порой выбивалась струйка крови, как вино из бочки с вынутой втулкой.
Мариус с глубоким состраданием смотрел на эту несчастную девушку.
– Ох, – внезапно простонала она, – опять! Я задыхаюсь!
Она вцепилась зубами в блузу, и ноги ее вытянулись на мостовой.
В этот момент на баррикаде раздался резкий петушиный голос маленького Гавроша. Мальчик, собираясь зарядить ружье, влез на стол и весело распевал популярную в то время песенку:
Эпонина приподнялась, прислушалась, потом прошептала:
– Это он. – И, повернувшись к Мариусу, добавила: – Там мой брат. Не надо, чтобы он меня видел. Он будет меня ругать.
– Ваш брат? – спросил Мариус, с горечью и болью в сердце думая о своем долге семейству Тенардье, который завещал ему отец. – Кто ваш брат?
– Этот мальчик.
– Тот, который поет?
– Да.
Мариус хотел встать.
– Не уходите! – сказала она. – Теперь уж недолго ждать!
Она почти сидела, но ее голос был едва слышен и прерывался икотой. Временами его заглушало хрипение. Эпонина приблизила, насколько могла, свое лицо к лицу Мариуса и прибавила с каким-то странным выражением:
– Слушайте, я не хочу разыгрывать с вами комедию. В кармане у меня лежит письмо для вас. Со вчерашнего дня. Мне поручили отправить его почтой. А я его оставила у себя. Мне не хотелось, чтобы оно дошло до вас. Но, быть может, вы за это будете сердиться на меня там, где мы вскоре опять свидимся. Ведь там встречаются, правда? Возьмите письмо.
Она судорожно схватила руку Мариуса своей простреленной рукой, – казалось, она уже не чувствовала боли. Затем сунула его руку в карман своей блузы. Мариус в самом деле нащупал там какую-то бумагу.
– Возьмите, – сказала она.
Мариус взял письмо.
Она одобрительно и удовлетворенно кивнула головой.
– Теперь обещайте мне за мой труд…
И она запнулась.
– Что? – спросил Мариус.
– Обещайте мне!
– Обещаю.
– Обещайте поцеловать меня в лоб, когда я умру. Я почувствую.
Она бессильно опустила голову на колени Мариуса, и ее веки сомкнулись. Он подумал, что эта бедная душа отлетела. Эпонина не шевелилась; внезапно, когда уже Мариус решил, что она навеки уснула, она медленно открыла глаза, в которых стала проступать мрачная глубина смерти, и сказала ему с нежностью, казалось, идущей уже из другого мира:
– А ведь знаете, господин Мариус, я думаю, что была немного влюблена в вас.
Она попыталась еще раз улыбнуться и умерла.
Глава 7. Гаврош глубокомысленно вычисляет расстояния.
Мариус сдержал слово. Он запечатлел поцелуй на мертвенном лбу, покрытом капельками холодного пота. То не была измена Козетте; то было задумчивое и нежное прощание с несчастной душой.
Он не без внутреннего трепета взял письмо, переданное ему Эпониной. Он сразу почувствовал, что в нем сообщается о чем-то важном. Ему не терпелось прочитать его. Так уж создано мужское сердце: едва бедное дитя закрыло глаза, как Мариус подумал о письме. Он тихонько опустил Эпонину на землю и отошел от нее. Какое-то чувство ему говорило, что он не должен читать это письмо возле умершей.
Он подошел к свече в нижней зале. То была маленькая записка, изящно сложенная и запечатанная с женской заботливостью. Адрес, написанный женской рукой, был следующий:
«Господину Мариусу Понмерси, кв. г-на Курфейрака, Стекольная улица, № 16».
Он сломал печать и прочел:
«Мой любимый! Увы, отец требует, чтобы мы уехали немедленно. Сегодня вечером мы будем на улице Вооруженного человека, № 7. Через неделю мы будем в Англии.
Козетта. 4 Июня».Чистота их любви была такова, что Мариус даже не знал почерка Козетты.
То, что произошло, может быть рассказано в нескольких словах. Все это устроила Эпонина. После вечера 3 июня она приняла двойное решение: расстроить замыслы отца и бандитов относительно дома на улице Плюме и разлучить Мариуса с Козеттой. Она обменялась своими лохмотьями с первым встречным молодым шалопаем, которому показалось забавным переодеться в женское платье, отдав Эпонине мужское. Это она на Марсовом поле сделала Жану Вальжану многозначительное предупреждение: Переезжайте. Жан Вальжан, вернувшись домой, действительно сказал Козетте: «Сегодня вечером мы уезжаем на улицу Вооруженного человека вместе с Тусен. Через неделю мы будем в Лондоне». Козетта, сраженная этим неожиданным ударом, спешно написала несколько строк Мариусу. Но как отнести письмо на почту? Она не выходила одна из дому, а Тусен, непривычная к таким поручениям, непременно и тотчас же показала бы письмо Фошлевану. Терзаясь беспокойством, Козетта вдруг увидела сквозь решетку переодетую в мужское платье Эпонину, все время бродившую вокруг сада. Козетта подозвала «этого молодого рабочего», дала ему пять франков и письмо, сказав: «Отнесите сейчас же это письмо по адресу». Эпонина положила письмо в карман. Утром, пятого июня, она отправилась к Курфейраку на поиски Мариуса, но не для того, чтобы отдать ему письмо, а чтобы «увидеть его», – это поймет каждая ревнивая и любящая душа. Там она поджидала Мариуса или хотя бы Курфейрака – все для того же, чтобы «увидеть его». Когда Курфейрак сказал ей: «Мы идем на баррикады», ее вдруг озарила мысль броситься навстречу этой смерти, как она бросилась бы навстречу всякой другой, и толкнуть туда Мариуса. Она последовала за Курфейраком и удостоверилась, в каком месте строится баррикада. Мариуса никто не предупреждал, письмо она перехватила; глубоко убежденная, что с наступлением ночи он, как обычно вечером, придет на свидание, она подождала его на улице Плюме и от имени друзей обратилась к нему с тем призывом, который, как она надеялась, должен был привести его на баррикаду. Она рассчитывала на отчаяние Мариуса, потерявшего Козетту, и не ошиблась. После этого она вернулась на улицу Шанврери. Мы уже видели, что́ она там свершила. Она умерла с мрачной радостью, свойственной ревнивым сердцам, которые увлекают за собой в могилу любимое существо, твердя: «Пусть никому не достанется!».
Мариус покрыл поцелуями письмо Козетты. Значит, она его любит! На мгновение у него мелькнула мысль, что теперь ему не надо умирать. Потом он сказал себе: «Она уезжает. Отец увозит ее в Англию, а мой дед не хочет, чтобы я на ней женился. Ничто не изменилось в злой моей участи». Мечтателям, подобным Мариусу, свойственны минуты крайнего упадка духа, отсюда и вытекают отчаянные решения. Бремя жизни невыносимо, смерть – лучший выход. И тогда он подумал, что ему осталось выполнить два долга: уведомить Козетту о своей смерти, послав ей последнее «прости», и спасти Гавроша от неминуемой гибели, которую приуготовил себе бедный мальчуган, брат Эпонины и сын Тенардье.
У него был при себе тот самый бумажник, в котором хранилась тетрадка, куда он вписал для Козетты столько мыслей о любви. Он вырвал из тетрадки одну страничку и карандашом набросал следующие строки:
«Наш брак невозможен. Я просил позволения у моего деда, он отказал; у меня нет средств, и у тебя тоже. Я спешил к тебе, но уже не застал тебя. Ты знаешь, какое слово я тебе дал, я его сдержу. Я умираю. Когда ты будешь читать это, моя душа будет уже подле тебя, она улыбнется тебе».
Мариусу нечем было запечатать это письмо, он просто сложил его вчетверо и написал адрес:
«Мадемуазель Козетте Фошлеван, кв. г-на Фошлевана, улица Вооруженного человека, № 7».
Сложив письмо, он немного подумал, снова взял бумажник, открыл его и тем же карандашом написал на первой странице тетради три строки:
«Меня зовут Мариус Понмерси. Прошу доставить мой труп к моему деду г-ну Жильнорману, улица Сестер страстей господних, № 6, в Марэ».
Сунув бумажник в карман сюртука, он позвал Гавроша. На голос Мариуса тотчас появилась веселая и выражающая преданность рожица мальчугана.
– Хочешь сделать кое-что для меня?
– Все, что угодно, – ответил Гаврош. – Господи боже мой! Да без вас, ей-ей, мне была бы уже крышка.
– Видишь это письмо?
– Да.
– Возьми его. Уходи сейчас же с баррикады (Гаврош, забеспокоившись, стал почесывать у себя за ухом) и завтра утром вручи его по адресу, мадемуазель Козетте, проживающей у господина Фошлевана на улице Вооруженного человека, номер седьмой.
Маленький герой ответил:
– Ну хорошо, но… за это время могут взять баррикаду, а меня здесь не будет!
– По всем признакам, баррикаду не атакуют раньше чем на рассвете и не возьмут раньше чем завтра к полудню.
Новая передышка, которую нападающие дали баррикаде, действительно затянулась. То был один из тех нередких во время ночного боя перерывов, после которого противник атакует с удвоенным ожесточением.
– Слушайте, а если я отнесу ваше письмо завтра утром? – спросил Гаврош.
– Будет слишком поздно. Баррикаду, вероятно, окружат, на всех улицах поставят дозоры, и тогда тебе отсюда не выйти. Ступай сейчас же.
Гаврош не нашелся что ответить и стоял в нерешительности, печально почесывая за ухом. Вдруг, по обыкновению встрепенувшись, как птица, он взял письмо.
– Ладно, – сказал он.
И пустился бегом по переулку Мондетур.
Его осенила мысль, о которой он умолчал, боясь, как бы Мариус не нашел какого-либо возражения.
Вот она, эта мысль:
«Еще нет и двенадцати часов, улица Вооруженного человека недалеко, я успею отнести письмо и вовремя вернуться».
Книга пятнадцатая. Улица Вооруженного человека.
Глава 1. Бювар-болтун.
Что значит бурное волнение целого города в сравнении с душевной бурей? Человек – глубина еще более бездонная, чем народ. Жан Вальжан был во власти ужасного возбуждения. Все бездны снова разверзлись в нем. Он содрогался так же, как Париж, на пороге грозного и неведомого переворота. Для этого оказалось достаточно нескольких часов. Его жизнь и его совесть внезапно омрачились. О нем можно было сказать так же, как и о Париже: «Вот две силы. Дух света и дух тьмы схватились на мосту, над бездной. Который из двух низвергнет другого? Кто кого одолеет?».
Вечером, накануне дня 5 июня, Жан Вальжан в сопровождении Козетты и Тусен перебрался на улицу Вооруженного человека. Там его ждала внезапная перемена судьбы.
Козетта не без сопротивления покинула улицу Плюме. В первый раз с тех пор, как они жили вместе, желание Козетты и желание Жана Вальжана не совпали и если не вступили в борьбу, то все же противостояли друг другу. Возражения одной стороны встречали непреклонность другой. Неожиданный совет: переезжайте, брошенный незнакомцем Жану Вальжану, встревожил его до такой степени, что он потребовал от Козетты беспрекословного повиновения. Он был уверен, что его выследили и преследуют. Козетте пришлось уступить.
Оба прибыли на улицу Вооруженного человека, молчаливые, не сказав друг другу ни слова, каждого обуревали собственные заботы. Жан Вальжан был так обеспокоен, что не замечал печали Козетты; Козетта была так печальна, что не замечала беспокойства Жана Вальжана.
Жан Вальжан взял с собой Тусен, чего никогда не делал в прежние отлучки. Он предвидел, что, быть может, не вернется больше на улицу Плюме, и не мог ни оставить там Тусен, ни открыть ей тайну. К тому же он считал ее преданным и надежным человеком. Измена слуги хозяину начинается с любопытства. Но Тусен, словно ей от века предназначено было служить у Жана Вальжана, не знала любопытства. Заикаясь, она повторяла, вызывая смех своим говором барневильской крестьянки: «Какая уродилась, такая пригодилась; свое дело сполняю; достальное меня не касаемо».
Уезжая с улицы Плюме, причем отъезд этот был скорее похож на бегство, Жан Вальжан захватил с собой только маленький благоухающий чемоданчик, который Козетта окрестила «неразлучным». Тяжелые сундуки потребовали бы носильщиков, а носильщики – это свидетели. Позвали фиакр к калитке, выходящей на Вавилонскую улицу, и уехали.
Тусен лишь с большим трудом добилась позволения уложить немного белья, одежды и кое-какие туалетные принадлежности. А Козетта взяла с собой только шкатулку со всем, что нужно для письма, и бювар.
Чтобы их исчезновение прошло еще незаметнее и спокойнее, Жан Вальжан распорядился отъездом с улицы Плюме не раньше вечера, что дало возможность Козетте написать записку Мариусу. На улицу Вооруженного человека они прибыли, когда уже было совсем темно.
Спать улеглись молча.
Квартира на улице Вооруженного человека выходила окнами на задний двор, была расположена на третьем этаже и состояла из двух спальных комнат, столовой и прилегавшей к столовой кухни с антресолями, где стояла складная кровать, поступившая в распоряжение Тусен. Столовая, разделявшая спальни, служила в то же время прихожей. В жилище этом имелась вся необходимая домашняя утварь.
Люди поддаются успокоению почти так же безрассудно, как и тревоге, – такова человеческая природа.
Едва Жан Вальжан очутился на улице Вооруженного человека, как его беспокойство стихло и постепенно рассеялось. Есть места, которые умиротворяюще действуют на нашу душу. То была безвестная улица с мирными обитателями, и Жан Вальжан почувствовал, что словно заражается безмятежным покоем этой улочки старого Парижа, такой узкой, что она закрыта для проезда положенным на два столба поперечным брусом, безмолвной и глухой посреди шумного города, сумрачной среди белого дня и, если можно так выразиться, защищенной от волнений двумя рядами своих высоких столетних домов, молчаливых, как и подобает старикам. На этой улице застыло забвение. Жан Вальжан свободно вздохнул. Как его могли бы отыскать здесь?
Его первой заботой было поставить «неразлучный» возле своей постели.
Он спал хорошо. Утро вечера мудренее, можно прибавить: утро вечера веселее. Жан Вальжан проснулся почти счастливым. Ему показалась прелестной отвратительная столовая, в которой стояли старый круглый стол, низкий буфет с наклоненным над ним зеркалом, дряхлое кресло и несколько стульев, заваленных свертками Тусен. Из одного свертка выглядывал мундир национальной гвардии Жана Вальжана.
Что касается Козетты, то она велела Тусен принести ей в комнату бульону и не выходила до самого вечера.
К пяти часам Тусен, хлопотавшая над несложным устройством их новой квартиры, подала на стол в столовой холодных жареных цыплят, которых Козетта, чтобы не огорчать отца, согласилась отведать.
Затем, сославшись на сильную головную боль, она пожелала Жану Вальжану спокойной ночи и заперлась в своей спальне. Жан Вальжан с аппетитом съел крылышко цыпленка и, облокотившись на стол, постепенно успокоившись, снова стал чувствовать себя в безопасности.
Во время этого скромного обеда он два или три раза смутно слышал, как Тусен, заикаясь, говорила: «Сударь, крик-шум кругом, дерутся в Париже». Но, поглощенный множеством своих соображений, он не обратил внимания на эти слова. Говоря по правде, он их толком и не разобрал.
Он встал и принялся расхаживать от окна к двери и от двери к окну, испытывая все большую умиротворенность.
Лишь только он успокоился, Козетта, его единственная забота, вновь завладела его мыслями. И не потому, что он был встревожен ее головной болью, этим небольшим нервным расстройством, девичьим капризом, мимолетным облачком, – все это минует через день или два; но он думал о будущем, и, как обычно, думал о нем с нежностью. Что бы там ни было, он не видел никаких препятствий к тому, чтобы снова вошла в свою колею их счастливая жизнь. В иную минуту все кажется невозможным, в другую – все представляется легким; у Жана Вальжана была такая счастливая минута. Она обычно приходит после дурной, как день после ночи, по тому закону чередования противоположностей, которое составляет самую сущность природы и умами поверхностными именуется антитезой. В мирной улице, где Жан Вальжан нашел убежище для себя и Козетты, он освободился от всего, что его беспокоило с некоторого времени. Именно потому, что он долго видел перед собой мрак, он начинал различать в нем просветы. Выбраться из улицы Плюме без осложнений и каких бы то ни было происшествий было уже хорошим началом. Пожалуй, разумнее всего покинуть Францию хотя бы на несколько месяцев и отправиться в Лондон. Да, надо уехать. Не все ли равно, жить во Франции или в Англии, раз возле него Козетта! Козетта была его отечеством, Козетты было довольно для его счастья; мысль же о том, что самого его, быть может, недостаточно для счастья Козетты, – эта мысль, раньше вызывавшая у него озноб и бессонницу, теперь даже не приходила ему в голову. Все его прежние горести потускнели, и он был полон надежд. Ему казалось, что если Козетта подле него, значит, она принадлежит ему; то был оптический обман, действие которого всем знакомо. Мысленно он устраивал, и со всеми возможными удобствами, отъезд с Козеттой в Англию и уже видел, как где-то там, в далеких просторах мечты, возрождается его счастье.
Медленно расхаживая взад и вперед, он неожиданно заметил нечто странное.
Прямо напротив, в зеркале, наклонно висевшем над низким буфетом, он увидел и ясно прочел следующие четыре строки:
«Мой любимый! Увы, отец требует, чтобы мы уехали немедленно. Сегодня вечером мы будем на улице Вооруженного человека, № 7. Через неделю мы будем в Англии.
Козетта. 4 июня».
Жан Вальжан остановился, ничего не понимая.
Приехав, Козетта положила свой бювар на буфет под зеркалом и, томясь мучительной тревогой, позабыла его там. Она даже не заметила, что оставила его открытым именно на той странице, где просушила четыре строчки своего письма, которое она передала молодому рабочему, проходившему по улице Плюме. Строчки эти отпечатались на пропускной бумаге бювара.
Зеркало отражало написанное.
Здесь имело место то, что в геометрии называется симметричным изображением; строки, опрокинутые в обратном порядке на пропускной бумаге, приняли в зеркале правильное положение, и слова обрели свой настоящий смысл; перед глазами Жана Вальжана предстало письмо, написанное накануне Козеттой Мариусу.
Это было просто и оглушительно.
Жан Вальжан подошел к зеркалу. Он перечел четыре строчки, но не поверил глазам. Ему казалось, что они возникли в блеске молнии. Это была галлюцинация. Это было невозможно. Этого не было.
Мало-помалу его восприятие стало более точным; он взглянул на бювар Козетты, и чувство действительности вернулось к нему. Он взял бювар и сказал: «Это отсюда». С лихорадочным возбуждением он стал всматриваться в четыре строчки, отпечатавшиеся на бюваре; опрокинутые отпечатки букв образовывали какую-то причудливую вязь, лишенную, казалось, всякого смысла. Тогда он подумал: «Но ведь это ничего не означает, здесь ничего не написано» – и с невыразимым облегчением вздохнул полной грудью. Кто не испытывал этой глупой радости в страшные минуты? Душа не предается отчаянию, не исчерпав всех иллюзий.
Он держал бювар в руке и смотрел на него в бессмысленном восторге, почти готовый рассмеяться над одурачившей его галлюцинацией. Внезапно он снова взглянул в зеркало, и повторилось то же явление. Четыре строчки обозначались там с неумолимой четкостью. Теперь это не было миражем. Повторившееся явление – уже реальность; это было очевидно, это было письмо, правильно восстановленное зеркалом. Он понял.
Жан Вальжан, пошатнувшись, выронил бювар и тяжело опустился в старое кресло, стоявшее возле буфета; голова его поникла, взгляд остекленел, рассудок его мутился. Он сказал себе, что все это было правдой, что свет навсегда померк для него, что это было написано Козеттой кому-то. Тогда он услышал, как его вновь озлобившаяся душа испускает во мраке глухое рычание. Попробуйте взять у льва из клетки мясо!
Как это ни было странно и печально, но Мариус еще не получил письмо Козетты; случай предательски преподнес его Жану Вальжану раньше, чем вручить Мариусу.
До этого дня Жан Вальжан не был побежден испытаниями судьбы. Он подвергался тяжким искусам; ни одно из насилий, совершаемых над человеком злой его участью, не миновало его; свирепый рок, вооруженный всеми средствами кары и всеми предрассудками общества, избрал его своей мишенью и яростно преследовал его. Он же не отступал и не склонялся ни перед чем. Когда требовалось, он принимал самые отчаянные решения; он поступился своей вновь завоеванной неприкосновенностью личности, отдал свою свободу, рисковал своей головой, всего лишился, все выстрадал и остался бескорыстным и стоическим до такой степени, что порою его, подобно мученику, можно было считать отрешившимся от самого себя. Его совесть, закаленная в борьбе со всевозможными бедствиями, могла казаться навеки неодолимой. Но если бы теперь кто-нибудь заглянул в глубь его души, то был бы вынужден признать, что она ослабевает.
Из всех мук, которые он перенес в долгой пытке, уготованной ему судьбой, эта мука была самой страшной. Хватки этих раскаленных клещей он до сих пор не знавал. Он ощутил таинственное оживление всех дремавших в нем чувств. Он ощутил укол в неведомый ему нерв. Увы, величайшее испытание, скажем лучше, единственное испытание – это утрата любимого существа!
Бедный старый Жан Вальжан, конечно, любил Козетту только как отец; однако, мы уже отметили выше, самое сиротство его жизни включило в это отцовское чувство все виды любви: он любил Козетту как дочь, любил ее как мать и любил ее как сестру. Но у него никогда не было ни любовницы, ни жены, а природа – это кредитор, не принимающий опротестованного векселя, поэтому чувство любви к женщине, наиболее стойкое из всех, смутное, слепое и чистое чистотой ослепления, безотчетное, небесное, ангельское, божественное, примешивалось ко всем другим. Оно было даже скорее инстинктом, чем чувством, скорее влечением, чем инстинктом, неощутимое и невидимое, но реальное; и в его огромной нежности к Козетте любовь в собственном смысле была подобна золотой жиле, неведомой и нетронутой в недрах горы.
Пусть теперь читатель припомнит, чем было полно его сердце; выше мы упоминали об этом. Никакой брак не был возможен между ними, даже брак духовный; и тем не менее их судьбы тесно переплелись. За исключением Козетты, то есть за исключением ребенка, Жан Вальжан за всю свою долгую жизнь не знал ничего, что можно было любить. Страсти и любовные увлечения, сменяющие друг друга, не оставили в его сердце следов, тех сменяющих друг друга оттенков зелени – светло-зеленых и темно-зеленых, – какие можно заметить на перезимовавшей листве и на людях, переваливших за пятый десяток. В итоге, – как мы уже не раз упоминали, – все это внутреннее слияние чувств, все это целое, равнодействующей которого явилась высокая добродетель, привело к тому, что Жан Вальжан стал отцом Козетты. Это был странный отец, сочетавший в себе деда, сына, брата и мужа; отец, в котором чувствовалась и мать; отец, любивший и боготворивший Козетту, ибо она стала для него светом, пристанищем, семьей, родиной, раем.
И когда он понял, что это кончилось безвозвратно, что она от него убегает, выскальзывает из его рук, неуловимая, подобно облаку или воде, когда ему предстала эта убийственная истина и он подумал: «К кому-то другому стремится ее сердце, в ком-то другом вся ее жизнь, у нее есть возлюбленный, а я – только отец, я больше не существую»; когда у него не осталось больше сомнений, когда он сказал себе: «Она уходит от меня!» – скорбь, испытанная им, перешла черту возможного. Сделать все, что он сделал, – и вот итог! Как же так? Оказывается, он – ничто? Тогда, как мы уже говорили, он задрожал от возмущения. Каждой частицей своего существа он ощутил бурное пробуждение себялюбия, и «я» зарычало в безднах души этого человека.
Бывают внутренние катастрофы. Уверенность, приводящая к отчаянию, не может проникнуть в человеческую душу, не разбив и не разметав некие глубочайшие ее основы, которые составляют нередко самое существо человека. Скорбь, дошедшая до такого предела, означает поражение и бегство всех сил, какими располагает совесть. Это опасные, роковые минуты. Немногие из нас переживают их, оставшись верными самим себе и непреклонными в выполнении долга. Когда чаша страданий переполнена, добродетель, даже самая непоколебимая, приходит в смятение. Жан Вальжан снова взял бювар и снова убедился в страшной истине; не сводя с него глаз, он застыл, согнувшись и как бы окаменев над четырьмя неопровержимыми строчками; можно было подумать, что все, чем полна эта душа, рушится, – такой мрачной печалью веяло от него.
Он вникал в это открытие, преувеличивая его размеры в болезненном своем воображении, и внешнее его спокойствие пугало – ибо страшно, когда спокойствие человека превращается в безжизненность статуи.
Он измерял ужасный шаг, сделанный его судьбой без его ведома, он вспоминал опасения прошлого лета, столь легкомысленно им отстраненные; он вновь увидел пропасть – все ту же пропасть; только теперь Жан Вальжан находился не на краю ее, а в самой глубине.
Случилось нечто неслыханное и мучительное: он свалился туда, не заметив этого. Свет его жизни померк, а он воображал, что всегда будет видеть солнце.
Однако инстинкт указал ему верный путь. Жан Вальжан сблизил некоторые обстоятельства, некоторые числа, припомнил, в каких случаях Козетта вспыхивала румянцем, в каких бледнела, и сказал себе: «Это он». Прозорливость отчаяния – это своего рода таинственный лук, стрелы которого всегда попадают в цель. С первых же догадок он напал на след Мариуса: он не знал имени, но тотчас нашел его носителя. В глубине неумолимо возникавших воспоминаний он отчетливо увидел неизвестного, что бродил в Люксембургском саду, этого жалкого искателя любовных приключений, праздного героя сентиментальных романов, дурака и подлеца, – ведь это подлость строить глазки девушке в присутствии отца, который так ее любит.
Твердо установив, что главный виновник того, что случилось, – этот юноша и что он – источник всего, Жан Вальжан, нравственно возродившийся человек, который столько боролся со злом в своей душе и приложил столько усилий, чтобы вся его жизнь, все бедствия и несчастья обратились в любовь, всмотрелся в самого себя и увидел призрак – Ненависть.
Великая скорбь подавляет. Она разочаровывает в жизни. Человек, познавший скорбь, чувствует, как что-то уходит от него. В юные годы ее прикосновение бывает мрачным, позже – зловещим. Увы! Даже и тогда, когда кровь горяча, волосы темны, голова держится прямо, как пламя факела, когда свиток судьбы еще почти не развернут, когда биениям сердца, полного чистой любви, еще отвечает другое, когда есть время исправить ошибки, когда все женщины, все улыбки, все будущее и вся даль – впереди, когда вы полны жизненной силы, – даже и тогда отчаяние страшно. Но каково же оно в старости, когда годы, все более и более тускнея, ускоряют бег навстречу тому сумрачному часу, достигнув которого начинаешь различать перед собой звезды могильного мрака!
Пока он размышлял, в комнату вошла Тусен. Жан Вальжан встал и спросил ее:
– Где это происходит? Вы не знаете?
Озадаченная Тусен только и могла спросить:
– Что вам угодно?
Жан Вальжан спросил снова:
– Ведь вы мне, кажется, говорили, что где-то дерутся?
– Ах да, сударь! – ответила Тусен. – В стороне Сен-Мерри.
Нам свойственны бессознательные побуждения, вызванные без нашего ведома самой затаенной нашей мыслью. Вероятно, под влиянием такого побуждения, которое едва ли сознавал он сам, Жан Вальжан через пять минут очутился на улице.
С обнаженной головой он сидел на тумбе у своего дома. Казалось, он к чему-то прислушивался.
Наступила ночь.
Глава 2. Гаврош – враг освещения.
Сколько времени он провел так? Каковы были приливы и отливы его мрачного раздумья? Воспрянул ли он? Лежал ли поверженный во прах? Пал ли духом до такой степени, что оказался сломленным? Мог ли он снова воспрянуть и найти в своей душе какую-нибудь твердую точку опоры? По всей вероятности, он и сам не мог бы ответить.
Улица была пустынна. Несколько встревоженных горожан, поспешно возвращавшихся к себе домой, вряд ли его заметили. В опасные времена каждому только до себя. Фонарщик, как обычно, пришел зажечь фонарь, висевший против ворот дома № 7, и удалился. Если бы кто-нибудь различил Жана Вальжана в этом мраке, то не подумал бы, что это живой человек. Он сидел на тумбе у ворот, неподвижный, словно превратившийся в ледяную статую призрак. Одно из свойств отчаяния – замораживать. Слышался набат и отдаленный гневный ропот толпы. Перекрывая гул торопливых беспорядочных ударов колокола, сливавшихся с шумом мятежа, башенные часы Сен-Поль, торжественно и не торопясь, пробили одиннадцать; ибо набат – дело рук человеческих, время – дело божье. Бой часов не произвел никакого впечатления на Жана Вальжана; он не шелохнулся. Но почти сейчас же раздался ружейный залп со стороны Центрального рынка, и затем снова, еще более оглушительный; вероятно, то началась атака баррикады на улице Шанврери, которую, как мы только что видели, отбил Мариус. При этом двойном залпе, ярость которого, казалось, возрастала в безмолвии ночи, Жан Вальжан вздрогнул. Встав, он обернулся в ту сторону, откуда донесся грохот, потом опять опустился на тумбу, скрестив руки, и голова его вновь медленно склонилась на грудь.
Он возобновил мрачную беседу с самим собою. Вдруг он поднял глаза, – по улице кто-то шел, неподалеку от него слышались шаги; он взглянул и при свете фонаря у здания Архива, где кончается улица, увидел бледное, юное и веселое лицо.
На улицу Вооруженного человека пришел Гаврош.
Он поглядывал вверх и, казалось, что-то разыскивал. Он отлично видел Жана Вальжана, но не обращал на него внимания.
Поглядев вверх, Гаврош стал смотреть вниз; поднявшись на цыпочки, он осматривал двери и окна первых этажей; все они были закрыты, заперты на замки и засовы. Проверив пять или шесть входов в дома, забаррикадированные таким образом, гамен пожал плечами и определил положение вещей следующим восклицанием:
– Черт побери!
Потом снова начал смотреть вверх.
Жан Вальжан, который за минуту до того при душевном своем состоянии ни к кому сам не обратился бы и даже не ответил бы на вопрос, почувствовал непреодолимое желание заговорить с этим мальчиком.
– Малыш, – сказал он, – что тебе надо?
– Мне надо поесть, – откровенно ответил Гаврош. И прибавил: – Сами вы малыш.
Жан Вальжан порылся в кармане и достал пятифранковую монету.
Но Гаврош, принадлежавший к породе трясогузок и быстро перескакивавший с одного на другое, уже поднимал камень. Он увидел фонарь.
– Смотрите-ка, – сказал он, – у вас тут еще есть фонари! Вы не подчиняетесь правилам, друзья. Это непорядок. А ну-ка разобьем это светило.
И он бросил камнем в фонарь; стекло разлетелось с таким треском, что обыватели, засевшие за своими укрытиями в доме напротив, закричали: «Вот и начинается девяносто третий год!».
Фонарь, сильно качнувшись, потух. На улице сразу стало темно.
– Так, так, старушка-улица, – одобрил Гаврош, – надевай свой ночной колпак. – И, повернувшись к Жану Вальжану, спросил: – Как называется этот большущий сарай, что торчит тут у вас в конце улицы? Архив, что ли? Пообломать бы эти толстые дурацкие колонны и соорудить баррикаду, вот было бы славно!
Жан Вальжан подошел к Гаврошу.
– Бедняжка, – пробормотал он про себя, – он хочет есть.
И сунул ему в руку пятифранковую монету.
Гаврош задрал нос, удивленный величиной этого «су»; он смотрел на него в темноте, и поблескивание большой монеты ослепило его. Понаслышке он знал о пятифранковых монетах; их слава была ему приятна, и он пришел в восхищение, видя одну из них так близко. Он сказал: «Поглядим-ка на этого тигра».
Несколько мгновений он восторженно созерцал ее, потом, повернувшись к Жану Вальжану, протянул ему монету и величественно сказал:
– Буржуа, я предпочитаю бить фонари. Возьмите себе вашего дикого зверя. Меня не подкупишь. Он о пяти когтях, но меня не оцарапает.
– Есть у тебя мать? – спросил Жан Вальжаи.
– Уж скорей, чем у вас, – не задумываясь, ответил ему Гаврош.
– Тогда возьми эти деньги для твоей матери, – продолжал Жан Вальжан.
Гавроша это тронуло. Кроме того, он заметил, что говоривший с ним человек был без шляпы. Это внушило ему доверие.
– Вправду? – спросил он. – Это не для того, чтобы я не бил фонари?
– Бей, сколько хочешь.
– Вы славный малый, – заметил Гаврош.
И опустил пятифранковую монету в карман. Доверие его возросло, и он прибавил:
– Вы живете на этой улице?
– Да, а что?
– Можете вы мне показать дом номер семь?
– Зачем тебе дом номер семь?
Мальчик запнулся, побоявшись, что сказал слишком много, и, яростно запустив всю пятерню в волосы, ограничился восклицанием:
– Да так!
У Жана Вальжана мелькнула догадка. Душе, объятой тревогой, свойственны такие озарения.
– Может быть, ты принес мне письмо, которого я ожидаю? – спросил он.
– Вам? – сказал Гаврош. – Вы не женщина.
– Письмо адресовано мадемуазель Козетте, не так ли?
– Козетте? – проворчал Гаврош. – Как будто там так и написано. Смешное имя!
– Ну так вот, – ответил Жан Вальжан, – я-то и должен передать ей письмо. Давай его сюда.
– В таком случае вы, конечно, знаете, что я послан с баррикады?
– Конечно, знаю.
Гаврош сунул руку в другой свой карман и вытащил сложенную вчетверо бумагу.
Затем он сделал под козырек.
– Почет депеше, – сказал он. – Она от временного правительства.
– Давай, – сказал Жан Вальжан.
Гаврош держал бумажку, подняв ее над головой.
– Не думайте, что это любовная цидулка. Она написана женщине, но во имя народа. Мы, мужчины, воюем, но уважаем слабый пол. У нас не так, как в высшем свете, где франтики посылают секретки всяким дурищам.
– Давай.
– Право, вы, кажется, славный малый, – продолжал Гаврош.
– Давай скорей.
– Нате.
Он вручил бумажку Жану Вальжану.
– И поторапливайтесь, господин Икс, а то мамзель Иксета ждет не дождется.
Гаврош был весьма доволен своей остротой.
– Куда отнести ответ? – спросил Жан Вальжан. – К Сен-Мерри?
– Ну и ошибетесь немножко, – воскликнул Гаврош, – как говорится, пирожок – не лепешка. Это письмо с баррикады на улице Шанврери, и я возвращаюсь туда. Покойной ночи, гражданин.
С этими словами Гаврош ушел, или, лучше сказать, упорхнул, как вырвавшаяся на свободу птица, туда, откуда прилетел. Он вновь погрузился в темноту, словно просверливая в ней дыру, с неослабевающей быстротой метательного снаряда; улица Вооруженного человека опять стала безмолвной и пустынной; в мгновение ока этот странный ребенок, в котором было нечто от тени и сновидения, утонул во мгле между рядами черных домов, потерявшись там, как дымок во мраке. Можно было подумать, что он растаял и исчез, если бы через несколько минут громкий треск разбитого стекла и раскатистый грохот фонаря, обрушившегося на мостовую, вдруг снова не разбудил негодующих обывателей. То орудовал Гаврош, пробегая по улице Шом.
Глава 3. Пока Козетта и Тусен спят…
Жан Вальжан вернулся к себе с письмом Мариуса. Довольный темнотой, как сова, которая несет в гнездо добычу, он ощупью поднялся по лестнице, тихонько отворил и закрыл дверь своей комнаты, прислушался, нет ли какого-нибудь шума, и установил, что, по всей видимости, Козетта и Тусен спят. Ему пришлось обмакнуть в пузырек со смесью Фюмада три или четыре спички, прежде чем он зажег одну, так сильно дрожала его рука; то, что он сейчас делал, было похоже на воровство. Наконец свеча была зажжена, он облокотился на стол, развернул записку и стал читать.
Когда человек глубоко взволнован, он не читает, а, можно сказать, набрасывается на бумагу, сжимает ее, словно жертву, мнет ее, вонзает в нее когти ненависти или ликования; он перебегает к концу, перескакивает к началу. Внимание его лихорадочно возбуждено; оно схватывает в общих чертах, приблизительно лишь самое существенное; оно останавливается на чем-нибудь одном, все остальное исчезает. В записке Мариуса Жан Вальжан увидел лишь следующие слова:
«…Я умираю. Когда ты будешь читать это, моя душа будет уже подле тебя».
Глядя на эти две строчки, он ощутил чудовищную радость; была минута, когда стремительная смена чувств словно раздавила его, и он смотрел на записку Мариуса с каким-то пьяным изумлением; ему представилось великолепное зрелище – смерть ненавистного существа.
В душе он испустил дикий вопль восторга. Итак, все это кончилось. Развязка наступила скорей, чем он смел надеяться. Существо, ставшее на его пути, исчезнет. Этот Мариус уходит из жизни сам, без принуждения, по доброй воле. Без его, Жана Вальжана, участия, без какой бы то ни было вины с его стороны, «этот человек» скоро умрет. А может быть, уже умер. Тут, в лихорадочном своем возбуждения, он стал прикидывать в уме. Нет. Он еще не умер. Письмо было, по-видимому, послано с расчетом на то, чтобы Козетта прочла его завтра утром; после двух залпов, раздавшихся между одиннадцатью часами и полуночью, ничего не произошло; баррикаду по-настоящему атакуют только на рассвете; но все равно, с той минуты, как «этот человек» вовлечен в восстание, можно считать его погибшим, он попал между зубчатых колес. Жан Вальжан почувствовал, что пришло его освобождение. Итак, он опять будет вдвоем с Козеттой. Конец соперничеству, вновь открывалось перед ним будущее. Для этого надо лишь спрятать в карман записку. Козетта никогда не узнает, что случилось с «этим человеком». «Остается только не препятствовать тому, чему суждено свершиться, – думал он. – Этот человек не может спастись. Если он еще не умер, то, несомненно, умрет. Какое счастье!».
Сказав себе все это, он стал мрачен.
Затем он спустился вниз и разбудил привратника.
Приблизительно час спустя Жан Вальжан вышел из дома, с оружием, в полной форме национального гвардейца. Привратник без труда раздобыл для него у соседей недостающие части снаряжения. У него было заряженное ружье и сумка, полная патронов. Он направился в сторону Центрального рынка.
Глава 4. Излишний пыл Гавроша.
Тем временем с Гаврошем произошло приключение. Добросовестно разбив камнем фонарь на улице Шом, он вышел на улицу Вьейль-Одриет и, не встретив там «даже собаки», нашел случай подходящим, чтобы затянуть одну из тех песенок, которые он знал. Пение не замедлило его шагов, наоборот, ускорило. Вдоль заснувших или напуганных домов посыпались следующие зажигательные куплеты:
Распевая, Гаврош усиленно жестикулировал. Жест – точка опоры для припева. Он корчил причудливые рожи, и его физиономия, неисчерпаемая сокровищница гримас, передергивалась, точно прорехи рваного белья, которое сушится на сильном ветру. К сожалению, он был один, дело происходило ночью, и этого никто не мог увидеть и не увидел. Так пропадают даром таланты.
Внезапно он остановился.
– Прервем романс, – сказал он.
Его кошачьи глаза только что разглядели в темноте, в углублении ворот, то, что в живописи называется «ансамблем», иначе говоря, некое существо и некую вещь; вещь была ручной тележкой, а существо – спавшим на ней овернцем.
Ручки тележки упирались в мостовую, а голова овернца упиралась в передок тележки. Он лежал, съежившись на этой наклонной плоскости, касаясь ногами земли.
Гаврош, искушенный в житейских делах, сразу признал пьяницу. Это был какой-то уличный возчик, крепко выпивший и крепко спавший.
«Вот на что годятся летние ночи, – подумал Гаврош. – Овернец засыпает в своей тележке, после чего тележку берут для Республики, а овернца оставляют монархии».
Его ум только что осенила следующая блестящая идея: «Тележка отлично подойдет для нашей баррикады».
Овернец храпел.
Гаврош тихонько потянул тележку за передок, а овернца, как говорится, за нижние конечности, то есть за ноги, и минуту спустя пьяница как ни в чем не бывало покоился, растянувшись на мостовой.
Тележка была свободна.
Гаврош, привыкший во всеоружии встречать неожиданности, носил при себе все свое имущество. Он порылся в карманах и извлек оттуда клочок бумажки и огрызок красного карандаша, подтибренный у какого-то плотника.
Он написал:
«Французская республика.
Тележка получена».
И подписался:
Затем он засунул записку в карман плисового жилета продолжавшего храпеть овернца, взялся обеими руками за оглобли и, толкая перед собой грохочущую тележку, пустился во всю прыть в сторону Центрального рынка, торжествуя свою победу.
Это грозило опасностью. Возле королевской типографии находилась караульня. Гаврош не подумал об этом. Ее занимал отряд национальных гвардейцев предместья. Встревоженный отряд начал шевелиться, и головы то и дело поднимались на походных койках. Два фонаря, разбитые один за другим, песенка, распеваемая во все горло, – всего этого было слишком много для улиц-трусих, для улиц, где с самого заката тянет ко сну и где так рано надеваются на свечи гасильники. А уже с час уличный мальчишка бесновался в этой мирной округе, подобно забившейся в бутылку мухе. Сержант околотка прислушался. Он выжидал. Это был человек осторожный.
Отчаянный грохот тележки переполнил меру терпения и вынудил сержанта к попытке произвести расследование.
– Они здесь, целой шайкой! – воскликнул он. – Пойдем посмотрим потихоньку.
Было ясно, что гидра анархии вылезла из своего логова и бесчинствует в квартале.
И сержант, бесшумно ступая, отважился выйти из караульни.
Внезапно, как раз у выхода с улицы Вьейль-Одриет, Гаврош и его тележка столкнулись вплотную с мундиром, кивером, плюмажем и ружьем.
Он разом остановился вторично.
– Смотри-ка, – удивился Гаврош, – он тут как тут. Добрый вечер, господин общественный порядок.
Удивление Гавроша всегда длилось очень недолго.
– Ты куда идешь, оборванец? – закричал сержант.
– Гражданин, – ответил Гаврош, – я вас еще не назвал буржуа. Почему же вы меня оскорбляете?
– Ты куда идешь, шалопай?
– Сударь, – ответил Гаврош, – может быть, вчера вы и были умным человеком, но сегодня утром вас лишили этого звания.
– Я тебя спрашиваю, куда ты идешь, негодяй?
– Вы разговариваете очень мило. Право, вам нельзя дать ваши годы. Почему бы вам не продать свою шевелюру по сто франков за волосок? Вы выручили бы целых пятьсот франков.
– Куда ты идешь? Куда идешь? Куда? Говори, бандит!
– Какие скверные слова, – заметил Гаврош. – В следующее кормление, перед тем как дать грудь, пусть вам получше вытрут рот.
Сержант выставил штык.
– Ты скажешь, наконец, куда ты идешь, злодей?
– Господин генерал, – ответил Гаврош, – я ищу доктора для моей супруги, она родит.
– К оружию! – закричал сержант.
Спастись при помощи того, что вам угрожало гибелью, – вот верх искусства сильных людей; Гаврош сразу оценил положение вещей. Раз тележка его подвела, значит, тележка должна и выручить.
В тот миг, когда сержант готов был ринуться на Гавроша, тележка, превратившись в метательный снаряд, пущенный изо всей мочи, бешено покатила на него, и сержант, получив удар в самое брюхо, кувырком полетел в канаву, причем ружье его тут же разрядилось в воздух.
На крик сержанта гурьбой высыпали солдаты; ружейный выстрел повлек за собой общий беспорядочный залп, затем караульные перезарядили ружья и снова начали стрелять.
Эта пальба наугад продолжалась добрых четверть часа, и пули поразили насмерть несколько оконных стекол.
Тем временем Гаврош, без памяти бросившийся назад, остановился за пять или шесть улиц от места происшествия и, запыхавшись, уселся за тумбу, отмечающую угол улицы Красных сирот.
Он внимательно прислушался.
Отдышавшись, он обернулся в ту сторону, откуда доносилась неистовая стрельба, и три раза подряд левой рукой сделал нос, одновременно хлопая себя правой по затылку. Сей выразительнейший жест, в который парижские гамены вложили всю французскую иронию, по-видимому, живуч, так как он держится уже с полвека.
Но веселое настроение Гавроша вдруг омрачилось горестной мыслью.
«Так, – подумал он, – я хихикаю, помираю со смеху, нахохотался всласть, но я потерял дорогу. Хочешь не хочешь, а придется дать крюк. Только бы вовремя вернуться на баррикаду!».
Вслед за этим он продолжал свой путь.
«Ах да, на чем же это я остановился?» – стал он вспоминать на бегу.
И он снова запел свою песенку, быстро ныряя из улицы в улицу, а в темноте, постепенно затихая, звучало:
Вооруженное выступление караула не оказалось безрезультатным. Тележка была захвачена, пьяница взят в плен. Тележка была отправлена под арест, а пьяница впоследствии слегка наказан военным судом как соучастник. Этот случай свидетельствует о неутомимом рвении прокуратуры тех времен в деле охраны общественного порядка.
Приключение Гавроша, сохранившееся в преданиях квартала Тампль, является одним из самых страшных воспоминаний старых буржуа Марэ и запечатлено в их памяти нижеследующим образом: «Ночная атака на караульное помещение Королевской типографии».
Часть V. Жан Вальжан.
Книга первая. Война в четырех стенах.
Глава 1. Харибда предместья Сент-Антуан и Сцилла предместья Тампль.
Две наиболее памятные баррикады, которые может отметить исследователь социальных болезней, не принадлежат к тому времени, когда происходят события этой книги. Обе эти баррикады, являющиеся каждая в своем роде символом грозной эпохи, выросли из земли во время рокового июньского восстания 1848 года – величайшей из всех уличных войн, какие только видела история.
Случается иногда, что чернь, великая бунтовщица, восстает даже против высоких принципов, против свободы, равенства и братства, против избирательного права, против верховной власти народа, восстает из бездны своего отчаяния, своих скорбей, разочарований, тревог, лишений, смрада, невежества, темноты; случается, что простонародье объявляет войну народу.
Оборванцы нападают на общественное право; охлократия ополчается против демоса.
Это мрачные дни, ибо даже в таком безумии всегда есть известная доля справедливости, такая дуэль похожа на самоубийство, а слова якобы оскорбительные – оборванцы, чернь, охлократия, простонародье – доказывают, увы, скорее вину тех, кто господствует, чем тех, кто страдает: скорее вину привилегированных, чем вину обездоленных.
Что до меня, я произношу эти слова с болью и уважением, ибо если философия углубится в явления, которым эти слова соответствуют, она нередко найдет там великое наряду с ничтожным. В Афинах была охлократия, гезы создали Голландию, плебеи много раз спасали Рим, а чернь следовала за Иисусом.
Кто из мыслителей порою не задумывался над величием социального дна!
Именно об этой черни, о всех этих бедняках, бродягах, отверженных, из которых вышли апостолы и мученики, думал, вероятно, блаженный Иероним, когда произнес свое загадочное изречение: Fex urbis, lex orbis[144].
Возмущение этой толпы, страдающей и обливающейся кровью, ее бессмысленный бунт против жизненно необходимых для нее же принципов, ее беззакония являются попытками государственного переворота и должны быть подавлены. Честный человек идет на это и именно из любви к толпе вступает с ней в борьбу. Но как он сочувствует ей, хоть и сопротивляется! Как уважает ее, хоть и дает ей отпор! Здесь один из редких случаев, когда, поступая справедливо, мы испытываем смущение и словно не решаемся довести дело до конца; мы упорствуем – это необходимо, но удовлетворенная совесть печальна; мы выполняем свой долг, а сердце щемит в груди.
Поспешим оговориться – июнь 1848 года был событием исключительным, почти не поддающимся классификации в философии истории. Все слова, сказанные нами выше, надо взять обратно там, где речь идет об этом неслыханном мятеже, в котором сказалась священная ярость труда, взывающего о своих правах. Пришлось подавить мятеж, того требовал долг, так как мятеж угрожал Республике. Но что же в сущности представлял собою июнь 1848 года? Восстание народа против самого себя.
То, что относится к основному сюжету, нельзя считать отступлением; поэтому да будет нам дозволено ненадолго остановить внимание читателя на двух единственных в своем роде баррикадах, о которых мы только что упоминали и которые особенно характерны для этого вооруженного восстания.
Одна заграждала заставу предместья Сент-Антуан, другая защищала подступы к предместью Тампль; те, кому довелось увидеть эти выросшие под ясным голубым июньским небом грозные творения гражданской войны, никогда их не забудут.
Сент-антуанская баррикада была чудовищных размеров – высотой с трехэтажный дом и шириной в семьсот футов. Она загораживала от угла до угла широкое устье предместья, то есть сразу три улицы; изрытая, иссеченная, зубчатая, изрубленная, с громадным проломом, как бы образующим бойницу, подпираемая грудами камней, превращенными в бастионы, там и сям выдаваясь вперед неровными выступами, надежно прикрывая свой тыл двумя высокими мысами домов предместья, она вздымалась, как гигантская плотина, в глубине страшной площади, некогда видевшей 14 июля. Девятнадцать баррикад громоздились уступами, уходя в глубь улиц, позади этой баррикады-прародительницы. Достаточно было увидеть ее издали, чтобы почувствовать ужасные предсмертные страдания городских окраин, достигшие того предела, когда нужда превращается в катастрофу. Из чего была построена баррикада? Как говорили одни, из развалин трех шестиэтажных домов, нарочно для этого разрушенных. По словам других, ее сотворило чудо народного гнева. Эти развалины наводили тоску, как все порождения ненависти. Можно было спросить: кто это построил? Можно было спросить также: кто это разрушил? То было создано вдохновенным порывом клокочущей ярости. Стой! вот дверь! вот решетка! вот навес! вот рама! вот сломанная жаровня! треснувший горшок! Давай все, швыряй все! Толкай, тащи, выворачивай, выламывай, сшибай, разрушай все! В одну кучу дружно валились булыжники, щебень, бревна, железные брусья, тряпье, битое стекло, ободранные стулья, капустные кочерыжки, лохмотья, мусор, проклятия. Это было величественно и ничтожно. Пародия на первозданный хаос, мгновенно созданная нищетой. Массы и атомы вперемешку; кусок стены рядом с дырявой миской – грозное братство всевозможных обломков; Сизиф бросил сюда свою каменную глыбу, а Иов – свой черепок. Все в целом внушало ужас. Это был Акрополь голытьбы. По всему скату торчали опрокинутые тележки; огромная повозка, перевернутая колесами вверх, казалась шрамом на этом мятежном лике; распряженный омнибус, который со смехом втащили на руках на самую верхушку, как будто строители варварского сооружения хотели соединить трагическое с забавным, вытягивал свое дышло навстречу каким-то неведомым небесным коням. Эта гигантская насыпь, намытая волнами мятежа, вызывала в памяти нагромождение Оссы на Пелион во всех революциях; 93-й год на 89-й, 9 термидора на 10 августа, 18 брюмера на 21 января, вандемьер на прериаль, 1848-й год на 1830-й. Площадь того стоила, и баррикада имела право возникнуть на том самом месте, где исчезла Бастилия. Если бы океан строил плотины, он воздвиг бы именно такую. Ярость прилива наложила печать на эту бесформенную запруду. Какого прилива? Толпы. Казалось, вы видите окаменелый вопль. Казалось, вы слышите, как жужжат над баррикадой, словно над ульем, огромные невиданные пчелы бурного прогресса. Была ли то непроходимая чаща? Или следы пьяной оргии? Или крепость? Чудилось, будто безумие создало это взмахом крыла. Было что-то омерзительное в этом укреплении и нечто олимпийское в этом хаосе. Там и сям в отчаянном сумбуре торчали стропила крыш, оклеенные обоями углы мансард, оконные рамы с целыми стеклами, стоящие среди щебня в ожидании пушечного выстрела, сорванные с кровель трубы, шкафы, столы, скамейки, в бессмысленном кричащем беспорядке, всевозможный убогий скарб, отвергнутый даже нищими и носящий отпечаток ярости и разрушения. Можно было бы сказать, что это лохмотья народа: лохмотья из дерева, из железа, меди, камня, и что предместье Сент-Антуан вышвырнуло все это за дверь могучим взмахом метлы, создав баррикаду из своей нищеты. Обрубки, напоминавшие плаху, разорванные цепи, брусья с перекладиной в виде виселиц, колеса, валяющиеся среди щебня, населяли это жилище анархии мрачными видениями всех древних пыток, каким некогда подвергался народ. Сент-Антуанская баррикада обращала в оружие все; все, чем гражданская война может запустить в голову обществу, вылетало оттуда; то было не сражение, а припадок бешенства. Карабины, которые защищали этот редут, в том числе и несколько мушкетонов, палили осколками, костяшками, пуговицами, даже колесиками из-под ночных столиков, представлявшими собой весьма опасные снаряды, так как они были из меди. Баррикада бесновалась. Она оглашала небо неистовыми воплями; время от времени, как бы дразня осаждавших, она покрывалась бушующей толпой, венчала себя морем горячих голов; она вся кишела людьми, щетинилась колючим гребнем ружей, сабель, палок, топоров, пик и штыков; огромное красное знамя плескалось по ветру. С баррикады доносились крики команды, боевые песни, дробь барабанов, женский плач и жуткий смех умиравших с голоду. Она была необъятна и полна жизни, она вспыхивала искрами, как спина электрического ската. Дух революции клубился облаком над этой вершиной, откуда гремел глас народа, подобный гласу божию; эта гигантская груда мусора казалась исполненной странного величия. То была куча отбросов, и то был Синай.
Как мы говорили выше, баррикада сражалась во имя Революции. С кем? С самой Революцией. Эта баррикада, порождение беспорядка, смятения, случайности, недоразумения, неведения, стояла лицом к лицу с Учредительным собранием, с верховной властью народа, со всеобщим избирательным правом, с нацией, с Республикой; Карманьола вызывала на бой Марсельезу.
Вызов безрассудный, но героический, ибо этот старый пригород сам был героем.
Предместье и его редут поддерживали друг друга. Предместье опиралось на редут, редут прислонялся к предместью. Громадная баррикада высилась, как скала, о которую разбивалась стратегия генералов, прославленных в африканских походах. Все ее впадины, наросты, шишки, горбы казались в клубах дыма ее гримасами, озорной ее усмешкой. Картечь застревала в ее бесформенной массе, снаряды вязли там, поглощались, исчезали, ядра только дырявили дыры; какой смысл бомбардировать хаос? И войска, привыкшие к самым страшным картинам войны, с тревогой глядели на этот редут-чудовище, щетинистый, как вепрь, и огромный, как гора.
В четверти мили оттуда, если бы кто отважился заглянуть за острый выступ, образуемый витриной магазина Далемань, на углу улицы Тампль, выходящей на бульвар близ Шато-д’О, то можно было увидеть вдалеке, по ту сторону канала, на верхнем конце улицы, поднимающейся лесенкой по предместью Бельвиль, какую-то странную стену в два этажа высотой. Она соединяла прямой чертой дома правой стороны с левой, как будто улица сама отвела назад свою самую высокую стену, чтобы выставить надежный заслон. Это была стена из тесаного камня. Прямая, гладкая, холодная, крутая, она была выверена наугольником, выложена по шнурку, проверена по отвесу. Разумеется, ее не цементировали, но, как и в иных римских стенах, это не нарушало строгой ее архитектуры. По высоте можно было догадаться о ее толщине. Карниз был математически точно параллелен основанию. На серой поверхности, через известные промежутки, можно было различить едва заметные отверстия бойниц, подобные черным линиям. Бойницы были расположены на равных расстояниях друг от друга. Улица была пустынна из конца в конец; все окна и двери заперты, а в глубине возвышалась эта застава – неподвижная и безмолвная стена, превращавшая улицу в тупик. На стене никого не было видно, ничего не было слышно: ни крика, ни шума, ни дыхания. Она казалась гробницей.
Ослепительное июньское солнце заливало светом это грозное сооружение.
То была баррикада предместья Тампль.
Подойдя к этому месту и увидев ее, даже самые смелые призадумывались, пораженные загадочным видением. Все здесь было строго, прямолинейно, тщательно прилажено, плотно пригнано, симметрично и зловеще. Здесь наука сочеталась с магией. Казалось, создателем такой баррикады мог быть геометр или призрак. Глядя на нее, невольно понижали голос.
Время от времени, как только солдат, офицер или представитель власти решался пересечь пустынную улицу, раздавался тонкий свистящий звук, и прохожий падал раненый или убитый. Если же ему удавалось перебежать, пуля вонзалась в закрытую ставню, застревала между кирпичами или в стенной штукатурке. А иногда вылетала и картечь. Бойцы баррикады сделали из двух обломков чугунных газовых труб, заткнутых с одного конца паклей и глиной, две небольшие пушки. Пороха зря не тратили: почти каждый выстрел попадал в цель. Здесь и там валялись трупы, лужи крови стояли на мостовой. Мне запомнился белый мотылек, порхавший посреди улицы. Лето остается летом.
Все подворотни окрестных домов были забиты ранеными.
Каждый чувствовал себя под прицелом невидимого врага и понимал, что улица пристреляна во всю длину.
Солдаты, построенные для атаки у Тампльской заставы, за горбатым мостом канала, хмуро и сосредоточенно разглядывали этот мрачный редут, неподвижный, бесстрастный, рассылающий смерть. Некоторые добирались ползком до середины выгнутого дугой моста, стараясь не выставлять кивера.
Бравый полковник Монтейнар любовался баррикадой не без внутреннего трепета. «А как построено! – сказал он, обращаясь к одному из депутатов. – Ни один камень не выдается. Точно из фарфора!» В этот миг пуля пробила орден на его груди, и он упал.
«Трусы! – кричали солдаты. – Да покажитесь же! Дайте на вас посмотреть! Они не смеют! Они прячутся!» Баррикада предместья Тампль, которую защищали восемьдесят человек против десяти тысяч, продержалась три дня. На четвертый, как в битве при Зааче и при Константине, атакующие ворвались в дома, прошли по крышам, и баррикада была взята. Ни один из восьмидесяти «трусов» и не подумал бежать, все были убиты, кроме начальника Бартелеми, о котором мы скажем позже.
Баррикада Сент-Антуан поражала раскатами громов, баррикада Тампль – молчанием. Между двумя редутами была та же разница, что между страшным и зловещим. Одна казалась мордой зверя, другая – маской.
Если в грандиозном и мрачном июньском восстании сочетались гнев и загадка, то за первой баррикадой чудился дракон, за второй – сфинкс.
Две эти крепости были созданы двумя людьми, по имени Курне и Бартелеми. Курне воздвиг баррикаду Сент-Антуан, Бартелеми – баррикаду Тампль. Каждая отражала черты того, кто ее построил.
Курне был человек высокого роста, широкоплечий, полнокровный, с могучими кулаками, смелым сердцем, чистой душой, с открытым и грозным взглядом. Отважный, решительный, вспыльчивый, буйный, он был самым добродушным из людей и самым опасным из бойцов. Война, борьба, схватка были его родной стихией и радовали его. Он служил когда-то офицером флота; по его движениям и голосу можно было угадать, что он дитя океана, порождение бури; он врывался в битву как ураган. У Курне было нечто общее с Дантоном, но не было гениальности, как у Дантона было нечто общее с Геркулесом, но не было божественного происхождения.
Худенький, невзрачный, бледный, молчаливый Бартелеми напоминал гамена, но с трагической судьбой; получив как-то пощечину от полицейского, он его выследил, подстерег, убил и, семнадцати лет от роду, был сослан на каторгу. Выйдя оттуда, он построил баррикаду.
Волею рока, в Лондоне, где позже оба они жили в изгнании, Бартелеми убил Курне. Злосчастная дуэль! Некоторое время спустя, запутанный в одну из тех загадочных историй, где замешана страсть, в одну из тех катастроф, где французское правосудие видит смягчающие обстоятельства, а английское правосудие – только убийство, Бартелеми был повешен. Наш общественный строй так мрачен, что этот несчастный, который, несомненно, был одарен незаурядным, а может быть, и выдающимся умом, в силу материальных лишений и низкого морального уровня начал каторгой во Франции и кончил виселицей в Англии. Во всех случаях Бартелеми водружал одно только знамя – черное.
Глава 2. Что делать в бездне, если не беседовать?
Шестнадцать лет – немалый срок для тайной подготовки к восстанию, и июнь 1848 года научился многому в сравнении с июнем 1832 года. Поэтому баррикада на улице Шанврери была только наброском, только зародышем по сравнению с двумя гигантскими баррикадами, описанными выше; но для своего времени она была страшной.
Под наблюдением Анжольраса повстанцы употребили с пользой ночные часы; Мариус уже ни на что не обращал внимания. Баррикада не только была восстановлена, но и достроена. Ее подняли на два фута выше. Железные брусья, воткнутые в мостовую, напоминали пики, взятые наперевес. Всевозможный хлам, собранный отовсюду и наваленный с внешней стороны баррикады, довершал ее хаотический вид. Искусно построенный редут представлял собой изнутри гладкую стену, а снаружи непроходимую чащу.
Лестницу из булыжников починили, так что на редут можно было всходить, как на крепостную стену.
На баррикаде навели порядок: очистили от мусора нижнюю залу, обратили кухню в перевязочную, перебинтовали раненых, собрали рассыпанный на полу и по столам порох, отлили пули, набили патроны, нащипали корпии, роздали валявшееся на земле оружие, прибрали редут внутри, вытащили обломки, вынесли трупы.
Убитых сложили грудой на улице Мондетур, которая все еще была в руках повстанцев. Мостовая на этом месте долго оставалась красной от крови. В числе мертвых были четыре национальных гвардейца пригородных войск. Их мундиры Анжольрас велел сохранить.
Анжольрас посоветовал всем заснуть часа на два. Совет Анжольраса был равносилен приказу. Однако ему последовали лишь трое или четверо. Фейи употребил эти два часа, чтобы изобразить на стене противоположного дома такую надпись:
ДА ЗДРАВСТВУЮТ НАРОДЫ!
Эти три слова, вырезанные на камне гвоздем, еще можно было прочесть в 1848 году.
Три женщины воспользовались ночной передышкой и окончательно исчезли: вероятно, им удалось скрыться где-нибудь в соседнем доме. Повстанцы облегченно вздохнули.
Большинство раненых еще могли и хотели участвовать в бою. В кухне, которая стала перевязочной, на тюфяках и соломенных подстилках лежало пятеро тяжело раненных, в том числе два солдата муниципальной гвардии. Солдат перевязали в первую очередь.
В нижней зале остались только Мабеф, накрытый черным покрывалом, и Жавер, привязанный к столбу.
– Здесь будет мертвецкая, – сказал Анжольрас.
В комнате, едва освещенной свечой, в самой глубине, где за столбом, наподобие перекладины, виднелся стол с покойником, смутно вырисовывались очертания громадного креста, образуемого фигурой стоящего во весь рост Жавера и лежащим Мабефом.
Дышло омнибуса, хоть и обломанное при обстреле, еще достаточно хорошо держалось, чтобы укрепить на нем знамя.
Анжольрас, отличавшийся свойством настоящего командира – всегда претворять слово в дело, привязал к этому древку пробитую пулями и залитую кровью одежду убитого старика.
Накормить людей было уже нечем. Не осталось ни хлеба, ни мяса. За шестнадцать часов, проведенных на баррикаде, пятьдесят человек уничтожили скудные запасы кабачка. Рано или поздно любая сражающаяся баррикада неизбежно становится плотом «Медузы». Пришлось примириться с голодом. Наступили первые часы того спартански сурового дня 6 июня, когда на баррикаде Сен-Мерри Жанн, которого обступили повстанцы с криками: «Хлеба! Дайте есть!» – отвечал: «К чему? Теперь три часа. В четыре мы будем убиты».
Так как есть было нечего, Анжольрас не разрешил и пить. Он запретил вино и разделил водку на порции.
В погребе было обнаружено пятнадцать полных, плотно закупоренных бутылок. Анжольрас и Комбефер обследовали их. Поднявшись наверх, Комбефер заявил: «Это из старых запасов дядюшки Гюшлу, он начал с бакалейной торговли». – «Вино, должно быть, отменное, – заметил Боссюэ, – хорошо, что Грантэр спит. Будь он на ногах, попробуй-ка уберечь от него бутылки». Несмотря на ропот, Анжольрас наложил запрет на эти пятнадцать бутылок и, чтобы никто не посягнул на них, велел положить их под стол, на котором покоился старый Мабеф.
Около двух часов ночи сделали перекличку. На баррикаде еще оставалось тридцать семь человек.
Начинало светать. Только что потушили факел, воткнутый на старое место, в щель между булыжниками. Баррикада, походившая внутри на небольшой огороженный дворик посреди улицы, была погружена в темноту и сверху, в неверных предрассветных сумерках, напоминала палубу разбитого корабля. Бойцы баррикады, бродившие взад и вперед, казались зыбкими тенями. Над этим зловещим гнездом мрака вырастали сизые очертания молчаливых домов, в вышине смутно белели трубы. Небо приняло тот очаровательный неопределенный оттенок, который кажется то белым, то голубым. В вышине с радостным щебетанием носились птицы. На крыше высокого дома, обращенного на восток и служившего опорой баррикаде, появился розовый отблеск. В слуховом оконце третьего этажа утренний ветер шевелил седые волосы на голове убитого человека.
– Я рад, что потушил факел, – сказал Курфейрак, обращаясь к Фейи, – меня раздражал этот огонь, трепещущий на ветру, будто от страха. Пламя факела подобно мудрости трусов: оно плохо освещает, потому что дрожит.
Заря пробуждает умы, как пробуждает птиц: все заговорили.
Увидев кошку, пробирающуюся по желобу на крыше, Жоли нашел в ней повод для философских размышлений.
– Что такое кошка? – воскликнул он. – Это поправка. Господь бог, сотворив мышь, сказал: «Стой-ка, я сделал глупость». И сотворил кошку. Кошка – это исправленная опечатка мыши. Мышь, потом кошка – это проверенный и исправленный пробный оттиск творения.
Комбефер, окруженный студентами и рабочими, говорил о погибших, о Жане Прувере, о Баореле, о Мабефе, даже о Кабюке и о суровой печали Анжольраса. Он сказал:
– Гармодий и Аристогитон, Брут, Хереас, Стефанус, Кромвель, Шарлотта Корде, Занд – все они, нанеся удар, испытали сердечную муку. Сердце наше так чувствительно, а жизнь человеческая такая великая тайна, что даже при политическом убийстве, при убийстве освободительном, если оно совершено, раскаяние в убийстве человека сильнее, чем радость служения человечеству.
И минуту спустя – так причудливы повороты мысли в беседе – от стихов Жана Прувера Комбефер уже перешел к сравнению переводчиков «Георгик»: Ро – с Курнаном, Курнана – с Делилем, отмечая отдельные отрывки, переведенные Мальфилатром, в особенности чудесные строки о смерти Цезаря; при упоминании о Цезаре разговор снова вернулся к Бруту.
– Убийство Цезаря справедливо, – сказал Комбефер. – Цицерон был суров к Цезарю, и был прав. Такая суровость – не злостная хула. Когда Зоил оскорбляет Гомера, Мевий оскорбляет Вергилия, Визе – Мольера, Поп – Шекспира, Фрерон – Вольтера, тут действует старый закон зависти и ненависти: гении всегда подвергаются преследованию, великих людей всегда так или иначе травят. Но Зоил одно, а Цицерон – другое. Цицерон карает мыслью так же, как Брут карает мечом. Лично я порицаю этот последний вид правосудия, но в древности его допускали. Цезарь, который переступил Рубикон, раздавал от своего имени высшие должности, на что имел право лишь народ, и не вставал с места при появлении сената, поступал, по словам Евтропия, как царь, даже больше – как тиран: regia ac pene tyrannica[145]. Он был великий человек; тем хуже, или, вернее, лучше: тем убедительнее пример. Его двадцать три раны трогают меня куда меньше, чем плевок на челе Иисуса Христа. Цезаря закололи сенаторы, Христа били по щекам рабы. По степени оскорбления узнают бога.
Боссюэ, стоя на груде камней с карабином в руках и возвышаясь над всеми, восклицал:
– О Кидатеней, о Миррин, о Пробалинф, о прекрасный Эантид! О, кто бы даровал мне счастье произносить стихи Гомера, подобно греку из Лаврия или из Эдаптеона!
Глава 3. Чем, светлее, тем мрачнее.
Анжольрас отправился на разведку. Он вышел незаметно через переулок Мондетур, проскользнув вдоль стен.
Повстанцы, надо сказать, были полны надежд. Удачно отразив ночную атаку, они заранее относились с пренебрежением к новой атаке на рассвете. Они ждали ее, посмеиваясь. Они так же верили в успех, как и в правоту своего дела. Кроме того, к ним, бесспорно, должны прийти подкрепления. На это они твердо рассчитывали. С тою легкой уверенностью в победе, которая составляет одно из преимуществ французского воина, они разделяли наступающий день на три определенные фазы: в шесть утра «соответствующим образом подготовленный» полк перейдет на их сторону, в полдень – восстание всего Парижа, на закате – революция.
Они слышали набатный колокол Сен-Мерри, не замолкавший ни на минуту со вчерашнего дня; это доказывало, что другая баррикада, большая баррикада Жанна, все еще держалась.
Все эти чаяния и слухи передавались от группы к группе веселым и грозным шепотом, напоминавшим воинственное жужжание пчелиного улья.
Появился Анжольрас. Он возвратился из своей отважной разведки в угрюмой окрестной тьме. С минуту он молча прислушивался к оживленному говору, скрестив руки на груди. Потом, свежий и румяный в лучах разгоравшегося рассвета, он сказал:
– Вся армия Парижа в боевой готовности. Треть этой армии угрожает нашей баррикаде. Кроме того, там национальная гвардия. Я разглядел кивера пятого линейного и значки шестого легиона. Через час нас атакуют. Что касается народа, он бунтовал вчера, а нынче утром не тронется с места. Ждать нам нечего, надеяться не на что. Ни на одно предместье, ни на один полк. Мы покинуты всеми.
Эти слова прервали гул голосов и произвели такое же впечатление, как первые капли дождя на пчелиный рой перед началом грозы. Все онемели. На миг наступила невыразимая тишина; в ней, казалось, слышался полет смерти.
Но этот миг был краток.
Из дальней группы, стоявшей в самом темном углу, чей-то голос крикнул Анжольрасу:
– Будь что будет! Подымем баррикаду на двадцать футов выше и останемся здесь все до одного. Граждане, поклянемся клятвой мертвецов. Докажем, что если народ предает республиканцев, то республиканцы не предают народ!
Слова эти освободили сознание людей от гнетущего тумана личных тревог и страхов и были встречены восторженными криками.
Никто так и не узнал имени человека, произнесшего эти слова. То был безвестный рабочий, никому не ведомый, забытый, незаметный герой, тот великий незнакомец, который всегда появляется при исторических кризисах и зарождении нового общественного строя, чтобы в нужную минуту властным голосом произнести решающее слово и вновь исчезнуть во мраке, воплотив в себе на краткий миг, при блеске молнии, дух народа и божества.
Это непреклонное решение было настолько в духе 6 июня 1832 года, что почти одновременно на баррикаде Сен-Мерри прозвучал возглас, который вошел в историю и упоминался на судебном процессе: «Придут к нам на помощь или не придут, не все ли равно! Погибнем здесь все до последнего!».
Очевидно, обе баррикады, хотя и разобщенные внешне, были объединены духовно.
Глава 4. Пятью меньше, одним больше.
После того как выступил незнакомец, провозгласивший «клятву мертвецов», и выразил в этой формуле общее душевное состояние, из всех уст вырвался радостный и грозный крик, зловещий по смыслу, но звучавший торжеством.
– Да здравствует смерть! Останемся здесь все до одного!
– Почему же все? – спросил Анжольрас.
– Все! Все!
Анжольрас возразил:
– Позиция у нас выгодная, баррикада превосходная. Вполне достаточно тридцати человек. Зачем же приносить в жертву сорок?
– Потому что никто не захочет уйти, – отвечали ему.
– Граждане! – крикнул Анжольрас, и в голосе его послышалась дрожь раздражения. – Республика не настолько богата людьми, чтобы тратить их понапрасну. Такое тщеславие – просто мотовство. Если некоторым из вас долг повелевает уйти, они обязаны выполнить его, как всякий другой долг.
Анжольрас, воплощенный принцип, пользовался среди своих единомышленников безграничной властью, которой обладает все, что непогрешимо. Но как ни велика была сила его влияния, поднялся ропот.
Командир до мозга костей, Анжольрас, услышав ропот, стал настаивать. Он заявил властным тоном:
– Пусть те, кого пугает, что нас останется только тридцать, скажут об этом. – Ропот усилился.
– Если на то пошло, легко сказать: «Уйдите», – послышался голос из какой-то группы, – ведь баррикада оцеплена.
– Только не со стороны рынка, – возразил Анжольрас. – Улица Мондетур свободна, и улицей Проповедников можно добраться до рынка Инносан.
– Вот там-то и схватят, – раздался другой голос. – Как раз напорешься на караульный отряд национальных гвардейцев или гвардейцев предместья. Они-то уж заметят человека в блузе и фуражке. «Эй, откуда ты? Уж не с баррикады ли? – и поглядят на руки. – Ага, от тебя пахнет порохом. К расстрелу!».
Вместо ответа Анжольрас тронул за плечо Комбефера, и оба вошли в нижнюю залу.
Минуту спустя они вернулись. Анжольрас держал на вытянутых руках четыре мундира, сохраненных по его приказанию. Комбефер шел за ним, неся амуницию и кивера.
– В таком мундире, – сказал Анжольрас, – легко затеряться в рядах и скрыться. Во всяком случае, на четверых здесь хватит.
И он бросил мундиры на землю.
Это не поколебало стоической решимости его слушателей. Тогда заговорил Комбефер.
– Полноте, – сказал он, – будьте же сострадательны. Знаете, в чем тут все дело? Дело в женщинах. Скажите, есть у вас жены? Да или нет? Есть дети? Да или нет? Есть матери, качающие колыбель и окруженные кучей малышей? Кто никогда не видел грудь кормилицы, подымите руку. Ах, вы хотите быть убитыми! Я сам, поверьте, хочу того же, но я не желаю видеть вокруг себя тени женщин, ломающих руки. Умирайте, если хотите, но не губите других. Самоубийство, которое здесь произойдет, возвышенно, но ведь самоубийство – действие, строго ограниченное и не выходящее за известные пределы. Как только оно коснется ваших ближних, оно назовется убийством. Вспомните о белокурых детских головках, вспомните о сединах стариков. Слушайте, Анжольрас рассказал мне сейчас, что видел на углу Лебяжьей улицы освещенное свечой узкое оконце пятого этажа и на стекле дрожащую тень старушки, которая, верно, всю ночь не смыкала глаз и кого-то ждала. Быть может, это мать одного из вас. Так вот, пусть он уйдет, пусть поспешит сказать своей матери: «Матушка, вот и я!» Ему нечего беспокоиться, мы завершим дело и без него. Тот, кто содержит близких своим трудом, не имеет права жертвовать собой. Это значит бросить семью на произвол судьбы. А вы, у кого остались дочери, у кого остались сестры? Вы подумали о них? Вы идете на смерть, вас убьют – прекрасно! А завтра? Ужасно, когда девушке нечего есть! Мужчина просит милостыню, женщина продает себя. О прелестные создания, ласковые и нежные, с цветком в волосах! Они поют, болтают, озаряют ваш дом невинностью и свежим благоуханием, они доказывают своей девственной чистотой на земле существование ангелов на небесах! Подумайте о Жанне, о Лизе, о Мими, о пленительных благородных существах, которые являются гордостью и благословением вашей семьи, – и они, о боже! – они будут голодать! Что я могу сказать вам? Есть рынок, где торгуют человеческим телом; и если они пойдут туда, разве ваши тени, витающие вокруг, удержат их своими бесплотными руками? Вспомните об улице, о тротуарах, заполненных прохожими, о магазинах, перед которыми слоняются по грязи полуобнаженные женщины. Эти женщины тоже были когда-то невинными. Вспомните о ваших сестрах, у многих из вас они есть. Нищета, проституция, полиция, больница Сен-Лазар – вот что суждено этим нежным красавицам, хрупким чудесным созданиям, стыдливым, грациозным и прелестным, свежим, как майская сирень. Ах, вот как, вы дали себя убить? Вас уже нет на свете! Отлично, нечего сказать! Вы стремитесь спасти народ от королевской власти, а дочерей своих бросаете в полицейский участок. Полноте, друзья, будьте милосердны. Бедные, бедные женщины, мы так мало о них думаем! Мы полагаемся на то, что женщины не так образованны, как мы, им мешают читать, мешают мыслить, запрещают заниматься политикой; но разве вы можете запретить им пойти нынче вечером в морг и опознать там ваши трупы? Слушайте, вы, у кого осталась семья, не упрямьтесь, пожмите нам руки и уходите, мы и одни здесь справимся. Я прекрасно понимаю: чтобы уйти, нужно мужество; это трудно. Но чем труднее, тем больше заслуга. Вы говорите: у меня ружье, я на баррикаде, будь что будет, я остаюсь. Будь что будет – не слишком ли сгоряча сказано? Будет, друзья мои, завтрашний день; вы не доживете до завтра, но семьи ваши доживут, и сколько страданий их ожидает! Представьте себе славного здорового ребенка с румяными, как яблоко, щеками, который болтает, щебечет, тараторит, смеется, который так вкусно пахнет, когда его целуешь. Знаете ли вы, что с ним станет, когда его покинут? Я видел одного, совсем крошечного, вот такого роста. Его отец умер. Бедные люди приютили его из милости, но им самим не хватало хлеба. Ребенок всегда был голоден. Стояла зима. Он не плакал. Он все бродил около печки, в которой никогда не было огня, а труба у нее была обмазана желтой глиной. Он отковыривал пальчиками кусочки глины и ел ее. У него было хриплое дыхание, бледное личико, слабые ножки, вздутый живот. Он ничего не говорил и не отвечал на вопросы. Он умер. А умирать его принесли в больницу Некер, где я его и видел. Я проходил там как интерн врачебную практику. Так вот, если есть среди вас отцы, которым доставляет радость гулять по воскресеньям, держа ручку ребенка в своей большой сильной руке, пусть каждый отец представит себе, что это его ребенок. Я помню этого несчастного малыша, я как сейчас вижу его голое тельце на анатомическом столе, ребра выступали под кожей, словно могилки под кладбищенской травой. В желудке у него нашли какую-то грязь, в зубах застряла зола. Давайте же заглянем к себе в сердце, спросим совета у совести. Как установлено статистикой, смертность среди осиротевших детей достигает пятидесяти пяти процентов. Повторяю, речь идет о женщинах, о матерях, о девушках, речь идет о малышах. Кто говорит о вас самих? Мы знаем, кто вы такие, знаем, что все вы храбрецы, черт возьми! Прекрасно знаем, что вы с радостью, с гордостью готовы отдать жизнь за великое дело, что вы чувствуете себя призванными умереть с пользой и славой, что всякий из вас дорожит своей долей в общем торжестве. В добрый час! Но вы же не одни на свете. Есть другие существа, о которых вы должны подумать. Не будьте эгоистами!
Все угрюмо насупились.
Какие удивительные противоречия вскрываются в человеческом сердце в эти торжественные мгновения! Комбефер, произносивший эти слова, вовсе не был сиротой. Он помнил о чужих матерях и забыл о своей. Он шел на смерть. Он-то и был «эгоистом».
Изнуренный голодом и лихорадкой, Мариус, потеряв одну за другой все свои надежды, пережив самое страшное из крушений – упадок духа, истерзанный бурными волнениями и чувствуя близость конца, все больше впадал в странное оцепенение, которое предшествует роковому часу добровольной смерти.
Физиолог мог бы изучать на нем нарастающие симптомы того болезненного самоуглубления, изученного и классифицированного наукой, которое так же относится к страданию, как страсть – к наслаждению. У отчаяния также есть свои минуты экстаза. Мариус переживал такую минуту. Ему казалось, что он вне всего происходящего; как мы уже говорили, он видел все как бы издалека, воспринимал целое, но не различал подробностей. Люди двигались словно отделенные от него огненной завесой, голоса доносились откуда-то из бездны.
Однако речь Комбефера растрогала всех. Было в этой сцене что-то острое и мучительное, что пронзило его и пробудило из забытья. Им владела только одна мысль – умереть, и он не желал ничем отвлекаться, однако в своем зловещем полусне подумал, что, губя себя, не запрещается спасать других.
Он возвысил голос:
– Анжольрас и Комбефер правы, – сказал он, – не нужно бесцельных жертв. Я согласен с ними; но надо спешить. То, что сказал Комбефер, неопровержимо. У кого из вас есть семьи, матери, сестры, жены, дети, пусть выйдут вперед.
Никто не тронулся с места.
– Кто женат, кто опора семьи, выходите вперед! – повторил Мариус.
Его влияние было велико. Вождем баррикады, правда, являлся Анжольрас, но Мариус был ее спасителем.
– Я приказываю! – крикнул Анжольрас.
– Я вас прошу, – сказал Мариус.
Тогда храбрецы, потрясенные речью Комбефера, поколебленные приказом Анжольраса, тронутые просьбой Мариуса, начали указывать друг на друга. «Это верно, – говорил молодой пожилому, – ты отец семейства, уходи». – «Уж лучше ты, – отвечал тот, – у тебя две сестры на руках». И разгорелся неслыханный спор. Каждый противился тому, чтобы его вытащили из могилы.
– Торопитесь, – сказал Комбефер, – через четверть часа будет поздно.
– Граждане, – настаивал Анжольрас, – у нас здесь республика, все решается голосованием. Выбирайте сами, кто должен уйти.
Ему повиновались. Несколько минут спустя пять человек были выбраны единогласно и вышли из рядов.
– Их пятеро! – воскликнул Мариус.
Мундиров было только четыре.
– Ну что же, одному придется остаться, – ответили пятеро.
И снова каждый стремился остаться и убеждал других уйти. Борьба великодушия возобновилась.
– У тебя любящая жена. – У тебя старая мать. – А у тебя ни отца, ни матери, что станется с твоими тремя братишками? – У тебя пятеро детей. – Ты должен жить, в семнадцать лет слишком рано умирать.
На великих революционных баррикадах соревновались в героизме. Невероятное там становилось обычным. Никто из этих людей не удивлялся друг другу.
– Скорее, скорее, – твердил Курфейрак.
Из толпы закричали Мариусу:
– Назначьте вы, кому остаться.
– Правильно, – сказали все пятеро, – выбирайте. Мы подчинимся.
Мариус не думал, что еще способен испытать подобное волнение. Однако при мысли, что он должен выбрать и послать человека на смерть, вся кровь прилила ему к сердцу. Он бы побледнел еще больше, если бы это было возможно.
Он подошел к пятерым; они улыбались ему, глаза их горели тем же священным пламенем, каким светились в глубокой древности глаза защитников Фермопил, и каждый кричал:
– Меня, меня, меня!
Мариус растерянно пересчитал их; по-прежнему их было пятеро. Затем он перевел глаза на четыре мундира.
В этот миг на четыре мундира как будто с неба упал пятый.
Пятый человек был спасен.
Мариус поднял глаза и узнал г-на Фошлевана.
Жан Вальжан только что появился на баррикаде.
Не то разведав об этом пути, не то по внутреннему чутью, не то просто случайно, но он проник туда со стороны улицы Мондетур. Благодаря форме национальной гвардии он прошел благополучно.
Дозор, выставленный мятежниками на улице Мондетур, не стал поднимать тревогу из-за одного национального гвардейца. Решив, что это, вероятно, кто-нибудь из пополнения или, в худшем случае, пленный, его пропустили. Момент был слишком опасен, караульные не могли отвлечься от своих обязанностей и покинуть наблюдательный пост.
Появления Жана Вальжана на редуте никто не заметил, так как все глаза были устремлены на пятерых избранников и на четыре мундира. Но Жан Вальжан видел и слышал все: он молча снял с себя мундир и бросил его поверх прочих.
Трудно описать всеобщее волнение.
– Кто этот человек? – спросил Боссюэ.
– Тот, кто спасает других, – ответил Комбефер.
– Я знаю его, – прибавил Мариус серьезно.
Его поручительства было достаточно. Анжольрас обратился к Жану Вальжану:
– Добро пожаловать, гражданин. – И добавил: – Вы знаете, что нам придется умереть?
Вместо ответа Жан Вальжан стал помогать спасенному им повстанцу переодеться в свой мундир.
Глава 5. Какой горизонт открывается с высоты баррикады.
Душевное состояние всех в роковой этот час, в этом месте, откуда не было исхода, нашло свое высшее выражение в глубокой печали Анжольраса.
Анжольрас являлся воплощением революции, но была в нем некоторая узость, насколько это возможно для абсолютного: он слишком походил на Сен-Жюста и недостаточно на Анахарсиса Клотца. Однако в обществе Друзей азбуки его ум в конце концов воспринял до известной степени идеи Комбефера; с некоторых пор, высвобождаясь мало-помалу из тесных рамок догматичности и поддаваясь расширяющему кругозор влиянию прогресса, он пришел к мысли, что великолепным завершением эволюции явится преобразование Великой Французской республики в огромную всемирную республику. Если же говорить о методах действия, то в данных обстоятельствах он стоял за насилие против насилия. В этом он не изменился и остался верен той грозной эпической школе, которая определяется словами: Девяносто третий год.
Анжольрас стоял на каменных ступенях, опершись на ствол своего карабина. Он был погружен в раздумье, он вздрагивал, словно на него налетали порывы ветра; в местах, где веет смерть, порою веет и пророческий дух. Глаза его, приняв выражение глубокой сосредоточенности, излучали мерцающий свет. Вдруг он поднял голову, его светлые кудри откинулись назад, окружая ее сияющим ореолом, словно волосы ангела, летящего на звездной колеснице ночи, словно разметавшаяся львиная грива, и Анжольрас воскликнул:
– Граждане, вы представляете себе будущее? Улицы городов, затопленные светом, зеленые ветви у порога домов, братство народов! Люди справедливы, старики благословляют детей, прошедшее в согласии с настоящим; мыслителям – полная свобода, верующим – полное равенство, вместо религии – небеса. Первосвященник – сам бог, вместо алтаря – совесть человека; нет больше ненависти на свете, в школах и мастерских – братство; наградой и наказанием служит гласность; труд для всех, право для всех, мир надо всеми; нет больше кровопролития, нет больше войн, матери счастливы! Покорить материю – первый шаг; осуществить идеал – это второй. Подумайте, как многого уже достиг прогресс! Некогда первобытные племена взирали в ужасе на гидру, вздымающую океанские воды, на дракона, изрыгающего огонь, на страшного владыку воздуха грифона с крыльями орла и когтями тигра, – на чудовищных тварей, которые превосходили человека могуществом. Однако человек расставил западни, священные западни мысли, и в конце концов изловил чудовищ. Мы укротили гидру, и она зовется пароходом; мы укротили дракона, и он зовется локомотивом; мы вот-вот укротим грифона, мы уже поймали его, и он называется воздушным шаром. В тот день, когда завершится этот прометеев подвиг, когда воля человека окончательно обуздает трехликую Химеру древности – гидру, дракона и грифона, он станет властелином воды, огня и воздуха, он будет тем же для остальных одушевленных существ, чем древние боги были некогда для него. Итак, смелее вперед! Граждане, куда мы идем? К государству, которым руководит наука, к силе реальности, которая станет единственной общественной силой, к естественному закону, содержащему в себе самом право признания и осуждения и утверждающему себя своей очевидностью, к восходу истины, подобному восходу зари. Мы идем к единению народов, мы идем к единению человечества. Не будет ложных истин, не останется паразитов. Реальность, управляемая истиной, – вот наша цель. Цивилизация будет заседать в сердце Европы, а позднее – в центре материка, в великом парламенте разума. Нечто подобное бывало и прежде. Собрания амфиктионов происходили дважды в год: раз в Дельфах, обиталище богов, другой раз в Фермопилах, усыпальнице героев. Будут амфиктионы Европы, будут амфиктионы земного шара. Франция носит в своем чреве это величественное будущее. Вот чем беременно девятнадцатое столетие; Франция достойна завершить то, что зачато Грецией. Слушай меня, Фейи, честный рабочий, сын народа, сын народов. Я уважаю тебя! О да, ты прозреваешь грядущее, о да, ты прав. У тебя нет ни отца, ни матери, Фейи, и ты избрал вместо матери человечество, вместо отца – право. Тебе суждено здесь умереть, то есть восторжествовать. Граждане, что бы с нами ни случилось нынче, ждет ли нас поражение или победа, – все равно, мы творим революцию. Подобно тому как пожары озаряют весь город, революции озаряют все человечество. Во имя чего мы творим революцию, спросите вы? Я только что сказал: во имя Истины. С точки зрения политической существует один лишь принцип: верховная власть человека над самим собой. Моя власть над моим «я» называется Свободой. Там, где объединяются две таких верховных власти или более, возникает государство. Однако в этом союзе нет никакого самоотречения. Тут верховная власть добровольно уступает известную долю самой себя, чтобы образовать общественное право. Доля эта одинакова для всех. Равноценность уступок, которые каждый делает обществу, называется Равенством. Общественное право – не что иное, как защита всеми прав каждого в отдельности. Такая защита всеми прав каждого называется Братством. Точка пересечения всех этих видов верховной власти, собранных вместе, называется Обществом. Так как пересечение есть соединение, то такая точка есть узел. Отсюда возникает то, что называют социальной связью. Иные именуют это общественным договором, что, собственно, то же самое: этимологически слово «договор» образовалось из понятия связи. Условимся, как понимать равенство. Если свобода – вершина, то равенство – основание. Но равенство, граждане, вовсе не стрижка под одну гребенку всего, что способно расти и развиваться, не сборище высоких трав и низкорослых дубов, не соседство зависти и недоброжелательства, которые взаимно обеспложивают друг друга; в гражданском отношении – это открытая дорога для всех способностей, в политическом – равноправие всех голосов при голосовании, в религиозном – одинаковая свобода совести для каждого. У равенства есть могучее орудие – бесплатное и обязательное обучение. Право на грамоту – вот с чего надо начать. Начальная школа обязательна для всех, средняя школа доступна всем – вот основной закон. Следствием одинакового образования является общественное равенство. Да, просвещение! Свет! Свет! Все исходит из света и к нему возвращается. Граждане, девятнадцатый век велик, но двадцатый будет счастливым веком. Не будет тогда ничего похожего на прежнюю историю. Не придется опасаться, как теперь, завоеваний, захватов, вторжений, соперничества вооруженных наций, перерыва в развитии цивилизации, зависящего от брака в царской фамилии, от рождения наследника в династии тиранов; не будет раздела народов конгрессом, расчленения, вызванного крушением династии, борьбы двух религий, столкнувшихся лбами, будто два адских козла на мостике бесконечности. Не будет больше голода, угнетения, проституции от нужды, нищеты от безработицы, ни эшафота, ни кинжала, ни сражений, ни случайного разбоя в чаще происшествий. Я мог бы сказать, пожалуй: не будет и самих происшествий. Настанет всеобщее счастье. Человечество выполнит свое назначение, как земной шар выполняет свое; между душой и небесными светилами установится гармония; дух будет тяготеть к истине, как планеты, вращаясь, тяготеют к солнцу. Друзья, мы живем в мрачную годину, и я говорю с вами в мрачный час, но этой страшной ценой мы платим за будущее. Революция – это наш выкуп. О, человечество будет освобождено, возвеличено и утешено! Мы заверяем его в том с нашей баррикады. Откуда может раздаться голос любви, если не с высот самопожертвования? Братья, вот здесь, на этом месте, объединяются те, кто мыслит, с теми, кто страдает. Не из камней, не из балок, не из железного лома построена наша баррикада; она сложена из великих идей и великих страданий. Здесь несчастье соединяется с идеалом. День сливается с ночью и говорит ей: «Я умру с тобой, а ты возродишься со мною». Из слияния всех скорбей рождается вера. Страдания несут сюда свои предсмертные муки, а идеи – свое бессмертие. Эта агония и это бессмертие, соединившись воедино, станут нашей смертью. Братья, кто умрет здесь, умрет в сиянии будущего, и мы сойдем в могилу, всю пронизанную лучами зари.
Анжольрас закончил свою речь – вернее, прервал ее; его губы беззвучно шевелились, как будто он продолжал говорить сам с собой. Все смотрели на него, затаив дыхание, словно стараясь расслышать его слова. Рукоплесканий не было, но долго еще переговаривались шепотом. Слово подобно дуновению ветра; вызываемое им волнение умов похоже на волнение листвы под ветром.
Глава 6. Мариус угрюм, Жавер лаконичен.
Поговорим о том, что происходило в мыслях Мариуса. Припомним состояние его души. Как мы недавно отметили, все представлялось ему только видением. Он смутно воспринимал окружающее. Над Мариусом словно нависла тень громадных зловещих крыльев, распростертых над умирающими. Ему чудилось, что он сошел в могилу, он чувствовал себя как бы по ту сторону бытия и видел лица живых глазами мертвеца.
Как очутился здесь г-н Фошлеван? Зачем он пришел? Что ему здесь делать? Мариус вовсе не задавался такими вопросами. К тому же отчаянию свойственно вселять в нас уверенность, что другие также охвачены им, поэтому Мариусу казалось естественным, что все идут на смерть.
Сердце его сжималось только при мысли о Козетте.
Впрочем, г-н Фошлеван не говорил с ним, не смотрел на него и даже как будто не слышал слов Мариуса: «Я знаю его».
Но такое поведение Фошлевана успокаивало Мариуса, мы сказали бы даже, радовало, если бы это слово подходило к его переживаниям. Ему всегда представлялось немыслимым заговорить с этим загадочным человеком, который казался ему одновременно и подозрительным, и внушающим уважение. Кроме того, он очень давно не встречался с ним, что еще больше осложняло дело для такой робкой и скрытной натуры, как Мариус.
Пятеро избранных ушли с баррикады по переулку Мондетур; с виду они ничем не отличались от национальных гвардейцев. Один из них плакал, уходя. На прощание они обнялись с теми, кто оставался.
Когда ушли пятеро возвращенных к жизни, Анжольрас вспомнил о приговоренном к смерти. Он вошел в нижнюю залу. Жавер, привязанный к столбу, стоял задумавшись.
– Тебе ничего не нужно? – спросил Анжольрас.
Жавер спросил:
– Когда вы убьете меня?
– Подождешь. Теперь у нас все патроны на счету.
– Тогда дайте мне пить, – сказал Жавер.
Анжольрас сам подал ему стакан и, так как Жавер был связан, помог напиться.
– Это все? – снова спросил Анжольрас.
– Я устал стоять у столба, – отвечал Жавер. – Не очень-то вежливо с вашей стороны оставить меня так на всю ночь. Связывайте меня как угодно, но почему не положить меня на стол, как вот этого?
И кивком головы он указал на труп г-на Мабефа.
Припомним, что в глубине залы стоял большой длинный стол, на котором отливали пули и готовили патроны. Теперь, когда патроны были набиты и весь порох истрачен, стол освободился.
По приказу Анжольраса четыре повстанца отвязали Жавера от столба. Пока его развязывали, пятый держал штык у его груди. Руки его оставили связанными за спиной, а ноги спутали тонким, но прочным ремнем, позволяющим делать шаги в пятнадцать дюймов, – так поступают с теми, кого отправляют на эшафот; затем Жавера подвели к столу в глубине залы и уложили на нем, крепко перехватив веревкой поперек тела.
Хотя такая система пут исключала всякую возможность бегства, для пущей безопасности его связали еще способом, называемым в тюрьмах «мартингалом», то есть укрепили на шее веревку, которая, спускаясь от затылка, раздваивается у пояса и, пройдя между ног, скручивает кисти рук.
Пока Жавера связывали, какой-то человек, стоя в дверях, смотрел на него с необыкновенным вниманием. Тень, падавшая от него, заставила Жавера повернуть голову. Он поднял глаза и узнал Жана Вальжана. Он даже не вздрогнул, но закрыл глаза с высокомерным видом и промолвил только:
– Этого следовало ожидать.
Глава 7. Положение осложняется.
Быстро рассветало. Но ни одно окно не отворялось, ни одна дверь не приоткрывалась: это была заря, но не пробуждение. Солдат, занимавших конец улицы Шанврери, против баррикады, отвели назад; улица казалась безлюдной и простиралась перед прохожими в зловещем покое. Улица Сен-Дени была безмолвна, словно аллея сфинксов в Фивах. На перекрестках, белевших в лучах зари, не было ни одного живого существа. Нет ничего печальнее утренней прозрачности пустынных улиц.
Ничего не было видно, но что-то доносилось до слуха. Где-то неподалеку происходило таинственное движение. Все говорило о том, что близилась страшная минута. Как и накануне вечером, дозорных отозвали обратно, на этот раз всех до одного.
Баррикада была укреплена сильнее, чем при первой атаке. После ухода пяти повстанцев ее надстроили еще выше.
Опасаясь неожиданного нападения с тыла, Анжольрас, по совету дозорных, обследовавших район рынка, принял важное решение: он велел загородить узкий проход переулка Мондетур, который до сих пор оставался свободным. Для этого вдоль нескольких домов разобрали мостовую еще дальше. Таким образом, баррикада, перегородившая три улицы каменной стеной – спереди улицу Шанврери, слева Лебяжью и Малую Бродяжную, справа улицу Мондетур, – стала действительно почти неприступной; правда, защитники ее оказались наглухо запертыми. У нее было три фронта, но не осталось ни одного выхода. «Не то крепость, не то мышеловка», – сказал, смеясь, Курфейрак.
У входа в кабачок Анжольрас велел сложить в кучу штук тридцать оставшихся булыжников, «вывороченных зря», как выразился Боссюэ.
В той стороне, откуда должна была начаться атака, стояла такая глубокая тишина, что Анжольрас приказал всем занять боевые посты.
Каждому выдали порцию водки.
Ничего нет необычайнее баррикады, которая готовится выдержать нападение. Каждый устраивается поудобнее, точно на спектакле. Кто прислоняется к стене, кто облокотится, кто обопрется плечом. Некоторые сооружают себе скамью из булыжников. Здесь мешает угол стены – от него отходят подальше; там выступ – надо укрыться под его защиту. Левши в большой цене: они занимают места, неудобные для других. Многие устраиваются так, чтобы вести бой сидя. Всем хочется найти положение, в котором удобно убивать и покойно умирать. Во время роковой июньской битвы 1848 года один повстанец, одаренный необычайной меткостью и стрелявший с площадки на крыше, велел принести себе туда вольтеровское кресло; там его и поразил залп картечи.
Как только командир приказал приготовиться к бою, беспорядочная суета на баррикаде тотчас прекратилась: перестали перекидываться словами, собираться в кружки, перешептываться по углам, разбиваться на группы. Все, что бродило в мыслях, сосредоточилось на одном и превратилось в ожидание атаки. Баррикада перед нападением – воплощенный хаос; в грозный час – воплощенная дисциплина. Опасность порождает порядок.
Лишь только Анжольрас взял свой двуствольный карабин и занял выбранный им пост перед отверстием наподобие бойницы, все замолчали. Вдоль стены, сложенной из булыжников, раздалось легкое сухое потрескивание. Это заряжали ружья.
Несмотря ни на что, все держались более гордо и более уверенно, чем когда-либо: предельное самоотвержение есть самоутверждение; надежды ни у кого не оставалось, но оставалось отчаяние. Отчаяние – последнее оружие, иногда приводящее к победе, как сказал Вергилий. Крайняя решимость идет на крайние средства. Порою броситься в пучину смерти – это способ избежать крушения, и крышка гроба становится тогда спасительной доской.
Как и накануне вечером, внимание всех было обращено, можно сказать, приковано, к перекрестку улицы, уже освещенной зарей и ясно различимой.
Ждать пришлось недолго. Со стороны Сен-Ле явственно послышалось какое-то движение, но оно не было похоже на шум вчерашней атаки. Лязг цепей, беспокойная тряска движущейся громады, звон меди по мостовой, какой-то торжественный грохот – все возвещало приближение грозной железной машины. Сотрясалось самое нутро старых тихих улиц, проложенных и застроенных для мирного плодотворного общения людских интересов и идей, – улиц, не приспособленных для чудовищных перекатов колес войны.
Пристальный взгляд бойцов, устремленный на перекресток, стал еще напряженней.
И вот показалась пушка.
Артиллеристы катили орудие, приготовленное для стрельбы и снятое с передка; двое поддерживали лафет, четверо толкали колеса, другие везли позади зарядный ящик. Видно было, как дымится зажженный фитиль.
– Огонь! – крикнул Анжольрас.
С баррикады дали залп, раздался ужасающий грохот; туча дыма скрыла и заволокла людей и орудие; через несколько секунд облако рассеялось, и пушка с людьми показалась снова. Капониры устанавливали орудие против баррикады, медленно, аккуратно, не торопясь. Ни один из них не был ранен. Затем наводчик налег на казенную часть, чтобы поднять прицел, и начал наводить пушку с серьезностью астронома, направляющего подзорную трубу.
– Браво, артиллеристы! – вскричал Боссюэ.
И вся баррикада разразилась рукоплесканиями.
Минуту спустя, прочно утвердившись на самой середине улицы, оседлав канаву, орудие приготовилось к бою. Оно разевало на баррикаду свою страшную пасть.
– А ну-ка, валяй! – проговорил Курфейрак. – Вот так зверюга! Сперва в щелчки, а потом в кулаки. Армия протягивает к нам свою лапищу. Баррикаду здорово встряхнет. Ружьем нащупывают, пушкой бьют.
– Это восьмидюймовое орудие нового образца, из бронзы, – добавил Комбефер. – Такие орудия при малейшем нарушении пропорции – на сто частей меди десять частей олова – могут взорваться. Излишек олова делает их ломкими. В стволе могут получиться пустоты и раковины. Чтобы избежать этой опасности и увеличить заряд, пожалуй, следовало бы вернуться к набивке обручей, как в четырнадцатом веке, и насадить на дуло, от казенной части до цапфы, ряд стальных колец. А до тех пор стараются помочь горю, чем могут: с помощью трещотки удается определить, где появились трещины и раковины в стволе орудия. Но есть лучший способ, это движущаяся искра Грибоваля.
– В шестнадцатом веке пушки были нарезные, – заметил Боссюэ.
– Да, – подтвердил Комбефер, – это увеличивает силу удара, но уменьшает его точность. Кроме того, при стрельбе на короткую дистанцию траектория не имеет нужного угла, парабола ее чрезмерно увеличивается, снаряд летит недостаточно прямолинейно и не в состоянии поразить то, что встретит на своем пути. А в сражении это необходимо и тем важнее, чем ближе неприятель и чем чаще должна стрелять пушка. Этот недостаток натяжения кривой снаряда в нарезных пушках шестнадцатого века зависел от слабости заряда, а слабые заряды в подобных орудиях отвечали требованиям баллистики и способствовали сохранности лафетов. В общем, такой деспот, как пушка, не волен делать все, что захочет; ее сила в сущности – большая слабость. Скорость пушечного ядра только шестьсот миль в час, тогда как скорость света – семьдесят тысяч миль в секунду. Таково превосходство Иисуса Христа над Наполеоном.
– Зарядите ружья, – приказал Анжольрас.
Способно ли укрепление выдержать пушечное ядро? Пробьет ли его выстрелом? Вот в чем вопрос. Пока повстанцы перезаряжали ружья, артиллеристы заряжали пушку.
Защитники редута застыли в тревожном ожидании.
Грянул выстрел, раздался грохот.
– Есть! – крикнул веселый голос.
И в ту же секунду, как ядро попало в баррикаду, внутрь ее скатился Гаврош.
Он пробрался с Лебяжьей улицы и легко перелез через добавочную баррикаду, отгородившую запутанные переулки Малой Бродяжной.
Гаврош произвел куда большее впечатление на баррикаде, чем ядро.
Оно застряло в груде хлама, разбив всего-навсего одно из колес омнибуса и доконав старые сломанные роспуски Ансо. Увидев это, вся баррикада разразилась хохотом.
– Валяйте дальше! – крикнул Боссюэ артиллеристам.
Глава 8. Артиллеристы дают понять, что с ними шутки плохи.
Гавроша окружили.
Но он не успел ничего рассказать. Мариус отвел его в сторону, весь дрожа.
– Зачем ты сюда пришел?
– Вот те на! – воскликнул мальчик. – А вы-то сами? – И он смерил Мариуса пристальным, спокойно-дерзким взглядом. Его глаза казались больше от сиявшей в них гордости.
Мариус продолжал строгим тоном:
– Кто тебе велел возвращаться? Передал ты по крайней мере письмо по адресу?
По правде сказать, Гавроша немного мучила совесть. Торопясь вернуться на баррикаду, он скорее отделался от письма, чем передал его. Он принужден был сознаться самому себе, что несколько легкомысленно доверился незнакомцу, даже не разглядев его лица в темноте. Что верно, то верно, человек был без шляпы, но это не меняет дела. Словом, в душе он поругивал себя и боялся упреков Мариуса. Чтобы выйти из положения, он избрал самый простой способ – начал бессовестно врать.
– Гражданин, я передал письмо привратнику. Барышня спала. Она получит письмо, как только проснется.
Отправляя письмо, Мариус преследовал двойную цель – проститься с Козеттой и спасти Гавроша. Ему пришлось удовольствоваться лишь половиной задуманного.
Он вдруг усмотрел какую-то связь между посылкой письма и присутствием г-на Фошлевана на баррикаде. Указав Гаврошу на г-на Фошлевана, он спросил:
– Ты знаешь этого человека?
– Нет, – ответил Гаврош.
Как мы уже говорили, Гаврош и в самом деле видел Жана Вальжана только в ту ночь.
Смутные и болезненные подозрения, зародившиеся было в мозгу Мариуса, рассеялись. Разве он знал убеждения г-на Фошлевана? Может быть, г-н Фошлеван республиканец. Тогда его участие в этом бою совершенно понятно.
Между тем Гаврош, уже успев удрать на другой конец баррикады, кричал: «Где мое ружье?».
Курфейрак приказал отдать ему оружие.
Гаврош предупредил «товарищей», как он называл повстанцев, что баррикада оцеплена. Ему удалось добраться сюда с большим трудом. Со стороны Лебяжьей дорогу держал под наблюдением линейный батальон, составив ружья в козлы на Малой Бродяжной; с противоположной стороны улицу Проповедников занимала муниципальная гвардия. Прямо против баррикады были сосредоточены основные силы.
Сообщив эти сведения, Гаврош прибавил:
– Разрешаю вам всыпать им как следует.
Между тем Анжольрас, стоя у своей бойницы, с напряженным вниманием следил за противником.
Осаждавшие, видимо, не слишком довольные результатом выстрела, стрельбы не возобновляли.
Подошел пехотный отряд и занял конец улицы, позади орудия. Солдаты разобрали мостовую и соорудили из булыжников, прямо против баррикады, небольшую низкую стену, нечто вроде защитного вала, дюймов восемнадцати высотой. За левым углом вала виднелась головная колонна пригородного батальона, сосредоточенного на улице Сен-Дени.
Анжольрасу в его засаде послышался тот особенный шум, какой бывает, когда достают из зарядных ящиков жестянки с картечью, и он увидел, как наводчик перевел прицел и слегка наклонил влево дуло пушки. Затем канониры принялись заряжать орудие. Наводчик сам схватил фитиль и поднес к запалу.
– Нагните головы, прижмитесь к стене! – крикнул Анжольрас. – Станьте на колени вдоль баррикады!
Повстанцы, толпившиеся у кабачка или покинувшие боевой пост при появлении Гавроша, стремглав бросились к баррикаде, но прежде чем они успели исполнить приказ Анжольраса, раздался выстрел и страшное шипение картечи. Это был оглушительный залп.
Снаряд был направлен в отсек баррикады. Отскочив от стены, осколки рикошетом убили двоих и ранили троих.
Было ясно, что, если так будет продолжаться, баррикада не устоит: пули пробивали ее.
Послышались тревожные возгласы.
– Попробуем-ка помешать второму выстрелу! – сказал Анжольрас.
И, опустив ниже ствол карабина, он прицелился в наводчика, который в эту минуту, нагнувшись над орудием, проверял и окончательно устанавливал прицел.
Наводчик был красивый сержант артиллерии, молодой, белокурый, с тонким лицом и умным выражением, характерным для войск этого грозного рода оружия, которое призвано, совершенствуясь в ужасном истреблении, убить в конце концов самую войну.
Комбефер, стоя рядом с Анжольрасом, глядел на юношу.
– Как жаль! – сказал он. – Какая отвратительная вещь бойня! Право, когда не будет королей, не будет и войн. Ты целишься в сержанта, Анжольрас, и даже не глядишь на него. Представь себе, быть может, это прекрасный юноша, отважный, умный, ведь молодые артиллеристы – народ образованный; у него отец, мать, семья, он, вероятно, влюблен, ему самое большее – двадцать пять лет, он мог бы быть твоим братом.
– Он и есть мой брат, – произнес Анжольрас.
– Ну да, и мой тоже, – продолжал Комбефер. – Послушай, давай пощадим его.
– Оставь. Так надо.
И по бледной, как мрамор, щеке Анжольраса медленно скатилась слеза.
В ту же минуту он спустил курок. Блеснул огонь. Вытянув руки вперед и закинув голову, словно стараясь вдохнуть воздух, артиллерист два раза перевернулся на месте, затем повалился боком на пушку и остался недвижим. Видно было, как по спине его, между лопатками, текла струя крови. Пуля пробила ему грудь навылет. Он был мертв.
Пришлось унести его и заменить другим. На этом баррикада выгадала несколько минут.
Глава 9. На что могут пригодиться старый талант браконьера и меткость в стрельбе, повлиявшие на приговор 1796 года.
На баррикаде стали совещаться. Скоро снова начнут палить из пушки. Под картечью им не протянуть и четверти часа. Необходимо было ослабить силу удара. Анжольрас отдал приказание:
– Туда надо положить тюфяк.
– У нас их нет, – возразил Комбефер, – на них лежат раненые.
Жан Вальжан, сидевший на тумбе поодаль, на углу кабачка, поставив ружье между колен, до этой минуты не принимал никакого участия в происходящем. Казалось, он не слышал, как бойцы ворчали вокруг него: «Эх, досада, ружье пропадает зря».
Услыхав приказ Анжольраса, он поднялся. Припомним, что, как только на улице Шанврери появились повстанцы, какая-то старуха, предвидя стрельбу, загородила свое окно тюфяком. Это было чердачное окошко на крыше шестиэтажного дома, стоявшего немного в стороне от баррикады. Тюфяк, растянутый поперек окна, снизу подпирали два шеста для сушки белья, а вверху его удерживали две веревки, казавшиеся издали шнурками и привязанные к гвоздям, вбитым в оконные наличники. Эти веревки, тонкие, как волоски, ясно выделялись на фоне неба.
– Не может ли кто-нибудь дать мне двуствольный карабин? – спросил Жан Вальжан.
Анжольрас, только что перезарядивший ружье, протянул ему свое.
Жан Вальжан прицелился в мансарду и выстрелил.
Одна из веревок, поддерживавших тюфяк, оборвалась.
Тюфяк держался теперь только на одной.
Жан Вальжан выпустил второй заряд. Вторая веревка хлестнула по окошку мансарды. Тюфяк скользнул меж шестами и упал на мостовую.
Баррикада зааплодировала.
Все кричали в один голос:
– Вот и тюфяк!
– Так-то так, – заметил Комбефер, – но кто пойдет за ним?
В самом деле, тюфяк упал впереди баррикады, между нападавшими и осажденными. Мало того, несколько минут назад солдаты, взбешенные гибелью сержанта-наводчика, залегли за устроенным ими валом из булыжников и открыли огонь по баррикаде, чтобы заменить затихшую поневоле пушку, молчавшую в ожидании пополнения орудийного расчета. Повстанцы не отвечали на пальбу, чтобы не тратить боевых припасов. Для баррикады ружья были не страшны, но улица, засыпаемая пулями, грозила гибелью.
Жан Вальжан пролез через оставленный в баррикаде проход, вышел на улицу, под градом пуль добрался до тюфяка, поднял его, взвалил на спину и вернулся на баррикаду.
Он сам загородил тюфяком опасное место и так приладил его к стене, что артиллеристы не могли его видеть. Покончив с этим, стали ждать залпа.
И он раздался.
Пушка с ревом изрыгнула заряд картечью. Но рикошета не получилось. Картечь застряла в тюфяке. Задуманный эффект удался. Баррикада была хорошо защищена.
– Гражданин, – обратился Анжольрас к Жану Вальжану. – Республика благодарит вас.
Боссюэ хохотал от восторга. Он восклицал:
– Просто неприлично, что тюфяк обладает таким могуществом. Жалкая подстилка торжествует над громовержцем! Все равно, слава тюфяку, победившему пушку!
Глава 10. Заря.
В эту самую минуту Козетта проснулась.
У нее была узкая, чистенькая, скромная комнатка с высоким окном, выходившая на задний двор, на восток.
Козетта ничего не знала о том, что происходило в Париже. Накануне она нигде не была и уже ушла в свою комнату, когда Тусен сказала: «Сдается мне, в городе неспокойно».
Козетта спала недолго, но крепко. Ей снились сладкие сны, может быть, потому, что ее постелька была совсем белая. Ей пригрезился кто-то похожий на Мариуса, озаренный сиянием. Солнце светило ей прямо в глаза, когда она проснулась, и ей почудилось сначала, что сон продолжается.
В первую минуту ее мысли, навеянные сном, были полны радости. Козетта чувствовала себя совершенно успокоенной. Как незадолго перед тем Жан Вальжан, она отогнала все тревоги и не хотела верить в несчастье. Она стала надеяться всеми силами души, сама не зная почему. Затем у нее вдруг сжалось сердце. Она не видела Мариуса уже целых три дня. Но она убедила себя, что он, несомненно, получил ее письмо и знает теперь, где она; он ведь так умен, он придумает способ с ней повидаться. И он непременно придет сегодня, может быть, в это самое утро. Было уже совсем светло, но лучи солнца еще падали горизонтально; вероятно, еще рано, однако пора вставать, чтобы успеть встретить Мариуса.
Она чувствовала, что не может жить без Мариуса и что одного этого довольно, чтобы Мариус пришел. Никаких возражений не допускалось. Ведь все это было бесспорно. И то уже нестерпимо, что ей пришлось страдать целых три дня. Три дня не видеть Мариуса – как только господь бог допустил это! Теперь эта жестокая шутка судьбы, это испытание было позади. Мариус придет и принесет добрые вести. Такова юность, она быстро осушает слезы, она считает страдание ненужным и не приемлет его. Юность – улыбка будущего, обращенная к неведомому, то есть к самому себе. Быть счастливой – естественно для юности, самое дыхание ее как будто напоено надеждой.
К тому же Козетта никак не могла припомнить, что говорил ей Мариус о возможном своем отсутствии – самое большее на один день – и чем он объяснял его. Все мы замечали, как ловко прячется монета, если ее уронишь на землю, с каким искусством превращается она в невидимку. Бывает, что и мысли проделывают с нами ту же штуку: они забиваются куда-то в уголок мозга – и кончено, они потеряны, припомнить их невозможно. Козетта немножко подосадовала на бесплодные усилия своей памяти. Она сказала себе, что очень совестно и нехорошо с ее стороны позабыть слова, сказанные Мариусом.
Она встала с постели и совершила двойное омовение – души и тела, молитву и умывание.
Можно лишь в крайнем случае ввести читателя в спальню новобрачных, но никак не в девичью спальню. Даже стихи едва осмеливаются на это, а прозе вход туда запрещен.
Это чашечка нераспустившегося цветка, белизна во мраке, бутон нераскрывшейся лилии, куда не должен заглядывать человек, пока в нее не заглянуло солнце. Женщина, еще нерасцветшая, священна. Полураскрытая девическая постель, прелестная нагота, боящаяся самой себя, белая ножка, прячущаяся в туфле, грудь, которую прикрывают перед зеркалом, словно у зеркала есть глаза, сорочка, которую поспешно натягивают на обнаженное плечо, если скрипнет стул или проедет мимо коляска, завязанные ленты, застегнутые крючки, затянутые шнурки, это смущение, эта легкая дрожь от холода и стыдливости, изящная робость движений, трепет испуга там, где нечего бояться, последовательные смены одежд, очаровательных, как предрассветные облака, – рассказывать об этом не следует, упоминать об этом – и то уже дерзость.
Глаз человека должен взирать на пробуждение юной девушки с еще большим благоговением, чем на восход звезды. Беззащитность должна внушать особенное уважение. Пушок персика, пепельный налет сливы, звездочки снежинок, бархатистые крылья бабочки – все это грубо в сравнении с целомудрием, которое даже не ведает, что оно целомудренно. Молодая девушка – это неясная греза, но еще не воплощение любви. Ее альков скрыт в темной глубине идеала. Нескромный взор – грубое оскорбление для этого смутного полумрака. Здесь даже созерцать – значит осквернять.
Поэтому мы совсем не будем описывать милую утреннюю суетню Козетты.
В одной восточной сказке говорится, что бог создал розу белой, но Адам взглянул на нее, когда она распускалась, и она застыдилась и заалела. Мы принадлежим к тем, кто смущается перед молодыми девушками и цветами, мы почтительно преклоняемся перед ними.
Козетта быстро оделась, причесалась, убрала волосы, что было очень просто в те времена, когда женщины не взбивали еще кудрей, подсовывая снизу подушечки и валики, и не носили накладных буклей. Потом она растворила окно и осмотрелась кругом, в надежде разглядеть хоть часть улицы, угол дома, кусочек мостовой, чтобы не пропустить появления Мариуса. Но из окна ничего нельзя было увидеть. Внутренний дворик окружали довольно высокие стены, и в просветах меж ними виднелись только какие-то сады. Козетта нашла, что сады эти отвратительны; первый раз в жизни цветы показались ей безобразными. Любой кусочек канавы на перекрестке понравился бы ей гораздо больше. Тогда она стала смотреть в небо, словно думая, что и оттуда может явиться Мариус.
Вдруг она расплакалась. Это было вызвано не переменчивостью ее настроений, но упадком духа от несбывшихся надежд. Она смутно почувствовала что-то страшное. Вести и впрямь иногда доносятся по воздуху. Она говорила себе, что не уверена ни в чем, что потерять друг друга из виду – значит погибнуть, и мысль, что Мариус мог бы явиться ей с неба, показалась ей уже не пленительной, а мрачной.
Потом набежавшие тучки рассеялись, вернулись покой и надежда, и невольная улыбка, полная веры в бога, вновь появилась на ее губах.
В доме все еще спали. Там царила безмятежная тишина. Ни одна ставня не отворялась. Каморка привратника была заперта, Тусен еще не вставала, и Козетта решила, вполне естественно, что и отец ее спит. Видно, много пришлось ей выстрадать и страдать еще до сих пор, если она пришла к мысли, что отец ее жесток; но она полагалась на Мариуса. Затмение такого светила казалось ей совершенно невозможным. Время от времени она слышала вдалеке какие-то глухие удары и говорила себе: «Как странно, что в такой ранний час хлопают воротами». То были пушечные залпы, громившие баррикаду.
Под окном Козетты, на несколько футов ниже, на старом почерневшем стенном карнизе прилепилось гнездо стрижа; край гнезда слегка выдавался за карниз, и сверху можно было заглянуть в этот маленький рай. Мать сидела в гнезде, распустив крылья веером над птенцами, отец порхал вокруг, взад и вперед, принося в клюве корм и поцелуи. Восходящее солнце золотило это счастливое семейство; здесь царил в веселье и торжестве великий закон размножения, и нежная тайна расцветала в сиянии утра. С солнцем в волосах, с грезами в душе, освещенная зарей и светящаяся любовью, Козетта невольно наклонилась и, едва осмеливаясь признаться, что думает при этом о Мариусе, залюбовалась птичьим семейством, самцом и самочкой, матерью и птенцами, охваченная тем глубоким волнением, какое вызывает в чистой девушке вид гнезда.
Глава 11. Ружье, которое бьет без промаха, но никого не убивает.
Осаждавшие продолжали вести огонь. Ружейные выстрелы чередовались с картечью, правда, не производя особых повреждений. Пострадала только верхняя часть фасада «Коринфа»; окна второго этажа и мансарды под крышей, пробитые пулями и картечью, постепенно разрушались. Бойцам, занимавшим этот пост, пришлось его покинуть. Впрочем, в том и состоит тактика штурма баррикад: стрелять как можно дольше, чтобы истощить боевые запасы повстанцев, если те по неосторожности вздумают отвечать. Как только по более слабому ответному огню становится заметно, что патроны и порох на исходе, дается приказ идти на приступ. Анжольрас не попался в эту ловушку: баррикада не отвечала.
При каждом залпе Гаврош оттопыривал щеку языком в знак глубочайшего презрения.
– Ладно, – говорил он, – рвите тряпье, нам как раз нужна корпия.
Курфейрак громко требовал объяснений, почему картечь не попадает в цель, и кричал пушке:
– Эй, тетушка, ты что-то заболталась!
В бою стараются интриговать друг друга, как на балу. Вероятно, молчание редута начало беспокоить осаждавших и заставило их опасаться какой-нибудь неожиданности; необходимо было заглянуть через груду булыжников и разведать, что творилось за этой бесстрастной стеной, которая стояла под огнем, не отвечая на него. Вдруг повстанцы увидели на крыше соседнего дома блиставшую на солнце каску. Прислонясь к высокой печной трубе, там стоял пожарный, неподвижно, словно на часах. Взгляд его был устремлен прямо вниз, внутрь баррикады.
– Этот соглядатай нам вовсе ни к чему, – сказал Анжольрас.
Жан Вальжан вернул карабин Анжольрасу, но у него оставалось ружье.
Не говоря ни слова, он прицелился в пожарного, и в ту же секунду сбитая пулей каска со звоном полетела на мостовую. Испуганный солдат поспешно скрылся.
На его посту появился другой наблюдатель. Это уже был офицер. Жан Вальжан, перезарядив ружье, прицелился во вновь пришедшего и отправил каску офицера вдогонку за солдатской каской. Офицер не стал упорствовать и мгновенно ретировался. На этот раз намек был принят к сведению. Больше никто не появлялся на крыше; слежка за баррикадой прекратилась.
– Почему вы не убили его? – спросил Боссюэ у Жана Вальжана.
Жан Вальжан не ответил.
Глава 12. Беспорядок на службе порядка.
– Он не ответил на мой вопрос, – шепнул Боссюэ на ухо Комбеферу.
– Этот человек расточает благодеяния при помощи ружейных выстрелов, – ответил Комбефер.
Те, кто хоть немного помнит эти давно прошедшие события, знают, что национальная гвардия предместий храбро боролась с восстаниями. Особенно яростной и упорной она показала себя в июньские дни 1832 года. Какой-нибудь безобидный кабатчик из «Плясуна», «Добродетели» или «Канавки», чье заведение бастовало по случаю мятежа, дрался, как лев, видя, что его танцевальная зала пустует, и шел на смерть за порядок, олицетворением которого считал свой трактир. В ту эпоху, одновременно буржуазную и героическую, рыцари идеи стояли лицом к лицу с паладинами наживы. Прозаичность побуждений нисколько не умаляла храбрости поступков. Убыль золотых запасов заставляла банкиров распевать Марсельезу. Буржуа восторженно проливали кровь ради торгового прилавка и со спартанским энтузиазмом защищали свою лавчонку – этот микрокосм родины.
В сущности, все это было очень серьезно. В борьбу вступали новые социальные силы в ожидании того дня, когда наступит равновесие.
Другим характерным признаком того времени было сочетание анархии с «правительственностью» (варварское наименование партии благомыслящих). Стояли за порядок, но без дисциплины. То барабан внезапно бил сбор по прихоти такого-то полковника капитальной гвардии; то какой-то капитан шел в огонь по вдохновению, а такой-то национальный гвардеец дрался «за идею» на свой страх и риск. В опасные минуты, в решительные дни действовали не столько по приказам командиров, сколько по внушению инстинкта. В армии, которая защищала порядок, встречались настоящие смельчаки, разившие мечом, вроде Фаннико, или пером, как Анри Фонфред.
Цивилизация, к несчастью, представленная в ту эпоху скорее объединением интересов, чем союзом принципов, была, или считала себя, в опасности; она взывала о помощи, и каждый, воображая себя ее оплотом, охранял ее, защищал и выручал, как умел; первый встречный брал на себя задачу спасения общества.
Усердие становилось иногда губительным. Какой-нибудь взвод национальных гвардейцев собственной властью учреждал военный совет и в пять минут выносил и приводил в исполнение приговор над пленным повстанцем. Жан Прувер пал жертвой именно такого суда. Это был свирепый закон Линча, который ни одна партия не имеет права ставить в упрек другой, так как он одинаково применяется и в республиканской Америке, и в монархической Европе. Но суду Линча легко было впасть в ошибку. Как-то в дни восстания на Королевской площади национальные гвардейцы погнались было со штыками наперевес за молодым поэтом по имени Поль-Эме Гарнье, и он спасся только потому, что спрятался в подворотне дома № 6. Ему кричали: «Вот еще один сенсимонист!» – и чуть не убили. Он и в самом деле нес под мышкой томик мемуаров герцога Сен-Симона. Какой-то национальный гвардеец прочел на обложке слово «Сен-Симон» и завопил: «Смерть ему!».
6 Июня 1832 года отряд национальных гвардейцев предместья под командой вышеупомянутого капитана Фаннико по собственной прихоти и капризу обрек себя на уничтожение на улице Шанврери. Этот факт, как он ни странен, был установлен судебным следствием, назначенным после восстания 1832 года. Капитан Фаннико, нечто вроде кондотьера порядка, нетерпеливый и дерзкий буржуа, из тех, кого мы только что охарактеризовали, фанатический и своенравный привереженец «правительственности», не мог устоять перед искушением открыть огонь до назначенного срока, домогаясь чести овладеть баррикадой в одиночку, то есть силами одного своего отряда. Взбешенный появлением на баррикаде красного флага, а вслед за ним старого сюртука, принятого им за черный флаг, он начал громко ругать генералов и корпусных командиров, которые изволят где-то там совещаться, не видя, что настал час решительной атаки, и, по знаменитому выражению одного из них, «предоставляют восстанию вариться в собственном соку». Сам же он находил, что баррикада вполне созрела для атаки и, как всякий зрелый плод, должна пасть; поэтому он отважился на штурм.
Его люди были такие же смельчаки, как он сам, – «бесноватые», как выразился один свидетель. Рота его, та самая, что расстреляла поэта Жана Прувера, была головным отрядом батальона, построенного на углу улицы. В ту минуту, когда этого меньше всего ожидали, капитан повел своих солдат в атаку на баррикаду. Это нападение, в котором было больше пыла, чем военного искусства, дорого обошлось отряду Фаннико. Не успели они пробежать и двух третей всего расстояния до баррикады, как их встретили дружным залпом. Четверо смельчаков, бежавших впереди, были убиты выстрелами в упор у самого подножия редута, и отважная кучка национальных гвардейцев, людей храбрых, но без всякой военной выдержки, после некоторого колебания принуждена была отступить, оставив на мостовой пятнадцать трупов. Минута замешательства дала повстанцам время перезарядить ружья, и нападавших настиг новый смертоносный залп прежде, чем они успели отойти за угол улицы, служивший им прикрытием. На миг отряд оказался между двух огней и попал под картечь своего же артиллерийского орудия, которое, не получив приказа, продолжало стрельбу. Бесстрашный и неосторожный Фаннико стал одной из жертв этой картечи. Он был убит пушкой, то есть самим правопорядком.
Эта атака, скорее отчаянная, чем опасная, возмутила Анжольраса.
– Глупцы! – воскликнул он. – Они губят своих людей, и мы только попусту тратим снаряды.
Анжольрас говорил как истый генерал восстания, да он и был им. Отряды повстанцев и карательные отряды сражаются неравным оружием. Повстанцы, быстро истощая свои запасы, не могут тратить лишние снаряды и жертвовать лишними людьми. Им нечем заменить ни пустой патронной сумки, ни убитого человека. Каратели, напротив, располагая армией, не дорожат людьми и, располагая арсеналом Венсена, не жалеют патронов. У карателей столько же полков, сколько бойцов на баррикаде, и столько же арсеналов, сколько на баррикаде патронташей. Вот почему эта неравная борьба одного против ста всегда кончается разгромом баррикад, если только внезапно не вспыхнет революция и не бросит на чашу весов свой пылающий меч архангела. Бывает и так. Тогда все приходит в движение, улицы бурлят, народные баррикады растут как грибы. Париж содрогается до самых глубин, ощущается присутствие quid divinum[146], веет духом 10 августа, веет духом 29 июля, вспыхивает дивное зарево, грубая сила пятится, как зверь с разинутой пастью, – и перед войском, этим львом, спокойно, с величием пророка, встает Франция.
Глава 13. Проблески надежды гаснут.
В хаосе чувств и страстей, стоящих на защите баррикады, есть всего понемногу: тут и смелость, и молодость, и гордость, энтузиазм, идеалы, убежденность, горячность, азарт и в особенности мерцающие лучи надежды.
Один из таких проблесков, одна из таких вспышек смутной надежды внезапно озарила в самый неожиданный миг баррикаду Шанврери.
– Слушайте! – крикнул вдруг Анжольрас, не покидавший своего наблюдательного поста. – Кажется, Париж просыпается.
И действительно, утром 6 июня, в течение часа или двух, могло показаться, что мятеж разрастается. Упорный звон набата Сен-Мерри раздул кое-где тлеющий огонь. На улице Пуарье, на улице Гравилье выросли баррикады. У Сен-Мартенских ворот какой-то юноша с карабином напал один на целый эскадрон кавалерии. Открыто, прямо посреди бульвара, он встал на одно колено, вскинул ружье, выстрелом убил эскадронного командира и, обернувшись к толпе, воскликнул: «Вот и еще одним врагом меньше!» Его зарубили саблями. На улице Сен-Дени какая-то женщина стреляла в муниципальных гвардейцев, скрывшись за жалюзи. Видно было, что при каждом выстреле вздрагивали планки жалюзи. На улице Виноградных лоз задержали подростка лет четырнадцати с полными карманами патронов. На многие посты были произведены нападения. На углу улицы Бертен-Пуаре полк кирасир во главе с генералом Кавеньяком де Баранем неожиданно подвергся ожесточенному обстрелу. На улице Планш-Мибре в войска швыряли с крыш битой посудой и кухонной утварью – это был дурной знак. Когда маршалу Сульту доложили об этом, старый наполеоновский воин призадумался, вспомнив слова Сюше при Сарагосе: «Когда старухи начнут выливать нам на голову ночные горшки, мы пропали».
Эти признаки, появившиеся в то время, когда считалось, что распространение бунта уже приостановлено, нарастающее гневное возбуждение толпы, искры, вспыхивающие здесь и там в глубоких залежах горючего, которые называют предместьями Парижа, – все это вместе взятое сильно встревожило военных начальников. Они спешили потушить очаги начинающегося пожара. До тех пор пока не были подавлены отдельные вспышки, отложили штурм баррикад Мобюэ, Шанврери и Сен-Мерри, чтобы потом бросить против них все силы и покончить все одним ударом. На улицы, охваченные восстанием, были направлены колонны войск; они разгоняли толпу на широких проспектах и обыскивали переулки, направо, налево, то осторожно и медленно, то стремительным маршем. Отряды вышибали двери в домах, из которых стреляли; в то же время кавалерийские разъезды рассеивали сборища на бульварах. Эти меры не обошлись без громкого ропота и беспорядочного шума, обычного при столкновениях народа с войсками. Именно этот шум и слышал Анжольрас в промежутках между канонадой и ружейной перестрелкой. Кроме того, он видел, как на конце улицы проносили раненых на носилках, и говорил Курфейраку: «Эти раненые не с нашей стороны».
Однако надежда длилась недолго, луч ее быстро померк. Меньше чем в полчаса все, что витало в воздухе, рассеялось; казалось, сверкнула молния, но грозы не последовало, и повстанцы вновь почувствовали, как опускается над ними свинцовый свод, которым придавило их равнодушие народа, покинувшего упрямцев на произвол судьбы.
Всеобщее движение, как будто смутно намечавшееся, совершенно заглохло; отныне внимание военного министра и стратегия генералов могли целиком сосредоточиться на трех или четырех баррикадах, которые еще держались.
Солнце поднималось все выше.
Один из повстанцев обратился к Анжольрасу:
– Мы голодны. Да неужто же мы так и умрем, не поевши?
Анжольрас, все еще стоя у своей бойницы и не спуская глаз с конца улицы, утвердительно кивнул головой.
Глава 14, Из которой читатель узнает имя возлюбленной Анжольраса.
Сидя на камне рядом с Анжольрасом, Курфейрак продолжал издеваться над пушкой, и всякий раз, как проносилось с отвратительным шипением темное облако пуль, называемое картечью, он встречал его взрывом насмешек.
– Ты совсем осипла, бедная старушенция, мне тебя жалко. Зря ты надсаживаешься. Разве это гром? Это просто кашель.
И все вокруг хохотали.
Курфейрак и Боссюэ, отвага и жизнерадостность которых возрастали вместе с опасностью, заменяли, по примеру г-жи Скаррон, пищу шутками, а вместо вина угощали всех весельем.
– Я восторгаюсь Анжольрасом, – говорил Боссюэ. – Его невозмутимая отвага восхищает меня. Он живет одиноко и потому, вероятно, всегда немного печален; сетует на свое величие, обрекающее его на вдовство. У нас, грешных, почти у всех есть любовницы, которые, сводя нас с ума, превращают в храбрецов. Когда ты влюблен, как тигр, совсем нетрудно драться, как лев. Это лучший способ отомстить нашим госпожам гризеткам за все их проделки. Роланд погиб, чтобы насолить Анжелике; всеми нашими героическими подвигами мы обязаны женщинам. Мужчина без женщины – это пистолет без курка; только женщина приводит его в действие. А вот у Анжольраса нет возлюбленной. Он ни в кого не влюблен и тем не менее бесстрашен. Быть холодным, как лед, и пылким, как огонь, – это просто неслыханно.
Анжольрас, казалось, не слушал Боссюэ, но если бы кто стоял рядом с ним, то уловил бы, как он проговорил вполголоса: Patria[147].
Боссюэ продолжал шутить, как вдруг Курфейрак воскликнул:
– А вот еще одна!
А затем, передразнивая дворецкого, докладывающего о прибытии гостя, прибавил:
– Ее превосходительство Восьмидюймовка.
И в самом деле, новое действующее лицо появилось на сцене – второе пушечное жерло.
Артиллеристы, поспешно сняв с передков второе орудие, установили его рядом с первым.
Это приближало развязку.
Несколько минут спустя оба орудия, быстро заряженные, стреляли по редуту прямой наводкой; взводы пехоты и гвардейцев предместья поддерживали огонь артиллерии ружейными выстрелами.
Где-то неподалеку также слышалась орудийная пальба. Пока обе пушки с остервенением били по редуту улицы Шанврери, два других огненных жерла, нацеленных одно с улицы Сен-Дени, другое – с улицы Обри-ле-Буше, решетили баррикаду Сен-Мерри. Четыре орудия перекликались, словно зловещее эхо.
Лай этих злобных псов войны звучал согласно.
Из двух пушек, стрелявших по баррикаде улицы Шанврери, одна палила картечью, другая ядрами.
Пушка, стрелявшая ядрами, была несколько приподнята, и ее прицел наведен с тем расчетом, чтобы ядро било по самому краю острого гребня баррикады, разрушало его и засыпало повстанцев осколками камней, точно картечью.
Такой способ стрельбы преследовал цель согнать бойцов со стены и принудить их укрыться внутри, другими словами, это предвещало штурм.
Как только удастся ядрами прогнать бойцов баррикады с гребня стены и картечью – от окон кабачка, колонны осаждающих немедленно хлынут на улицу, уже не боясь, что их увидят и обстреляют, с ходу пойдут на приступ, как накануне вечером, и – кто знает? – быть может, даже, захватив повстанцев врасплох, овладеют редутом.
– Нужно во что бы то ни стало обезвредить эти пушки, – сказал Анжольрас и громко скомандовал: – Огонь по артиллеристам!
Все были наготове. Баррикада, так долго молчавшая, разразилась бешеным огнем, один за другим раздались шесть или семь залпов, звучащих яростью и торжеством; улицу заволокло густым дымом, и через несколько минут сквозь этот туман, пронизанный огнем, можно было смутно разглядеть, что две трети артиллеристов полегли под колесами пушек. Те, кто выстоял, продолжали заряжать орудия с тем же суровым спокойствием, однако выстрелы стали реже.
– Вот здорово, – сказал Боссюэ Анжольрасу. – Это успех.
Анжольрас ответил, покачав головой:
– Еще четверть часа такого успеха, и на баррикаде не останется даже десяти патронов. – Вероятно, Гаврош слышал эти слова.
Глава 15. Вылазка Гавроша.
Вдруг Курфейрак заметил внизу баррикады, на улице, под самыми пулями, какую-то тень.
Захватив в кабачке корзинку из-под бутылок, Гаврош вылез через отсек и как ни в чем не бывало принялся опустошать набитые патронами сумки национальных гвардейцев, убитых у подножия редута.
– Что ты там делаешь? – закричал Курфейрак.
Гаврош задрал нос кверху:
– Наполняю свою корзинку, гражданин.
– Да ты не видишь картечи, что ли?!
– Эка невидаль, – отвечал Гаврош. – Дождь идет. А что дальше?
– Ступай обратно! – крикнул Курфейрак.
– Сию минуту, – ответил Гаврош.
И одним прыжком он очутился посреди улицы.
Как мы помним, отряд Фаннико, отступая, оставил за собой длинный ряд трупов.
Не менее двадцати убитых лежало на мостовой на всем протяжении улицы. Это означало двадцать патронташей для Гавроша и немалый запас патронов – для баррикады.
Дым застилал улицу, как туман. Кто видел облака в горном ущелье меж двух крутых откосов, может представить себе эту густую пелену дыма, как бы уплотненную двумя темными рядами высоких домов. Она медленно поднималась кверху, непрестанно появляясь снова; от этого все постепенно заволакивалось мутью, и даже дневной свет меркнул. Сражавшиеся лишь с трудом могли различить друг друга с противоположных концов улицы, правда, довольно короткой.
Такая мгла, выгодная для осаждавших и, вероятно, предусмотренная их командирами, которые должны были руководить штурмом баррикады, оказалась на руку и Гаврошу.
Под покровом этой дымовой завесы и благодаря своему маленькому росту он довольно далеко пробрался по улице, оставаясь незамеченным. Без особого риска он опустошил уже семь или восемь патронных сумок.
Он полз на животе, бегал на четвереньках, держа корзинку в зубах, вертелся, скользил, извивался, переползал от одного мертвеца к другому и опорожнял сумки и патронташи с проворством мартышки, щелкающей орехи.
С баррикады, от которой он отошел не так уж далеко, его не решались громко окликнуть, боясь привлечь к нему внимание врагов.
На одном из убитых, в мундире капрала, Гаврош нашел пороховницу.
– Пригодится вина напиться, – сказал он, пряча ее в карман.
Продвигаясь вперед, он достиг места, где пороховой дым стал реже, и тут стрелки линейного полка, залегшие в засаде за бруствером из булыжников, и стрелки национальной гвардии, выстроившиеся на углу улицы, сразу указали друг другу на существо, которое копошилось в тумане.
В ту минуту, как Гаврош освобождал от патронов труп сержанта, лежащего у тумбы, в мертвеца ударила пуля.
– Что за черт! – фыркнул Гаврош. – Они убивают моих покойников.
Вторая пуля высекла искру на мостовой, рядом с ним. Третья опрокинула его корзинку.
Гаврош оглянулся и увидел, что стреляет гвардия предместья.
Тогда он встал во весь рост и, подбоченясь, с развевающимися на ветру волосами, глядя в упор на стрелявших в него национальных гвардейцев, запел:
Затем подобрал корзинку, уложил в нее рассыпанные патроны, не потеряв ни одного, и, двигаясь навстречу пулям, отправился опустошать следующую патронную сумку. Четвертая пуля снова пролетела мимо. Гаврош распевал:
Пятой пуле удалось только вдохновить его на третий куплет:
Так продолжалось довольно долго.
Это было страшное и трогательное зрелище. Гаврош под обстрелом как бы поддразнивал стрелков. Казалось, ему было очень весело. Воробей задирал охотников. На каждый залп он отвечал новым куплетом. В него целились непрерывно и всякий раз давали промах. Беря его на мушку, солдаты и национальные гвардейцы смеялись. Он то ложился, то вставал, прятался за дверным косяком, выскакивал опять, исчезал, появлялся снова, убегал, возвращался, дразнил картечь, показывая ей длинный нос, и в то же время не переставал искать патроны, опустошать патронташи и наполнять свою корзинку. Повстанцы следили за ним с замиранием сердца. На баррикаде трепетали за него, а он – он распевал песенки. Казалось, это не ребенок, не человек, а какой-то маленький чародей. Какой-то сказочный карлик, неуязвимый в бою. Пули гонялись за ним, но он был проворнее их. Он как бы затеял страшную игру в прятки со смертью; всякий раз, как курносый призрак приближался к нему, мальчишка встречал его щелчком по носу.
Но одна пуля, более меткая или более предательская, чем другие, в конце концов настигла этот блуждающий огонек. Все увидели, как Гаврош пошатнулся и потом упал наземь. На баррикаде все вскрикнули в один голос; но в этом пигмее таился Антей; коснуться мостовой для гамена значит то же, что для великана коснуться земли; не успел Гаврош упасть, как поднялся снова. Он сидел на земле, струйка крови стекала по его лицу; протянув обе руки кверху, он обернулся в ту сторону, откуда раздался выстрел, и запел:
Он не кончил песни. Вторая пуля того же стрелка оборвала ее навеки. На этот раз он упал лицом на мостовую и больше не шевельнулся. Эта детская и великая душа отлетела.
Глава 16. Как брат может стать отцом.
В это самое время по Люксембургскому саду – ведь мы ничего не должны упускать из виду в этой драме – шли двое детей, держась за руки. Одному можно было дать лет семь, другому лет пять. Промокшие под дождем, они брели по солнечной стороне аллеи, старший вел младшего; бледные, одетые в лохмотья, они напоминали серых птичек. «Мне ужасно хочется есть», – говорил младший.
Старший с покровительственным видом вел брата левой рукой, а в правой держал прутик.
Они были совсем одни в саду. Там было пусто, так как полиция распорядилась запереть садовые ворота по случаю восстания. Отряды войск, стоявшие там биваком, ушли сражаться.
Как попали сюда эти дети? Быть может, они убежали из незапертой караульной будки, быть может, удрали из какого-нибудь уличного балагана, который находился поблизости – у Адской заставы, или на площади перед Обсерваторией, или на соседнем перекрестке, где возвышается фронтон с надписью: Invenerunt parvulum pannis involutum[148], а может быть, накануне вечером, в час закрытия парка, они обманули бдительность сторожей и спрятались на ночь в одном из павильонов для чтения газет. Как бы то ни было, они бродили где вздумается и, казалось, пользовались полной свободой. Если ребенок бродит где вздумается и пользуется полной свободой – значит, он заблудился. Бедные малыши и в самом деле заблудились.
Это были те самые дети, о которых, как припомнит читатель, так заботился Гаврош. Дети Тенардье, приписываемые г-ну Жильнорману и проживавшие у Маньон, которые теперь, словно опавшие листья, оторвались от всех этих сломанных веток и катились по земле, гонимые ветром.
Их одежда, такая опрятная во времена Маньон, что служило ей рекомендацией в глазах г-на Жильнормана, обратилась в рубище.
Отныне эти существа переходили в рубрику «покинутых детей», которых статистика учитывает, а полиция подбирает, теряет и вновь находит на парижской мостовой.
Лишь в такой тревожный день бедняжки и могли забраться в сад: если бы сторожа их заметили, они прогнали бы вон этих оборвышей. Маленьких нищих не пускают в общественные парки; между тем следовало бы подумать, что они, как и прочие дети, имеют право любоваться цветами.
Эти двое проникли сюда только благодаря запертым решеткам. Они нарушили правила. Они прокрались в сад и остались там. Запертые ворота не дают сторожам права отлучиться, надзор якобы продолжается, но ослаблен; сторожа, сами захваченные всеобщим волнением и больше заинтересованные тем, что происходило на улице, чем в саду, уже не наблюдали за ним и проглядели двух маленьких преступников.
Накануне шел дождь, да и утром тоже накрапывало. Но июньские ливни не идут в счет. Спустя час после грозы едва можно заметить, что этот ясный чудесный день был залит слезами. Летом земля высыхает от слез так же быстро, как щечка ребенка.
Во время летнего солнцестояния яркий полуденный свет, если можно так выразиться, пронзает вас насквозь. Он завладевает всем. Он приникает и льнет к земле, как будто сосет ее. Можно подумать, что солнце мучит жажда. Оно осушает ливень, как стакан воды, и выпивает дождь одним глотком. Еще утром везде струились ручьи, после полудня все покрыто пылью.
Нет ничего пленительнее зелени, омытой дождем и осушенной лучами солнца; это свежесть, пронизанная теплом. Сады и луга, где корни утопают в воде, а цветы – в солнечных лучах, курятся, словно сосуды с благовониями, и источают все ароматы земли. Все смеется, поет и тянется вам навстречу. Вы испытываете сладостное опьянение. Весна – преддверие рая; солнце помогает человеку терпеть и ждать.
Существуют люди, которые и не требуют большего; есть смертные, которые говорят, любуясь небесной лазурью: «Вот все, что нам нужно!» Есть мечтатели, погруженные в мир чудес, черпающие в обожании природы безразличие к добру и злу, созерцатели вселенной, беспечно равнодушные к человеку, которые не понимают, зачем беспокоиться о каких-то там голодных, о каких-то жаждущих, о наготе бедняка в зимнюю стужу, об искривленном болезнью детском позвоночнике, об одре больного, о чердаке, о тюремной камере, о лохмотьях девушки, дрожащей от холода, – зачем расстраивать себя, когда можно мечтать, лежа под деревьями. Эти уравновешенные и внушающие ужас умы не знают жалости и всем довольны. Странная вещь, им довольно бесконечности. Великое стремление человека к конечному, которым можно овладеть, неведомо им. Конечное, предполагающее прогресс, возвышенный труд, не занимает их мыслей. Все то, что возникает из сочетания человеческого и божественного, бесконечного и конечного, ускользает от них. Лишь бы им стоять лицом к лицу с беспредельностью – и они блаженствуют. Они не знают радости, им ведом лишь восторг. Созерцание – вот их жизнь. История человечества для них всего лишь одна из страниц книги мироздания. Она не вмещает Целого; великое Целое остается вовне, – стоит ли заниматься такой мелочью, как человек? Человек страдает, что ж из этого? А вы поглядите, как восходит Альдебаран! У матери нет больше молока, новорожденный умирает, какое мне дело? Полюбуйтесь лучше, какую изумительную розетку образует под микроскопом кружок сосновой заболони! Разве может сравниться с этим самое тонкое кружево? Такие мыслители забывают о любви. Зодиак настолько поглощает их внимание, что мешает им видеть плачущего ребенка. Божество помрачает в них душу. Это племя отвлеченных умов, одновременно и великих и малых. Таким был Гораций, таким был Гете, может быть, даже Лафонтен; это великолепные эгоисты бесконечности, равнодушные зрители людских страданий. Они не замечают Нерона, если погода хороша; солнце затмевает для них костер, даже в зрелище смертной казни они ищут световых эффектов; они не слышат ни криков, ни рыданий, ни предсмертного хрипа, ни набата, они все находят прекрасным, если на дворе месяц май, всем довольны, если над их головой плывут пурпурные и золотистые облака; они твердо решили быть счастливыми, пока не погаснет сияние звезд и не умолкнут птицы.
Это злополучные счастливцы. Они не подозревают, что достойны сострадания, а между тем это так. Кто не плачет, тот ничего не видит. Они вызывают удивление и жалость, как вызвало бы жалость и удивление некое существо, сочетающее в себе ночь и день, безглазое, но со звездою посреди лба.
По мнению некоторых мыслителей, в бесстрастии и заключается высшая философия. Пусть так, но в их превосходстве таится тяжкий недуг. Можно быть бессмертным и вместе с тем хромым; тому свидетельство Вулкан. Можно подняться выше человека и опуститься ниже его. Природе свойственно безграничное несовершенство. Кто знает, не слепо ли само солнце?
Но как же быть тогда, кому верить? Solem quis dicere falsum audeat?[149] Неужели же иные гении, иные богочеловеки, люди-светила, могут заблуждаться? Значит, и то, что вверху, надо всем, на предельной высоте, в зените, то, что посылает земле столько света, может видеть плохо, видеть мало, не видеть вовсе? Разве это не должно привести в отчаяние? Нет, не должно. Но что же выше солнца? Божество.
6 Июня 1832 года, в одиннадцать часов утра, опустевший и уединенный Люксембургский сад был восхитителен. Залитые ярким светом, рассаженные в шахматном порядке деревья обменивались с цветами упоительным благоуханием и ослепительными красками. Опьянев от полуденного солнца, тянулись друг к другу ветки, словно искали объятий. В кленовой листве слышалось щебетание пеночек, ликовали воробьи, дятлы лазали по стволам каштанов, постукивая клювами по трещинам коры. На длинных цветочных грядках по праву царили горделивые лилии; нет аромата божественнее, чем аромат белизны. Разносился пряный запах гвоздики. Старые вороны времен Марии Медичи любезничали на верхушках густых деревьев. Солнце золотило и зажигало пурпуром тюльпаны – эти языки пламени, обращенные в цветы. Вокруг куртин с тюльпанами, словно искры от этих огненных цветов, кружились пчелы. Все было полно отрады и веселья, даже нависшие тучки; в этой угрозе нового дождя, столь желанного для ландышей и жимолости, не было ничего страшного; низко летающие ласточки были милыми его предвестницами. Всякому, кто находился в саду, дышалось привольно; жизнь благоухала; вся природа источала кротость, сочувствие, готовность помочь, отеческую заботу, ласку, свежесть зари. Мысли, внушенные небом, были нежны, как детская ручка, которую целуешь.
Белые нагие статуи под деревьями были одеты тенью, прорванной светом; солнце словно истерзало в клочья одеяния этих богинь; с их торсов свисали лохмотья лучей. Земля вокруг большого бассейна уже высохла настолько, что казалась выжженной. Слабый ветерок вздымал кое-где легкие клубы пыли. Несколько желтых листьев, уцелевших с прошлой осени, весело гонялись друг за другом, как бы играя.
В изобилии света таилось что-то успокоительное. Все было полно жизни, благоухания, тепла, испарений; под покровом природы вы угадывали бездонный животворный родник; во всех этих дуновениях, напоенных любовью, в этой игре отблесков и отсветов, в неслыханной щедрости лучей, в нескончаемом потоке струящегося золота вы чувствовали расточительность неистощимого и прозревали за этим великолепием, словно за огненной завесой, – звездного миллионера, бога.
Песок впитал всю грязь до последнего пятнышка, дождь не оставил ни одной пылинки. Цветы только что умылись; все оттенки бархата, шелка, лазури, золота, выходящие из земли под видом цветов, были безупречны. Эта роскошь сияла чистотой. В саду царила великая тишина умиротворенной природы. Небесная тишина, созвучная тысячам мелодий, воркованию птиц, жужжанию пчелиных роев, дуновениям ветерка. Все гармонии весенней поры сливались в пленительном хоре; голоса весны и лета вступали и умолкали в стройном порядке; когда кончалась сирень, расцветал жасмин; иные цветы запоздали, иные насекомые появились слишком рано; авангарды красных июньских бабочек братались с арьергардами белых бабочек мая. Платаны обновляли кору. От легкого ветра зыбились роскошные кроны каштанов. Это было великолепное зрелище. Ветеран из соседней казармы, любовавшийся садом через решетку, говорил: «Вот и весна встала под ружье, да еще в полной парадной форме».
Вся природа завтракала, все живое было приглашено к столу; в установленный час на небе была разостлана огромная голубая скатерть, а на земле громадная зеленая скатерть; солнце светило a giorno[150]. Бог угощал всю вселенную. Всякое создание получало свой корм, свою пищу. Дикие голуби – конопляное семя, зяблики – просо, щеглы – курослеп, малиновки – червей, пчелы – цветы, мухи – инфузорий, дубоносы – мух. Правда, они пожирали друг друга, в чем и заключается великая тайна добра и зла; но ни одна тварь не оставалась голодной.
Двое покинутых малышей очутились возле большого бассейна и, немного оробев от всего этого блеска, поспешили спрятаться, повинуясь инстинкту слабого и бедного перед всяким великолепием, даже неодушевленным; они укрылись за дощатым домиком для лебедей.
Время от времени, когда поднимался ветер, с разных сторон смутно доносились крики, гул голосов, шумный треск ружейной пальбы и тяжкое уханье пушечных выстрелов. Над крышами со стороны рынка тянулся дым. Вдалеке, как будто призывая на помощь, звонил колокол.
Дети, казалось, не замечали этого шума. Младший то и дело тихонько повторял: «Есть хочется».
Почти в ту же минуту, что и дети, к бассейну приблизилась другая пара. Какой-то толстяк лет пятидесяти вел за руку толстячка лет шести. Вероятно, отец с сыном. Шестилетний карапуз держал в руке большую сдобную булку.
В те годы многие домовладельцы со смежных улиц – Принцессы и Адской – имели ключи от Люксембургского сада, и в часы, когда ворота были заперты, пользовались этой льготой, впоследствии отмененной. Отец с сыном, по всей вероятности, жили в одном из таких домов.
Двое маленьких оборвышей заметили приближение «важного господина» и постарались получше спрятаться.
Это был какой-то буржуа. Быть может, тот самый, который здесь, у большого бассейна, как слышал однажды Мариус в своем любовном бреду, советовал сыну «избегать излишеств». У него был благовоспитанный чванный вид и большой рот, вечно раздвинутый в улыбку, потому что не мог закрыться. Такая застывшая улыбка, вызванная слишком развитой челюстью, на которую словно не хватило кожи, обнажает только зубы, а не душу.
У ребенка, зажавшего в руке надкусанную плюшку, был откормленный вид. Ребенок был наряжен национальным гвардейцем по случаю мятежа, а папаша оставался в гражданском платье – из осторожности.
Оба остановились у бассейна, где плескались двое лебедей. Буржуа, казалось, питал к лебедям особое пристрастие. Он был похож на них в том отношении, что тоже ходил вперевалку.
Лебеди плавали – в этом и проявляется их высокое искусство; они были восхитительны.
Если бы двое маленьких нищих прислушались и если бы доросли до понимания подобных истин, они могли бы запомнить поучения этого рассудительного человека. Отец говорил сыну:
– Мудрец довольствуется малым. Бери пример с меня, сынок. Я не люблю роскоши. Я никогда не украшал своего платья ни золотом, ни дорогими побрякушками; я предоставляю этот фальшивый блеск людям низкого умственного уровня.
Неясные крики, доносившиеся со стороны рынка, вдруг усилились; им вторили удары колокола и гул толпы.
– Что это такое? – спросил мальчик.
– Это сатурналии, – отвечал отец.
Тут он заметил двух маленьких оборванцев, укрывшихся за зеленым домиком для лебедей.
– Ну вот, начинается! – проворчал он.
И добавил, помолчав:
– Анархия проникла даже в этот сад.
Сын между тем откусил кусочек плюшки, выплюнул и сразу заревел.
– О чем ты плачешь? – спросил отец.
– Мне больше не хочется есть, – ответил ребенок.
Отец еще шире оскалил зубы:
– Вовсе не надо быть голодным, чтобы скушать булочку.
– Мне надоела булка. Она черствая.
– Ты больше не хочешь?
– Не хочу.
Отец показал ему на лебедей.
– Брось ее этим перепончатолапым.
Ребенок заколебался. Если не хочется булочки, это еще не резон отдавать ее другим.
– Будь же гуманным. Надо жалеть животных.
И, взяв у сына плюшку, он бросил ее в бассейн. Плюшка упала довольно близко от берега. Лебеди плавали далеко, на середине бассейна, и искали в воде добычу. Поглощенные этим, они не замечали ни буржуа, ни сдобной булки.
Видя, что плюшка вот-вот потонет, и беспокоясь, что даром пропадет добро, буржуа принялся отчаянно жестикулировать, чем привлек в конце концов внимание лебедей.
Они заметили, что на поверхности воды что-то плавает, повернулись другим бортом, точно настоящие корабли, и медленно направились к плюшке с добродетельным и величавым видом, который так подходит к белоснежному оперению этих птиц.
– Увидали морские сигналы и поплыли на всех парусах, – сказал буржуа, очень довольный собой.
В эту минуту отдаленный городской шум внезапно усилился На этот раз он стал угрожающим. Случается, что порыв ветра доносит звуки особенно явственно. Ветер, который подул теперь, донес дробь барабана, вопли, ружейные залпы, которым угрюмо вторили набатный колокол и пушки. Это совпало с появлением темной тучи, неожиданно закрывшей солнце.
Лебеди еще не успели доплыть до плюшки.
– Идем домой, – сказал отец, – там атакуют Тюильри.
Он снова схватил сына за руку.
– От Тюильри до Люксембурга, – продолжал он, – расстояние не больше, чем от короля до пэра; это недалеко. Скоро выстрелы посылаются градом.
Он взглянул на небо.
– А может, и туча разразится градом; само небо вмешалось в борьбу, младшая ветвь Бурбонов обречена на гибель. Идем скорей.
– Мне хочется посмотреть, как лебеди будут есть булочку, – захныкал ребенок.
– Нет, – возразил отец, – это было бы неблагоразумно.
И он увел маленького буржуа.
Неохотно покидая лебедей, сын оглядывался на бассейн до тех пор, пока не скрылся за поворотом аллеи, обсаженной деревьями.
Между тем двое маленьких бродяг, одновременно с лебедями, приблизились к плюшке, которая колыхалась на воде. Младший смотрел на булочку, старший следил за удаляющимся буржуа.
Отец с сыном вступили в лабиринт аллей, ведущих к большой лестнице в роще, возле улицы Принцессы.
Как только они скрылись из виду, старший быстро лег животом на закругленный край бассейна, уцепившись за него левой рукой, свесился над водой и, рискуя упасть, потянулся правой рукой с прутиком за булкой. Увидев неприятеля, лебеди поплыли быстрее, разрезая грудью воду, что оказалось на руку маленькому ловцу; вода под лебедями всколыхнулась, и одна из мягких концентрических волн подтолкнула плюшку прямо к прутику. Не успели лебеди подплыть, как прут дотянулся до булки. Мальчик быстро хлестнул прутиком, распугал лебедей, зацепил плюшку, схватил ее и встал. Плюшка вся размокла, но дети были голодны и хотели пить. Старший разделил булку на две части, побольше и поменьше, сам взял меньшую, протянул большую своему братишке и сказал:
– На, залепи себе в дуло.
Глава 17. Mortuus pater filium moriturum expectat[151].
[151].Мариус, не раздумывая, соскочил с баррикады на улицу. Комбефер бросился за ним. Но было уже поздно. Гаврош был мертв. Комбефер принес на баррикаду корзинку с патронами, Мариус принес ребенка.
«Увы, – думал он, – я для сына сделал то же, что его отец сделал для моего отца: я возвращаю ему мой долг. Но Тенардье вынес моего отца с поля битвы живым, а я принес его мальчика мертвым».
Когда Мариус взошел в редут с Гаврошем на руках, его лицо было залито кровью, как и лицо ребенка.
Пуля оцарапала ему голову в ту минуту, как он нагибался, чтобы поднять Гавроша, но он даже не заметил этого.
Курфейрак сорвал с себя галстук и перевязал Мариусу лоб.
Гавроша положили на стол рядом с Мабефом и накрыли оба трупа черной шалью. Ее хватило и на старика и на ребенка.
Комбефер разделил между всеми патроны из принесенной им корзинки.
На каждого пришлось по пятнадцати зарядов.
Жан Вальжан по-прежнему неподвижно сидел на тумбе. Когда Комбефер протянул ему пятнадцать патронов, он покачал головой.
– Вот так чудак! – шепнул Комбефер Анжольрасу. – Быть на баррикаде и не сражаться!
– Что не мешает ему защищать баррикаду, – возразил Анжольрас.
– Среди героев тоже попадаются оригиналы, – заметил Комбефер.
– Этот совсем в другом роде, чем старик Мабеф, – прибавил Курфейрак, услышав их разговор.
Необходимо отметить, что обстрел баррикады не вызывал особого волнения среди ее защитников. Кто сам не побывал в водовороте уличных боев, не может даже представить себе, как странно чередуются там минуты затишья с бурей. Внутри баррикады люди бродят взад и вперед, разговаривают, шутят. Один мой знакомый сам слышал от бойца баррикады в самый разгар картечных залпов: «Мы здесь точно на холостой пирушке». Повторяем, редут на улице Шанврери казался внутри довольно спокойным. Все перипетии и все фазы испытания были уже или скоро должны были быть позади. Из критического их положение стало угрожающим, а из угрожающего, по всей вероятности, безнадежным. По мере того как горизонт омрачался, ореол героизма все ярче озарял баррикаду. Суровый Анжольрас возвышался над ней, стоя в позе юного спартанца, посвятившего свой меч мрачному гению Эпидота.
Комбефер, надев фартук, перевязывал раненых; Боссюэ и Фейи набивали патроны при помощи пороховницы, найденной Гаврошем на трупе капрала, и Боссюэ говорил Фейи: «Скоро нам придется нанять дилижанс для переезда на другую планету». Курфейрак с аккуратностью молодой девушки, приводящей в порядок свои безделушки, раскладывал на нескольких булыжниках, облюбованных им возле Анжольраса, весь свой арсенал: трость со шпагой, ружье, два седельных пистолета и маленький карманный. Жан Вальжан молча смотрел прямо перед собой. Один из рабочих укреплял на голове при помощи шнурка большую соломенную шляпу тетушки Гюшлу. «Чтобы не хватил солнечный удар», – объяснял он. Юноши из Кугурды города Экс весело болтали меж собой, как будто торопились вдоволь наговориться напоследок на своем родном наречии. Жоли, сняв со стены зеркало вдовы Гюшлу, разглядывал свой язык. Несколько повстанцев с жадностью грызли найденные в шкафу заплесневелые корки. А Мариус был озабочен тем, что скажет ему отец, встретясь с ним в ином мире.
Глава 18. Хищник становится жертвой.
Остановимся на одном психологическом явлении, имеющем место на баррикадах. Не следует упускать ничего, что характерно для этой необычайной уличной войны.
Несмотря на удивительное спокойствие повстанцев, которое мы только что отметили, баррикада кажется призрачным видением тем, кто находится внутри.
В гражданской войне есть что-то апокалипсическое; густой туман неведомого заволакивает яростные вспышки пламени; народные восстания загадочны, как сфинкс, и тому, кто сражался на баррикаде, она вспоминается, как сон.
Мы обрисовали на примере Мариуса то, что переживают люди в эти часы, и мы увидим последствия такого состояния, – это ярче и вместе с тем бледнее, чем реальная жизнь. Уйдя с баррикады, человек не помнит того, что он там видел. Он был страшен – и сам не сознавал этого. Вокруг него сражались идеи в человеческом облике, его голову озаряло сияние будущего. Там недвижно лежали трупы и стояли во весь рост призраки. Часы тянулись нескончаемо долго и казались часами вечности. Он как будто пережил смерть. Мимо него скользили тени. Что это было? Там он видел руки, обагренные кровью, там стоял оглушительный грохот и вместе с тем жуткая тишина; там были раскрытые рты, что-то кричавшие, и были раскрытые рты, умолкшие навсегда; его окружало облако дыма или, быть может, ночная тьма. Ему мерещилось, что он коснулся зловещей влаги, просочившейся из неведомых глубин; он разглядывал какие-то красные пятна на пальцах. Он ничего не помнил более.
Вернемся к улице Шанврери.
Вдруг, в промежутке между двумя залпами, послышался отдаленный бой часов.
– Полдень! – сказал Комбефер.
Часы не успели пробить двенадцать ударов, как Анжольрас выпрямился во весь рост наверху баррикады и крикнул громовым голосом:
– Тащите булыжники в дом. Завалите подоконники внизу и на чердаке. Половине людей – готовиться к бою, остальным – носить камни. Нельзя терять ни минуты.
На конце улицы показался взвод саперов-пожарников, в боевом порядке, с топорами на плечах.
Это мог быть только головной отряд колонны. Какой колонны? Несомненно, штурмовой, так как за саперами, посланными разрушить баррикаду, обычно следуют солдаты, которые должны взять ее приступом.
Очевидно, приближалось мгновение, когда им «затянут петлю на шее», как выразился в 1822 году г-н Клермон-Тоннер.
Приказ Анжольраса был выполнен с точностью и быстротой, свойственной бойцам на кораблях и баррикадах – этих двух полях битвы, откуда отступление невозможно. Меньше чем в минуту две трети камней, сложенных грудой по распоряжению Анжольраса перед входом в «Коринф», были перенесены во второй этаж и на чердак, и не истекла еще вторая минута, как этими камнями, искусно прилаженными один к другому, были заделаны до половины высоты окна второго этажа и чердачные оконца. По указанию главного строителя Фейи между камнями были предусмотрительно оставлены промежутки для ружейных стволов. Укрепить окна удалось тем легче, что картечь стихла. Оба орудия стреляли теперь ядрами по самому центру баррикады, чтобы сделать в ней пробоину или, если удастся, пролом для атаки.
Когда было готово заграждение из булыжников, предназначенное для обороны последнего оплота, Анжольрас велел перенести во второй этаж бутылки из-под стола, на котором лежал Мабеф.
– Кто же их выпьет? – спросил Боссюэ.
– Они, – ответил Анжольрас.
После этого повстанцы забаррикадировали нижнее окно, держа наготове железные брусья, которыми закладывали на ночь дверь кабачка изнутри.
Теперь это была настоящая крепость. Баррикада служила ей валом, кабачок – главной башней.
Оставшимися булыжниками завалили единственный проход в баррикаде.
Защитники баррикады всегда принуждены беречь боевые припасы, и противнику это известно, поэтому осаждающие проводят все приготовления с раздражающей медлительностью, выдвигаются раньше времени за линию огня осажденных, впрочем, больше для виду, чем на самом деле, и устраиваются поудобнее. Подготовка к атаке производится всегда с неторопливой методичностью, после чего вдруг разражается гроза.
Эта медлительность позволила Анжольрасу все проверить и, где возможно, улучшить. Он решил, что уж если таким людям суждено умереть, их смерть должна стать непревзойденным примером мужества.
Он сказал Мариусу:
– Мы оба здесь командиры. Я пойду в дом отдать последнее распоряжение. А ты оставайся снаружи и наблюдай.
Мариус занял наблюдательный пост на гребне баррикады.
Анжольрас велел заколотить дверь кухни, обращенной, как мы помним, в лазарет.
– Чтобы в раненых не попали осколки, – заметил он. Он отдавал последние распоряжения в нижней зале отрывистым, но совершенно спокойным голосом; Фейи выслушивал и отвечал ему от имени всех.
– Держите наготове топоры во втором этаже, чтобы обрубить лестницу. Топоры есть?
– Есть, – отвечал Фейи.
– Сколько штук?
– Два топора и колун.
– Хорошо. У нас в строю двадцать шесть бойцов. Сколько ружей?
– Тридцать четыре.
– Значит, восемь лишних. Держите их под рукой и зарядите, как и прочие. Пристегните сабли и заложите за пояс пистолеты. Двадцать человек на баррикаду. Шестеро – на чердак и к окну второго этажа; стрелять в нападающих сквозь бойницы между камней. Никому без дела не сидеть. Как только барабаны начнут бить атаку, вы, все двадцать, бегите на баррикаду. Те, кто прибегут первыми, займут лучшие места.
Расставив всех на посты, он повернулся к Жаверу и сказал:
– Я о тебе не забыл.
И, положив на стол пистолет, добавил:
– Кто выйдет отсюда последним, размозжит голову шпиону.
– Здесь? – спросил чей-то голос.
– Нет, его труп недостоин лежать рядом с нашими. Можно перебраться на улицу Мондетур через малую баррикаду. В ней только четыре фута высоты. Шпион крепко связан. Уведите его туда и пристрелите.
Один человек в эту минуту казался еще более бесстрастным, чем Анжольрас: то был Жавер.
В эту минуту появился Жан Вальжан.
Он стоял в группе повстанцев. Тут он выступил вперед и обратился к Анжольрасу:
– Вы начальник?
– Да.
– Вы благодарили меня недавно.
– Да, от имени Республики. Баррикаду спасли два человека: Мариус Понмерси и вы.
– Считаете ли вы, что я заслужил награду?
– Разумеется.
– Так вот, я прошу награды.
– Какой?
– Я хочу сам пустить пулю в лоб этому человеку.
Жавер поднял голову, увидел Жана Вальжана и произнес, сделав еле уловимое движение:
– Это справедливо.
Анжольрас, перезарядив свой карабин, обвел всех глазами:
– Возражений нет?
И повернулся к Жану Вальжану:
– Забирайте шпиона.
Жан Вальжан присел на край стола, где лежал Жавер, тем самым как бы заявив на него свои права. Он схватил пистолет и, судя по слабому треску, зарядил его.
Почти в ту же секунду раздался рожок горниста.
– К оружию! – крикнул Мариус с вершины баррикады.
Жавер засмеялся свойственным ему беззвучным смехом и, пристально глядя на повстанцев, сказал:
– А ведь вам придется не лучше моего.
– Все на баррикаду! – скомандовал Анжольрас.
Повстанцы в беспорядке бросились к выходу и, выбегая, получили прямо в спину – да простят нам это выражение – следующее напутствие Жавера:
– До скорого свидания!
Глава 19. Жан Вальжан мстит.
Оставшись наедине с Жавером, Жан Вальжан развязал стягивающую пленника поперек туловища веревку, узел которой находился под столом. После этого он знаком велел ему встать.
Жавер повиновался с той не поддающейся описанию улыбкой, в которой выражается все превосходство власти, даже если она в оковах.
Жан Вальжан взял Жавера за мартингал, точно вьючное животное за повод, и, медленно ведя его за собой, так как Жавер, спутанный по ногам, мог делать только маленькие шаги, вывел его из кабачка.
Жан Вальжан шел, зажав в руке пистолет.
Так они пересекли площадку внутри баррикады, имевшую форму трапеции. Повстанцы, поглощенные ожиданием неминуемой атаки, стояли к ним спиной.
Один Мариус, стоявший в стороне, в левом углу укрепления, заметил, как они проходили. Эти две фигуры – палача и осужденного – он увидел в озарении того же мертвенного света, который заливал его душу.
Жан Вальжан, хотя это было и нелегко, заставил связанного Жавера, не выпуская его из рук ни на миг, перелезть через низенький вал в переулок Мондетур.
Перебравшись через заграждение, они очутились одни в пустынном переулке. Никто не мог их видеть. От повстанцев их скрывал угловой дом. В нескольких шагах лежала страшная груда трупов, вынесенных с баррикады.
Среди мертвых тел выделялось синеватое лицо, обрамленное распущенными волосами, простреленная рука и полуобнаженная женская грудь. Это была Эпонина.
Жавер, искоса взглянув на мертвую женщину, заметил вполголоса, с полнейшим спокойствием:
– Мне кажется, я знаю эту девку.
Затем он повернулся к Жану Вальжану. Жан Вальжан переложил пистолет под мышку и устремил на Жавера пристальный взгляд, говоривший без слов: «Это я, Жавер».
– Твоя взяла, – ответил Жавер.
Жан Вальжан вытащил из жилетного кармана нож и раскрыл его.
– Ага, перо! – воскликнул Жавер. – Правильно. Тебе это больше подходит.
Жан Вальжан разрезал мартингал на шее Жавера, разрезал веревки на кистях рук, затем, нагнувшись, перерезал ему путы на ногах и, выпрямившись, сказал:
– Вы свободны.
Жавера трудно было удивить. Однако при всем его самообладании он был невольно потрясен. Он застыл на месте от удивления.
Жан Вальжан продолжал:
– Я не думаю, что выйду отсюда живым, но, если случайно мне удалось бы спастись, запомните: я живу под именем Фошлевана на улице Вооруженного человека, номер семь.
Жавер оскалился, как тигр, и, скривив рот, процедил сквозь зубы:
– Берегись.
– Уходите, – сказал Жан Вальжан.
Жавер переспросил:
– Ты сказал Фошлеван, улица Вооруженного человека?
– Номер семь.
– Номер семь, – повторил Жавер вполголоса. Он снова застегнул свой сюртук, распрямил плечи по-военному, сделал пол-оборота, скрестил руки и, подперев одной из них подбородок, зашагал в сторону рынка. Жан Вальжан провожал его взглядом. Пройдя несколько шагов, Жавер обернулся и крикнул Жану Вальжану:
– Вы мне надоели! Лучше убейте меня!
Сам того не замечая, Жавер перестал говорить «ты» Жану Вальжану.
– Уходите прочь! – крикнул тот.
Жавер удалялся медленным шагом. Минуту спустя он завернул за угол улицы Проповедников.
Как только Жавер скрылся из виду, Жан Вальжан разрядил пистолет в воздух.
После этого он возвратился на баррикаду и сказал:
– Дело сделано.
А в его отсутствие произошло следующее.
Мариус, занятый больше тем, что делалось на улице, чем в доме, не удосужился до этого времени поглядеть на шпиона, лежащего связанным в темном углу нижней залы.
Увидев его при дневном свете, когда он перелезал через баррикаду, идя на расстрел, Мариус узнал его. Внезапно в его мозгу мелькнуло воспоминание. Он припомнил, как встретился с полицейским надзирателем на улице Понтуаз и как тот дал ему два пистолета, те самые, что пригодились ему здесь, на баррикаде; он припомнил не только лицо, но и имя.
Однако это воспоминание было туманным и смутным, как и все его мысли. То была не уверенность, а скорее вопрос, который он задавал самому себе: «Не тот ли это полицейский надзиратель, который называл себя Жавером?».
Быть может, он еще успеет вступиться за этого человека. Но надо сначала удостовериться, действительно ли это тот самый Жавер.
Мариус окликнул Анжольраса, занявшего пост на противоположном конце баррикады.
– Анжольрас!
– Что?
– Как зовут этого человека?
– Какого?
– Полицейского агента. Ты знаешь его имя?
– Конечно. Он нам сказал.
– Как же его зовут?
– Жавер.
Мариус вздрогнул.
В этот миг послышался пистолетный выстрел.
Появился Жан Вальжан и крикнул: «Дело сделано».
Смертный холод сковал сердце Мариуса.
Глава 20. Мертвые правы, и живые не виноваты.
На баррикаде наступала агония.
Все объединилось, чтобы оттенить трагическое величие этих последних минут. Множество таинственных звуков, носившихся в воздухе, дыхание невидимых вооруженных толп, движущихся по городу, прерывистый галоп конницы, тяжелое громыхание артиллерии, перекрестная ружейная и орудийная пальба в лабиринте парижских улиц, пороховой дым, поднимающийся над крышами золотыми клубами, неясные и гневные крики, доносящиеся откуда-то издалека, грозные зарницы со всех сторон, звон набата Сен-Мерри, заунывный, как рыдание, мягкая летняя пора, великолепие неба, пронизанного солнечным сиянием и полного облаков, чудная погода и устрашающее безмолвие домов.
Ибо со вчерашнего дня два ряда домов по улице Шанврери обратились в две стены – в две неприступные стены: двери были заперты, окна захлопнуты, ставни затворены.
В те времена, столь отличные от наших, в час, когда народ решался покончить с отжившим старым порядком, с дарованной хартией или с действующими законами, когда воздух был насыщен гневом, когда город сам разрушал свои мостовые, когда восстание шептало на ухо благосклонно улыбающейся буржуазии свой пароль, – тогда мирные жители, охваченные мятежным духом, становились как бы союзниками повстанцев и дом братался с выросшей словно из-под земли крепостью и служил ей опорой. Но если время еще не назрело, если восстание не получало одобрения народа, если он отрекался от него, то повстанцы обречены были на гибель. Город вокруг них обращался в пустыню, все души ожесточались, все убежища запирались, и улицы открывали путь войскам, помогая овладеть баррикадой.
Нельзя насильно заставить народ шагать быстрее, чем он хочет. Горе тому, кто пытается понукать его! Народ не терпит принуждения. Тогда он бросает восставших на произвол судьбы. Повстанцы попадают в положение зачумленных. Дом становится неприступной кручей, дверь – преградой, фасад – глухой стеной. Стена эта все видит, все слышит, но не хочет прийти на помощь. Она могла бы приотвориться и спасти вас. Но нет! Эта стена – судьба. Она глядит на вас и выносит вам приговор. Какой угрюмый вид у запертых домов! Они кажутся вымершими, хотя на самом деле продолжают жить. Жизнь, как будто остановившаяся, течет там своим чередом. Никто не выходил оттуда целые сутки, хотя все налицо. Внутри такой скалы ходят, разговаривают, ложатся спать, встают, сидят в кругу семьи, едят и пьют, дрожат от страха, – вот что ужасно! Страх может извинить эту неумолимую жестокость; вызванная им растерянность – смягчающее обстоятельство. Порою – даже и такие случаи бывают – страх становится одержимостью; испуг может обратиться в ярость, так же, как осторожность – в бешенство; вот откуда взялось полное глубокого смысла выражение «бешеные из умеренных». Случается, что вспышки панического ужаса порождают злобу, подобную мрачному облаку дыма. «Чего еще надо этим смутьянам? Вечно они недовольны. Только сбивают с пути мирных горожан. Как будто и без того мало всех этих революций! Зачем их принесло сюда? Пусть проваливают! Поделом им. Сами виноваты. Пускай получат по заслугам. Нам-то какое дело! Всю нашу бедную улицу они изрешетили пулями. Это шайка негодяев. Главное, не отворяйте дверей!» И дом преображается в гробницу. Повстанец мучается в агонии перед запертой дверью, вот его настигает картечь, вот над ним заносят обнаженные сабли. Он знает, что, сколько ни кричи, помощь не придет, хотя его и слышат. Там есть стены, которые могли бы укрыть его, там есть люди, которые могли бы спасти его, – и у этих стен есть уши, но у людей сердца из камня.
Кто тут виноват?
Никто и каждый из нас.
Виновно то несовершенное время, в какое мы живем.
Утопия всегда действует на свой страх и риск, выливаясь в восстание, обращаясь из философской борьбы в борьбу вооруженную, из Минервы – в Палладу. Если утопия, потеряв терпение, становится мятежом, она знает, что ее ждет; почти всегда она приходит преждевременно. Тогда она смиряется и взамен триумфа стоически приемлет катастрофу. Она служит тем, кто отвергает ее, не жалуясь и даже оправдывая их; благородство ее в том, что она согласна быть всеми покинутой. Она непреклонна перед лицом препятствий и снисходительна к неблагодарным.
Впрочем, неблагодарность ли это?
С точки зрения человечества – да.
С точки зрения отдельной личности – нет.
Прогресс – это форма человеческого существования. Прогрессом зовется жизнь человечества в целом; прогрессом зовется поступательное движение человечества. Прогресс шагает вперед; это великое земное странствие человека к небесному и божественному. У него бывают остановки в пути, где он собирает отставших; бывают привалы, где он размышляет, созерцая некую чудесную землю Ханаанскую, вдруг открывшую перед ним свои просторы; бывают ночи, когда он спит; и нет для мыслителя более мучительной тревоги, чем видеть душу человечества, окутанную мраком, чем ощупью искать во тьме уснувший прогресс и не иметь силы разбудить его.
«Уж не умер ли бог?» – сказал однажды пишущему эти строки Жерар де Нерваль, путая прогресс с богом и принимая перерыв в движении за смерть высшего существа.
Те, кто отчаивается, не правы. Прогресс неизменно пробуждается, и в сущности, можно было бы сказать, что и во сне он продолжал свой путь, так как вырос за это время. Увидев его снова, вы убедитесь, что он стал выше ростом. Пребывать в покое так же невозможно для прогресса, как для потока; не ставьте ему преград, не бросайте каменных глыб в его русло; препятствия заставляют воду пениться, а человечество бурлить. Вот причина волнений и смут; но после каждого волнения оказывается, что вы продвинулись вперед. Пока не будет установлен порядок, – а порядок не что иное, как всеобщий мир, – пока не воцарятся на земле гармония и единство, до тех пор этапами прогресса будут служить революции.
Что же такое прогресс? Мы уже сказали. Непрерывное движение, жизнь народов.
Однако случается иногда, что преходящая жизнь отдельных личностей сопротивляется вечной жизни человеческого рода.
Признаемся без горечи: у каждого есть свои личные интересы, и вовсе не преступно отстаивать и защищать их; настоящему отпущена вполне законная доля эгоизма; преходящая жизнь имеет свои права и не обязана непрерывно жертвовать собою ради будущего. Нынешнее поколение, свершающее свой земной путь, не обязано сокращать его ради будущих, в сущности, подобных ему самому поколений, чей черед придет позже. «Я существую, – шепчет некто, именуемый Все. – Я молод и влюблен, я стар и хочу отдохнуть, я отец семейства, я тружусь, я преуспеваю, мои дела идут прекрасно, мои дома сдаются внаем, у меня есть сбережения, я счастлив, у меня жена и дети, я люблю их, я хочу жить, оставьте меня в покое». Вот почему благородные передовые отряды человечества встречают в известные периоды такое глубокое равнодушие.
К тому же надо признать, что, начиная войну, утопия сходит со своих лучезарных высот. Она, эта истина грядущего дня, вступая в войну, заимствует методы у вчерашней лжи. Она, наше будущее, поступает не лучше прошедшего. Чистая идея становится насилием. Она омрачает героизм этим насилием, за которое, по справедливости, должна отвечать; насилием грубым и неразборчивым в средствах, которое противоречит нравственным правилам, за что она роковым образом несет кару. Утопия-восстание сражается с древним военным кодексом в руках; она расстреливает шпионов, казнит предателей, уничтожает живых людей и бросает их в неведомую тьму. Она прибегает к помощи смерти – это тяжкий проступок. Можно подумать, будто утопия не верит больше в сияние истины, в ее несокрушимую и нетленную силу. Она разит мечом. Но меч не так прост. Всякий клинок – оружие обоюдоострое. Кто ранит другого, будет ранен и сам.
Сделав эту оговорку, – и со всею должной суровостью, – мы не можем, однако, не восхищаться славными борцами за будущее, жрецами утопии, безразлично – достигнут ли они своей цели, или нет. Они достойны преклонения, даже когда их дело срывается, и, может быть, именно в неудачах особенно сказывается их величие. Победа, если она содействует прогрессу, заслуживает всенародных рукоплесканий; но героическое поражение должно растрогать сердца. Победа блистательна, поражение величественно. Мы предпочитаем мученичество успеху, и для нас Джон Браун – выше Вашингтона, а Пизакане – выше Гарибальди.
Надо же, чтобы хоть кто-нибудь держал сторону побежденных.
Мы несправедливы к великим разведчикам будущего, когда они терпят крушение.
Революционеров обвиняют в том, что они сеют ужас. Всякая баррикада кажется покушением на общество. Революционерам вменяют в вину их теории, не доверяют их целям, опасаются каких-то задних мыслей, подвергают сомнению их честность. Их обвиняют в том, что против существующего социального строя они поднимают, нагромождают и воздвигают горы нужды, скорби, несправедливости, жалоб, отчаяния, извлекают с самого дна человеческого общества черные глыбы мрака, чтобы взобраться на их вершину и вступить в бой. Им кричат: «Вы разворотили мостовую ада!» Они могли бы ответить: «Вот почему наша баррикада вымощена благими намерениями».
Бесспорно, самое лучшее – мирно разрешать проблемы. Словом, что ни говори, когда смотришь на булыжник, вспоминаешь медведя из басни, а такая добрая воля больше всего тревожит общество. Но ведь спасение общества в его собственных руках; так пусть же оно само и проявит добрую волю. Тогда отпадет необходимость в крутых мерах. Изучить зло беспристрастно, признать, что оно существует, затем излечить от него. Вот к чему мы призываем общество.
Как бы там ни было, все те, кто, устремив глаза на Францию, сражается во всех концах вселенной за великое дело, опираясь на непреклонную логику идеала, – полны величия, даже поверженные, в особенности поверженные; они бескорыстно жертвуют жизнью за прогресс, они выполняют волю провидения, они творят священное дело. В назначенный срок, по ходу действия божественной драмы, они сходят в могилу с бесстрастием актера, подающего очередную реплику. Они обрекают себя на безнадежную борьбу, на стоическую гибель ради блистательного расцвета и неудержимого распространения во всем мире великого народного движения, которое началось 14 июля 1789 года. Эти солдаты – священнослужители. Французская революция – веление божества.
Впрочем, существует одно важное различие, и его необходимо добавить к другим, уже отмеченным в прежних главах: бывают вооруженные восстания, одобренные и поддержанные народом, – их зовут революцией, и восстания отвергнутые – их зовут мятежом.
Вспыхнувшее восстание – это идея, которая держит ответ перед народом. Если народ кладет черный шар, значит, идея бесплодна, восстание обречено на неудачу.
Народы не вступают в борьбу по первому зову, всякий раз, как того желает утопия. Нации не могут всегда и непрерывно проявлять душевную силу героев и мучеников.
Народ рассудителен. Восстание ему неугодно a priori; во-первых, потому, что часто приводит к катастрофе, во-вторых, потому, что всегда исходит из отвлеченной теории.
Но именно то и прекрасно, что всегда приносят себя в жертву те, кто способен жертвовать собой ради идеала, ради одного только идеала. Восстание порождается энтузиазмом. Энтузиазм может прийти в ярость, тогда он берется за оружие. Кроме того, всякое восстание, взяв на прицел правительство или государственный строй, метит выше. Так, например, вожди восстания 1832 года и, в частности, юные энтузиасты с улицы Шанврери сражались – мы настаиваем на этом – не против Луи-Филиппа как такового. В откровенной беседе большинство из них признавало достоинства этого умеренного короля, представлявшего не то монархию, не то революцию. Никто не питал к нему ненависти. Но они восставали против младшей ветви помазанников божьих в лице Луи-Филиппа, как прежде восставали против старшей ветви в лице Карла X; и, свергая монархию во Франции, они стремились, как мы уже говорили, ниспровергнуть во всем мире противозаконную власть человека над человеком и привилегий над правом. Сегодня Париж без короля, завтра – мир без деспотов. Примерно так они рассуждали. Цель их была, конечно, отдаленной, неясной, может быть, и недостижимой для них, но великой.
Таков порядок вещей. Люди жертвуют собой во имя этой призрачной мечты, которая оказывается почти всегда иллюзией для посвященного, но иллюзией, подкрепленной самой твердой уверенностью, какая доступна человеку. Повстанец видит мятеж в поэтическом озарении. Он идет навстречу своей трагической участи, опьяненный грезами о будущем. Кто знает? Быть может, они добьются своего. Правда, их слишком мало, против них целая армия; но они защищают право, естественный закон, верховную власть каждого над самим собой, от которой невозможно отречься добровольно, справедливость, истину и готовы умереть за это, если понадобится, как триста древних спартанцев. Они помнят не о Дон Кихоте, но о Леониде. И они идут вперед и, раз вступив на этот путь, не отступают, а стремятся все дальше очертя голову, видя впереди неслыханную победу, завершение революции, прогресс, увенчанный свободой, возвеличение человечества, всеобщее освобождение или в худшем случае Фермопилы.
Такие схватки за дело прогресса часто терпят неудачу, и мы уже объяснили почему. Паладину трудно увлечь за собой неподатливые толпы. Тяжеловесные, несметные, ненадежные именно в силу своей неповоротливости, они боятся риска, а достижение идеала всегда сопряжено с риском.
Не надо забывать к тому же, что здесь замешаны личные интересы, которые плохо вяжутся с идеалами и чувствами. Желудок подчас парализует сердце.
Величие и красота Франции именно в том, что она меньше зависит от брюха, чем другие народы; она охотно затягивает пояс потуже. Она первая пробуждается и последняя засыпает. Она стремится вперед. Она – искательница новых путей.
Это объясняется ее художественной натурой.
Идеал – не что иное, как кульминационный пункт логики, подобно тому, как красота – не что иное, как вершина истины. Народы-художники являются вместе с тем и народами-преемниками. Любить красоту – значит стремиться к свету. Именно поэтому светоч Европы, то есть цивилизацию, несла вначале Греция, которая передала его Италии, а та вручила его Франции. Великие народы-просветители! Vitae lampada tradunt[152].
Удивительная вещь! – поэзия народа является необходимым звеном его развития. Степень цивилизации измеряется силой воображения. Однако народ-просветитель непременно должен оставаться мужественным народом. Коринф, но не Сибарис. Кто поддается изнеженности, вырождается. Не надо быть ни дилетантом, ни виртуозом; надо быть художником. Не нужно стремиться к изысканности, нужно стремиться к совершенству. При этом условии вы даруете человечеству образец идеала.
У современного идеала свой тип в искусстве и свой метод в науке. Только с помощью науки можно воплотить возвышенную мечту поэтов: красоту общественного строя. Эдем будет восстановлен при помощи А + В. На той ступени, какой достигла цивилизация, точность – необходимый элемент прекрасного, и научная мысль не только помогает художественному чутью, но и дополняет его; мечта должна уметь вычислять. Искусству-завоевателю должна служить опорой наука, как боевой конь. Очень важно, чтобы эта опора была надежной. Современный разум – это гений Греции, колесницей которому служит гений Индии; Александр, восседающий на слоне.
Нации, застывшие в мертвых догмах или развращенные наживой, непригодны к тому, чтобы двигать вперед цивилизацию. Преклонение перед золотым или иным кумиром ведет к атрофии живых мускулов и действенной воли. Увлечение вопросами религии и торгашескими интересами омрачает славу народа, понижает духовный уровень, ограничивая его горизонт, и лишает присущей народам-миссионерам способности, божественной и человеческой одновременно, постигать общие для всего рода людского цели. У Вавилона нет идеала; у Карфагена нет идеала. Афины и Рим сохранили и пронесли сквозь кромешную тьму веков сияние цивилизации.
Народ Франции обладает теми же свойствами, что народы Греции и Италии. Франция – афинянка по красоте и римлянка по величию. Кроме того, у нее доброе сердце. Она готова все отдать. Она чаще, чем другие народы, способна на преданность и самопожертвование. Правда, она изменчива и непостоянна, в этом и состоит основная опасность для тех, кто мчится бегом, когда она хочет идти, или идет, когда ей вздумалось остановиться. У Франции бывают приступы грубого материализма, и ее высокий разум по временам засоряют идеи, которые недостойны французского величия и годятся разве для какого-нибудь штата Миссури или Южной Каролины. Что поделаешь? Великанше угодно притворяться карлицей; у огромной Франции бывают мелочные капризы. Вот и все.
Тут нечего возразить. Народы, как и светила, имеют право на затмение. Это еще не беда, лишь бы свет вернулся, лишь бы затмение не превратилось в вечную ночь. Заря и возрождение – синонимы. Новый восход светила соответствует неизменному обновлению человеческого «я».
Установим факты беспристрастно. Смерть на баррикаде или могила в изгнании являются для самопожертвования приемлемым и предвиденным концом. Настоящее имя самопожертвования – бескорыстие. Пусть всеми покинутые остаются покинутыми, пусть изгнанники идут в изгнание; ограничимся тем, что обратимся с мольбой к великим народам – не слишком далеко отступать, когда они отступают. Под предлогом возврата к здравому смыслу не следует опускаться слишком низко.
Существуют, бесспорно, и материя, и нужды дня, и личные интересы, и желудок, но нельзя допустить, чтобы требования желудка становились единственным законом. У преходящей жизни есть права, мы их признаем, но есть свои права и у вечной жизни. Увы, можно подняться на большую высоту, а затем вдруг упасть. Мы видим в истории такие случаи чаще, чем хотели бы. Какая-нибудь прославленная нация, приблизившаяся к идеалу, вдруг начинает копаться в грязи и находит в этом вкус; если ее спросят, по какой причине она покидает Сократа ради Фальстафа, она отвечает: «Потому что я люблю государственных мужей».
Еще одно слово, прежде чем вернуться к сражению на баррикаде.
Битвы, вроде той, о которой мы здесь повествуем, не что иное, как исступленный порыв к идеалу. Прогресс в оковах подвержен болезням и страдает этими трагическими припадками эпилепсии. Мы неизбежно должны были встретить на своем пути исконную болезнь прогресса – междоусобную войну. Здесь один из роковых этапов, одновременно и акт, и антракт нашей драмы, главным действующим лицом которой является человек, проклятый обществом, и истинное название которой «Прогресс».
Прогресс!
В этом возгласе, который часто вырывается у нас, воплощены все наши чаяния; и так как заключенной в них идее в дальнейшем развитии этой драмы предстоит пережить еще немало испытаний, да будет нам позволено здесь если не приподнять над ней покрывало, то по крайней мере хоть показать сквозь завесу яркое ее сияние.
Книга, лежащая перед глазами читателя, представляет собою от начала до конца, в целом и в частностях, – каковы бы ни были отклонения, исключения и отдельные срывы, – путь от зла к добру, от неправого к справедливому, от лжи к истине, от ночи к дню, от вожделений к совести, от тлена к жизни, от зверских инстинктов к понятию долга, от ада к небесам, от небытия к богу. Исходная точка – материя, конечный пункт – душа. В начале – чудовище, в конце – ангел.
Глава 21. Герои.
Вдруг барабан забил атаку.
Штурм разразился как ураган. Накануне, во мраке ночи, противник подползал к баррикаде бесшумно, как удав. Теперь же, среди бела дня, нападение врасплох на открытом пространстве было неосуществимо, потому что живые силы атакующих оказались на виду; раздался рев пушки, и войско ринулось на приступ. В яростном стремительном порыве мощная колонна регулярной пехоты, подкрепленная через равные промежутки национальной и муниципальной гвардией в пешем строю, опираясь на шумные, хотя и невидимые толпы, выступила на улицу беглым шагом, с барабанным боем, при звуках трубы, с саперами во главе, и, держа штыки наперевес, не сгибаясь под градом пуль, пошла прямо на баррикаду, с силой медного тарана, бьющего в стену.
Стена выдержала.
Повстанцы открыли бешеный огонь. Весь гребень осажденной баррикады засверкал вспышками выстрелов. Штурм был настолько яростным, что на минуту вся баррикада оказалась наводненной атакующими; но, стряхнув с себя солдат, как лев стряхивает собак, и лишь на миг покрывшись нападающими, словно скала морской пеной, она восстала вновь такая же крутая, черная и грозная.
Колонна, вынужденная отступить, осталась на улице в сомкнутом строю, страшная даже на открытой позиции, и ответила на огонь редута ожесточенной ружейной стрельбой. Те, кому приходилось видеть фейерверк, припомнят огненные снопы скрещенных молний, называемые букетом. Пусть они представят себе такой букет не в вертикальном, а в горизонтальном положении, мечущий пули, дробь и картечь с концов своих огненных стрел и сеющий смерть гроздьями громовержущих молний. Баррикада попала под этот град.
Обе стороны горели одинаковой решимостью. Храбрость доходила до дикого безрассудства и усугублялась каким-то свирепым героизмом, жертвующим в первую очередь жизнью самого героя. В ту эпоху солдаты национальной гвардии дрались, как зуавы. Войска стремились закончить битву, повстанцы – продолжать ее. Затягивать агонию в расцвете юности и здоровья – это уже не бесстрашие, а безумство. Для каждого участника этой схватки смертный час длился бесконечно. Вся улица покрылась трупами.
На одном конце баррикады находился Анжольрас, на другом Мариус. Анжольрас, державший в голове весь план обороны, берег себя и стоял в укрытии; три солдата, один за другим, упали мертвыми под его бойницей, даже не заметив его. Мариус сражался без прикрытия. Он стоял, как живая мишень, возвышаясь над стеной редута больше чем по пояс. Нет более буйного расточителя, чем скряга, если ему вздумается кутить, и никто так не страшен в сражении, как мечтатель. Мариус был грозен и задумчив. Он чувствовал себя в бою словно во сне. Он казался призраком с ружьем в руках.
Патроны у осажденных подходили к концу, но их шутки были неистощимы. В смертном вихре, закружившем их, они продолжали смеяться.
Курфейрак стоял с обнаженной головой.
– Куда же ты девал свою шляпу? – спросил Боссюэ.
– Они ухитрились в конце концов сбить ее пушечными ядрами, – отвечал Курфейрак.
Их насмешки чередовались с презрением.
– Кто может понять этих людей? – с горечью восклицал Фейи, перечисляя имена известных и даже знаменитых лиц, в том числе кое-кого из старой армии. – Они обещали примкнуть к нам, обязались нам помочь, поклялись в этом честью, они наши командиры – и они же нас предали!
Комбефер ответил с суровой усмешкой:
– Некоторые люди знакомы с правилами чести, как астрономы – со звездами: только издалека.
Баррикада была так густо засыпана разорванными гильзами от патронов, что можно было подумать, будто выпал снег.
У осаждавших было численное превосходство, у повстанцев – позиционное преимущество. Они расположились на вершине стены и в упор расстреливали солдат, которые, спотыкаясь среди раненых и убитых, застревали на крутом ее откосе. Баррикада, построенная подобным образом и отлично укрепленная подпорами изнутри, действительно представляла одну из тех позиций, откуда горстка людей может держать под угрозой целое войско. Тем не менее атакующая колонна, непрерывно пополняясь и увеличиваясь под градом пуль, неотвратимо приближалась; мало-помалу, шаг за шагом, медленно, но неуклонно армия зажимала баррикаду в тиски.
Атаки следовали одна за другой. Опасность нарастала.
И тогда на этой груде камней, на улице Шанврери, разразилась битва, достойная стен Трои. Изможденные, оборванные, изнуренные люди, которые больше суток ничего не ели и не смыкали глаз, которые могли выпустить всего лишь несколько зарядов и напрасно ощупывали пустые карманы, ища патронов, почти все раненные, кто в голову, кто в руку, забинтованные порыжелыми и почерневшими тряпками, – в изодранной и залитой кровью одежде, вооруженные негодными ружьями и старыми зазубренными саблями, преобразились в титанов. Баррикаду атаковали раз десять, одолевали ее высоту, проникали внутрь, но ни разу не могли взять.
Чтобы составить представление об этой борьбе, вообразите огонь, подложенный под костер из этих охваченных яростью сердец и посмотрите на разбушевавшийся пожар. То было не сражение, а жерло раскаленной печи; уста извергали пламя, лица были искажены. Казалось, то были уже не люди; бойцы пламенели яростью, и страшно было смотреть на этих саламандр войны, которые метались взад и вперед в багровом дыму. Мы отказываемся от описания всех сцен этой грандиозной сечи, и в целом и в их последовательности. Одной лишь эпопее дозволено заполнить двенадцать тысяч стихов изображением битвы.
Это напоминало ад брахманизма, самую ужасную из семнадцати бездн преисподней, называемую в Ведах «Лесом мечей».
Дрались врукопашную, грудь с грудью, пистолетами, саблями, кулаками; стреляли издалека и в упор, сверху, снизу, со всех сторон, с крыш домов, из окон кабачка, из отдушин подвала, куда забрались некоторые из повстанцев. Они сражались один против шестидесяти. Полуразрушенный фасад «Коринфа» был страшен. Татуированное картечью окно, с выбитыми стеклами и рамами, превратилось в бесформенную дыру, кое-как заваленную булыжниками. Боссюэ был убит; Фейи убит; Курфейрак убит; Жоли убит; Комбефер, пораженный в грудь тремя штыковыми ударами в тот миг, когда он наклонился, чтобы поднять раненого солдата, успел только взглянуть на небо и испустил дух.
Мариус все еще сражался, но был столько раз ранен, большей частью в голову, что лицо его исчезло под заливавшей его кровью, – казалось, оно закрыто было красным платком.
Один Анжольрас оставался невредимым. Когда ему не хватало оружия, он, не глядя, протягивал руку вправо или влево, и кто-нибудь из повстанцев подавал ему первый попавшийся клинок. Теперь у него остался лишь обломок от четырех шпаг; у Франциска I в битве при Мариньяне было шпагой меньше.
Гомер говорит: «Диомед убил Аксила, сына Тевфрания, обитавшего в счастливой Аризбе; Эвриал, сын Мекистея, лишил жизни Дреса, Офелтия, Эсепа и Педаса, зачатого наядой Абарбареей от беспорочного Буколиона; Уллис поразил Пидита Перкосийского; Антилох – Аблера, Полипет – Астиала, Полидамант – Ота Килленейского, Тевкр – Аретаона; Мегантий гибнет от копья Эврипила. Царь героев Агамемнон повергает во прах Элата, уроженца высоко стоящего города, омываемого звонкоструйной рекой Сатнионом». В наших старинных эпических поэмах вооруженный огненной секирой Эспландиан нападает на великана маркиза Свантибора, который, защищаясь, швыряет в рыцаря башни, вырванные им из земли. На наших древних стенных фресках изображены два герцога, Бретонский и Бурбонский, на конях, в боевых доспехах, в шлемах и с гербами на щитах; они мчатся друг на друга с бердышами в руке, опустив железные забрала, в железных сапогах, в железных перчатках, один в горностаевой мантии, другой в лазурном плаще; Бретонский герцог – с изображением льва между двух зубцов короны, герцог Бурбонский – с огромной лилией перед забралом. Но чтобы блистать великолепием, вовсе не надо носить герцогский шишак, как Ивон, или держать в руке живое пламя, как Эспландиан, или, подобно Филесу, отцу Полидаманта, привезти из Эпира прекрасные боевые доспехи, дар Япета, владыки мужей; достаточно отдать свою жизнь за свои убеждения или за верность присяге. Вот простоватый солдатик, вчерашний крестьянин из Боса или из Лимузена, с тесаком на боку, который околачивается возле нянек с детьми в Люксембургском саду; вот бледный молодой студент, склонившийся над анатомическим препаратом или над книгой, белокурый юнец, бреющий бородку ножницами, – возьмите их обоих, вдохните в них чувство долга, поставьте друг против друга на перекрестке Бушра или в тупике Планш-Мибре, заставьте одного сражаться за свое знамя, а другого за свой идеал, и пусть оба воображают, что они сражаются за родину. Начнется грандиозная битва, и тени, отброшенные этим пехотинцем и этим медицинским студентиком во время поединка на великую эпическую арену, где борется человечество, сравняются с тенью Мегариона, царя Ликии, родины тигров, сдавившего в железном объятии могучего Аякса богоравного.
Глава 22. Шаг за шагом.
Когда не осталось в живых никого из вожаков, кроме Анжольраса и Мариуса на противоположных концах баррикады, центр ее, так долго державшийся благодаря Курфейраку, Жоли, Боссюэ, Фейи и Комбеферу, наконец дрогнул. Пушка, не проломив бреши, годной для прохода, выбила в середине редута довольно широкий полукруглый выем; разрушенный ядрами гребень стены в этом месте обвалился, и из обломков, грудой сыпавшихся внутрь и наружу, образовалось как бы два откоса по обе стороны заграждения, внутренней и внешней. Внешний откос представлял собою наклонную плоскость, удобную для нападения.
Тут осаждавшие предприняли решительную атаку, и эта атака удалась. Сомкнутым строем, ощетинясь штыками, пехота беглым шагом неудержимо бросилась вперед, и на вершине укрепления в пороховом дыму показался мощный авангард штурмовой колонны. На этот раз все было кончено. Защищавшая центр группа повстанцев отступила в беспорядке.
И тогда в некоторых из них внезапно проснулась смутная жажда жизни. Очутившись под прицелом этого леса ружей, они не захотели умирать. Пришла та минута, когда в нас начинает глухо рычать инстинкт самосохранения и когда в человеке пробуждается зверь. Их оттеснили к высокому шестиэтажному дому, служившему опорой баррикаде. В этом доме они могли бы найти спасение. Дом был заперт наглухо и как бы замурован сверху донизу. Прежде чем отряд пехоты проник внутрь редута, дверь дома успела бы отвориться и мгновенно затвориться; эта вдруг приоткрывшаяся и тотчас захлопнутая дверь для отчаявшихся людей означала бы жизнь. Позади дома был выход на улицу, возможность бегства, простор. Они стучали в дверь ружейными прикладами и ногами, взывали о помощи, кричали, умоляли, простирали руки. Никто не отпер им. Голова мертвеца смотрела на них из слухового оконца третьего этажа.
Но Анжольрас и Мариус с кучкой в семь или восемь человек бросились к ним на помощь. «Ни шагу дальше!» – крикнул Анжольрас солдатам; когда какой-то офицер ослушался его, он убил офицера. Он стоял во внутреннем дворике редута, у стены «Коринфа», со шпагой в одной руке, с карабином в другой, держа открытой дверь кабачка и загораживая ее от атакующих. Тем, кто пал духом, он крикнул: «Осталась только одна дверь на волю, вот эта!» И, заслоняя их своим телом, один против целого батальона, он прикрывал их отход. Все бросились в дверь. Орудуя своим карабином, как палкой, применяя прием, называемый на языке фехтовальщиков «мельницей», Анжольрас отбился от штыков, направленных в него со всех сторон, и вошел в дверь последним; тут наступила страшная минута, когда солдаты пытались ворваться, а повстанцы старались запереть дверь. Дверь захлопнулась с такой силой, входя в дверную раму, что к ней прилипли отрезанные и раздавленные пальцы какого-то солдата, вцепившегося в наличник.
Мариус остался снаружи. Выстрелом ему раздробило ключицу; он почувствовал, что теряет сознание и падает. В этот миг, уже закрыв глаза, он ощутил, как его схватила чья-то могучая рука, и в его угасающем сознании, сливаясь с последним воспоминанием о Козетте, промелькнула мысль: «Я в плену. Меня расстреляют».
Не видя Мариуса среди бойцов, укрывшихся в кабачке, Анжольрас предположил то же самое. Но в такое мгновение каждый успевает подумать только о собственной смерти. Анжольрас наложил засов, опустил задвижку, защелкнул замок и, дважды повернув ключ, запер дверь, в то время как снаружи в нее неистово колотили прикладами и топорами солдаты и саперы. Атакующие столпились теперь перед этой дверью. Начинался штурм кабачка.
Надо отметить, что к этому времени солдаты остервенели.
Их привела в ярость гибель сержанта артиллерии, а кроме того, – еще более роковое обстоятельство, – за несколько часов до атаки среди них пустили слух, что повстанцы истязают пленных и что в кабачке находится обезглавленный труп солдата. Подобные опасные измышления обычно сопутствуют междоусобным войнам, и позднее клевета такого рода вызвала катастрофу на улице Транснонен.
Когда дверь была забаррикадирована, Анжольрас сказал товарищам:
– Продадим нашу жизнь подороже!
Затем он подошел к столу, на котором покоились Мабеф и Гаврош. Под черным покрывалом угадывались два неподвижных окоченелых тела, большое и маленькое, и два лица смутно обрисовывались под холодными складками савана. Со стола свешивалась рука, высунувшаяся из-под покрова. То была рука старика.
Анжольрас нагнулся и поцеловал его благородную руку с тем же почтением, с каким накануне целовал его в лоб.
Эти два поцелуя были единственными в жизни Анжольраса.
Сократим наш рассказ. Баррикада защищалась, словно ворота древних Фив; кабачок боролся, точно дом в Сарагосе. Оборонялись с угрюмым упорством. Никакой пощады. Никаких переговоров. Люди согласны умереть, только бы убивать. Когда Сюше говорит: «Сдавайтесь!» – Палафокс отвечает: «Нет! Палили из пушек, перейдем на ножи». При штурме кабачка Гюшлу можно было увидеть все: булыжники, которые градом сыпались на осаждавших из окон и с крыши и доводили солдат до неистовства, нанося им страшные увечья, выстрелы из подвалов и чердаков, ярость атаки, отчаяние сопротивления, и наконец, – когда удалось вышибить дверь, – бешеную, исступленную резню. Ворвавшись в кабачок, спотыкаясь о разбросанные по полу филенки выломанной двери, атакующие не нашли там ни одного бойца. Посреди нижней залы валялась винтовая лестница, обрубленная топором, да несколько раненых при последнем издыхании; все, кто не был убит, поднялись на второй этаж и открыли ожесточенный огонь из отверстия в потолке, откуда прежде спускалась лестница. На это ушли их последние патроны. Когда все было израсходовано, когда у этих обреченных, но все еще опасных противников не осталось ни пуль, ни пороха, каждый из них вооружился двумя бутылками из запаса, сохраненного, как мы помним, Анжольрасом, и принялся отбиваться от осаждавших этими грозными и хрупкими булавами. В бутылках была азотная кислота. Мы рассказываем мрачные подробности этой бойни, нигде ничего не утаивая. Увы, осажденные сражаются всем, что есть под рукой! Греческий огонь не обесчестил Архимеда, кипящая смола не обесчестила Баярда. На войне все ужасно, тут не из чего выбирать. Выстрелы атакующих, при всем неудобстве целиться снизу вверх, были убийственны. Края люка вскоре покрылись мертвыми головами, из которых сочились длинные струйки красной дымящейся крови. В воздухе стоял невообразимый грохот; густой, обжигающий дым заволакивал мглой кровавую битву. Не хватает слов, чтобы описать весь ужас этой минуты. Участники адской схватки потеряли человеческий образ. То уже не гиганты бились с великанами: картина напоминала скорее Мильтона и Данте, чем Гомера. Нападали дьяволы, защищались призраки.
Это был героизм, принявший чудовищный облик.
Глава 23. Голодный Орест и пьяный Пилад.
Наконец при помощи остатков лестницы, влезая друг другу на плечи, карабкаясь по стенам, цепляясь за перекрытия, рубя саблями у самого края люка последних, кто еще сопротивлялся, десятка два осаждавших – солдаты, национальные и муниципальные гвардейцы, вперемешку, почти все изуродованные при этом опасном штурме ранами в лицо, ослепленные кровью, разъяренные, озверелые, – пробились в залу второго этажа. Лишь один человек еще стоял на ногах – Анжольрас. У него уже не было ни патронов, ни сабли, в руках он держал только ствол от карабина, – приклад он разбил о головы солдат. Загородившись от нападающих бильярдным столом, он отступил в угол залы; и даже теперь гордый его взгляд, высоко поднятая голова, рука, сжимавшая обломок оружия, внушали такой страх, что вокруг него образовалась пустота. Послышались крики:
– Вот их вожак. Он-то и убил артиллериста. Он сам забрался туда, тем лучше для нас. Пусть там и остается. Расстреляем его на месте.
– Стреляйте, – сказал Анжольрас.
И, отбросив обломок карабина, скрестив руки, он подставил грудь пулям.
Отвага перед лицом смерти всегда покоряет людей. Как только Анжольрас скрестил руки на груди, готовый принять смерть, в зале стих оглушительный гул схватки, и хаос внезапно сменился торжественной могильной тишиной. Казалось, грозное величие безоружного и неподвижного Анжольраса укротило шум, казалось, этот юноша, единственный, кто не был ни разу ранен, надменный, прекрасный, залитый кровью, невозмутимый, словно он был уверен в своей неуязвимости, одним лишь властным, спокойным взглядом внушал уважение этой свирепой толпе, готовящейся убить его. Гордая осанка придавала его красоте в эту минуту особый, ослепительный блеск; по истечении страшных суток он оставался все таким же румяным и свежим, как будто его не брали ни пуля, ни усталость. Вероятно, именно про него говорил впоследствии кто-то из свидетелей, выступая перед военным судом: «Там был один бунтовщик, которого, я слыхал, называли Аполлоном». Один из национальных гвардейцев, целившихся в Анжольраса, опустил ружье со словами:
«Мне кажется, будто я стреляю в цветок».
Двенадцать солдат построились взводом в другом углу залы, против Анжольраса, и молча вскинули ружья.
Послышалась команда сержанта:
– На прицел!
Вдруг вмешался офицер:
– Погодите.
И обратился к Анжольрасу:
– Завязать вам глаза?
– Нет.
– Это вы убили сержанта артиллерии?
– Да.
В это время проснулся Грантэр.
Как мы помним, Грантэр со вчерашнего вечера спал в верхней зале кабачка, сидя на стуле и уронив голову на стол.
Он в полном смысле олицетворял собой старинное выражение: мертвецки пьяный. Чудовищная смесь полынной настойки, портера и спирта погрузила его в летаргический сон. Его стол был так мал, что не годился для баррикады, и его не трогали. Он сидел все в той же позе, навалившись на стол, положив голову на руки, окруженный стаканами, кружками и бутылками. Он спал беспробудным сном, точно медведь в спячке или насосавшаяся пиявка. Ничто на него не действовало – ни стрельба, ни ядра, ни картечь, залетавшая в окна залы, ни оглушительный грохот штурма. Лишь время от времени храп его вторил пушечной пальбе. Казалось, он ждал, что шальная пуля избавит его от необходимости просыпаться. Вокруг него лежало много трупов, и он ничем не отличался на первый взгляд от тех, кто уснул навеки.
Шум не пробуждает пьяницу; его будит тишина. На эту странность не раз обращали внимание. Все рушилось кругом, а он еще глубже погружался в оцепенение; грохот убаюкивал его. Но неожиданное безмолвие, воцарившееся вокруг Анжольраса, послужило толчком, который пробудил Грантэра от этого тяжелого сна. Так бывает, когда кони вдруг остановятся на всем скаку. Уснувшие в коляске тотчас же просыпаются. Грантэр вскочил как встрепанный, потянулся, протер глаза, зевнул, огляделся и все понял.
Внезапное отрезвление напоминает разорвавшуюся завесу. Вы видите сразу, с первого взгляда, все, что за нею скрывалось. Все сразу воскресает в памяти, и пьяница, не знавший, что произошло за минувшие сутки, не успеет очнуться, как уже во всем разобрался. Мысли его приобретают необычайную ясность, пьяное забытье рассеивается, как туман, затемнявший рассудок, и уступает место ясному и четкому восприятию действительности.
Солдаты, устремив все внимание на Анжольраса, даже не заметили забравшегося в угол и загороженного бильярдом Грантэра, и сержант уже готовился повторить приказ: «На прицел», как вдруг рядом чей-то могучий голос воскликнул:
– Да здравствует Республика! Я с ними заодно!
Грантэр встал.
Яркое зарево битвы, которую он пропустил и в которой не участвовал, горело в сверкающем взгляде пьяницы; он как будто преобразился.
– Да здравствует Республика! – крикнул он снова, пересек залу уверенным шагом и стал рядом с Анжольрасом, прямо против ружейных стволов.
– Прикончите нас обоих разом, – сказал он. И, обернувшись к Анжольрасу, спросил тихонько: – Ты позволишь?
Анжольрас с улыбкой пожал ему руку.
Улыбка еще не сбежала с его губ, как грянул залп. Пронзенный навылет восемью пулями, Анжольрас продолжал стоять, прислонившись к стене, словно пригвожденный к ней пулями. Только голова его поникла на грудь. Грантэр, убитый наповал, рухнул к его ногам. Несколько минут спустя солдаты уже выбивали из верхнего этажа последних укрывшихся там повстанцев. Они перестреливались сквозь деревянные решетчатые двери чердака. Бой шел под самой крышей. Из окон выкидывали тела прямо на мостовую, в некоторых еще теплилась жизнь. Двух пехотинцев, которые пытались поднять сломанный омнибус, подстрелили с чердака из карабина. А оттуда сбросили какого-то блузника, проколотого штыком в живот, и он хрипел, корчась на мостовой. Солдат и повстанец, вцепившись один в другого, вместе скользили по скату черепичной крыши, упрямо не выпуская друг друга, и вместе катились вниз, не размыкая свирепого объятия. Такая же борьба велась в подвалах. Выстрелы, топот, дикие вопли. Потом наступила тишина. Баррикада была взята.
Солдаты принялись обыскивать окрестные дома и вылавливать беглецов.
Глава 24. Пленник.
Мариус действительно был пленником. Пленником Жана Вальжана.
Рука, которая подхватила его сзади, когда он падал, и силу которой он почувствовал, теряя сознание, была рука Жана Вальжана.
Жан Вальжан не принимал участия в битве, но и не уклонялся от опасности. Не будь его, некому было бы позаботиться о раненых в эти последние предсмертные часы. Благодаря ему, вездесущему среди этого побоища, как провидение, все, кто падал, были подняты, перенесены в нижнюю залу и перевязаны. В промежутках он заделывал бреши в стене баррикады. Но его рука не поднималась ни для чего, что напоминало бы удар, нападение или даже самозащиту. Он молча спасал других. При этом он отделался всего несколькими царапинами. Пули как будто избегали его. Если предположить, что его привела в этот склеп жажда самоубийства, то цели он не достиг. Однако маловероятно, чтобы он задумал самоубийство, противное законам религии.
Жан Вальжан, казалось, не замечал Мариуса в густом дыму сражения; на самом же деле он не спускал с него глаз. Когда выстрел сбил Мариуса с ног, Жан Вальжан бросился к нему с быстротой молнии, схватил его, как тигр хватает добычу, и унес.
В этот миг, в вихре атаки, всеобщее внимание было настолько приковано к Анжольрасу и к двери кабачка, что никто не заметил, как Жан Вальжан, неся на руках бесчувственного Мариуса, пересек по развороченной мостовой дворик баррикады и скрылся за углом дома, занимаемого «Коринфом».
Читатель помнит этот угол, образующий как бы выступ на повороте улицы; он защищал от пуль, от картечи, а также от любопытных взглядов площадку в несколько квадратных метров. Так иногда среди пожара одна какая-нибудь комната остается невредимой и даже в самых бурных морях, за высоким мысом или в бухте между рифами, можно найти тихую заводь. В этом-то закоулке дворика баррикады, имевшего форму трапеции, и умирала Эпонина.
Там Жан Вальжан остановился, опустил Мариуса на землю и, прислонившись к стене, огляделся кругом.
Положение было отчаянное.
На время, минуты на две, на три, стена могла послужить прикрытием, но как спастись из этого побоища? Ему припомнился тревожный момент, пережитый им восемь лет назад на улице Полонсо, и способ, каким ему удалось скрыться оттуда; тогда это было трудно, теперь – невозможно. Перед ним возвышался тот угрюмый, наглухо запертый пятиэтажный дом, где, казалось, не было других обитателей, кроме мертвеца, склонившегося головой на подоконник. Справа от него находилась низенькая баррикада, замыкавшая Малую Бродяжную улицу; преодолеть это препятствие ничего не стоило, но над гребнем ее щетинились ряды штыков. Там была линейная пехота, стоявшая в засаде по ту сторону редута. Было несомненно, что перелезть через баррикаду значило попасть под обстрел целого взвода, и высунувшаяся из-за стены голова послужила бы мишенью для залпа шестидесяти ружей. Налево от него шел бой. За углом подстерегала смерть.
Что делать?
Одной только птице удалось бы спастись отсюда.
Надо было немедленно принять решение. Изыскать способ, найти выход. В нескольких шагах от него продолжалось сражение; по счастью, вся ярость атакующих сосредоточилась на одной цели: двери кабачка; но если какому-нибудь солдату, одному-единственному, вздумалось бы завернуть за угол или предпринять атаку с фланга, все было бы кончено.
Жан Вальжан взглянул на высокий дом перед собой, на баррикаду направо, затем с отчаянием, как человек в последней крайности, впился глазами в землю, точно хотел просверлить ее взглядом.
Чем пристальнее он смотрел, тем яснее у его ног начало вырисовываться и принимать очертания нечто едва уловимое сквозь туман смертной муки, словно взгляду дана власть воплощать желаемое. В нескольких шагах от себя, у подножия невысокой баррикады, которую осаждали и стерегли снаружи неумолимые враги, он заметил плоскую железную решетку вровень с землей, наполовину скрытую под грудой булыжников. Эта решетка из толстых поперечных брусьев занимала пространство около двух квадратных футов. Укреплявшая ее рамка булыжников была разворочена, и решетка словно отделилась от мостовой. Сквозь прутья виднелось темное отверстие, что-то вроде каминного дымохода или круглого водоема. Жан Вальжан бросился к решетке. Воспоминание о его прежнем искусстве устраивать побеги вдруг молнией озарило его мозг. Он расшвырял камни, откинул решетку, взвалил на плечи неподвижного, как труп, Мариуса, спустился с ношей на спине, упираясь локтями и коленями, в этот, к счастью, неглубокий колодец, захлопнул над головой тяжелую железную заслонку, которую снова засыпали сдвинутые им камни, и наконец встал ногами на вымощенное плитами дно на глубине трех метров под землей, – все это было проделано им как в бреду, с силой великана и быстротой орла, и на все хватило нескольких минут.
Жан Вальжан с бездыханным Мариусом на руках очутился в каком-то длинном подземном коридоре.
Там был глубокий покой, мертвая тишина, ночь.
Им вновь овладело чувство, испытанное в тот далекий час, когда он прямо с улицы попал за ограду монастыря. Только на этот раз он нес на руках не Козетту; он нес Мариуса.
До него едва доносился теперь смутным гулом, где-то над головой, грозный грохот штурма кабачка.
Книга вторая. Утроба левиафана.
Глава 1. Земля, истощенная морем.
Париж ежегодно швыряет в воду двадцать пять миллионов. И это отнюдь не метафора. Когда, каким образом? Днем и ночью. С какой целью? Без всякой цели. По какой причине? Без всякой причины. Для чего? Просто так. При помощи чего? При помощи своего кишечника. Что же такое кишечник Парижа? Это его сточные трубы.
Двадцать пять миллионов – еще наиболее умеренная из цифр, полученных специалистами в результате вычислений.
Наука, долго бродившая ощупью, установила теперь, что наиболее действительным и полезным удобрением являются человеческие фекалии. К стыду нашему, китайцы знали об этом задолго до нас. По словам Экеберга, ни один китайский крестьянин не возвращается из города иначе, как неся на концах своего бамбукового коромысла два полных ведра так называемых нечистот. Благодаря удобрению фекалиями земля в Китае все так же тучна, как и во времена Авраама. Китайский маис приносит урожай сам сто двадцать. Никакое гуано не сравнится по плодородию своему с отбросами столицы. Большой город – превосходная навозная куча. Использование города для удобрения полей принесло бы несомненный успех. Пусть наше золото – навоз, зато наш навоз – чистое золото.
Что же делают с этим навозом? Его сметают в пропасть.
С одной стороны, затрачивая большие средства, снаряжают целые караваны судов на Южный полюс за пометом пингвинов и буревестников, с другой – топят в море несметные богатства, находящиеся тут же под рукой. Если вернуть земле, вместо того чтобы бросать в воду, запас удобрений, производимый человеком и животными, можно было бы прокормить весь мир.
Кучи нечистот в углах за тумбами, повозки с отбросами, трясущиеся ночью по улицам, омерзительные бочки золотарей, подземные стоки зловонной жижи, скрытые от ваших глаз камнями мостовой, – знаете ли, что это такое? Это цветущий луг, это зеленая мурава, богородицына травка, тимьян и шалфей, это дичь, домашний скот, сытое мычание огромных быков по вечерам, это душистое сено, золотистая нива, это хлеб на столе, горячая кровь в жилах, здоровье, радость, жизнь. Таков таинственный творческий процесс – превращение на земле, преображение на небесах.
Верните это обратно в великое горнило: оно отплатит вам вашим благоденствием. От питания полей зависит пища человека.
В вашей воле бросить на ветер богатство да еще счесть меня чудаком в придачу. Но это будет верхом невежества с вашей стороны.
Статистика установила, что одна только Франция выбрасывает ежегодно в Атлантический океан через устья своих рек не менее полумиллиарда франков. Заметьте, что при помощи этих пятисот миллионов можно было бы покрыть четвертую часть государственных расходов. Но человек до такой степени туп, что предпочитает избавиться от этих пятисот миллионов и швыряет их в канаву. Ведь это уплывает народное достояние, то сочась капля за каплей, то вырываясь потоками, то слабой струей водостоков – в реки, то мощным извержением рек – в океан. Каждая отрыжка наших клоак стоит нам тысячу франков. Отсюда два следствия: истощенная земля и зараженная вода. Нивы угрожают голодом, река – болезнями.
Установлено, например, что Темза в настоящее время отравляет Лондон.
Что касается Парижа, то в последние годы там пришлось перенести большую часть выводных отверстий клоаки вниз по реке, за самый последний мост.
Между тем, чтобы провести в наши города чистые воды полей и оросить наши поля городской водой, богатой удобрениями, было бы вполне достаточно установки двойных труб, установки, снабженной клапанами и водоотводными шлюзами, всасывающими и нагнетающими воду, – этой элементарной системы дренажа, простой, как человеческие легкие, и уже широко распространенной во многих округах Англии; таким легким способом обмена, самым простым на свете, мы сохранили бы пятьсот миллионов, брошенных на ветер. Но мы и не думаем об этом.
Нынешним способом, стремясь сделать добро, приносят вред. Намерение благое, но результат плачевный. Хотят очистить город, а жители чахнут. Устройство водостоков основано на недоразумении. Когда дренаж, имеющий двойное назначение – возвращать то, что он берет, заменит наконец повсюду сточные трубы, просто-напросто промывающие и истощающие почву, – тогда на основе новой социальной экономики урожай увеличится вдесятеро и с нищетой будет значительно легче бороться. Добавьте к этому уничтожение сорняков, и проблема окажется разрешенной.
В ожидании этого времени народные богатства уходят в реку. Происходит непрерывная утечка. Утечка – вот самое подходящее слово. Европа разоряется путем истощения.
Что касается Франции, то мы только что привели цифры. А так как в Париже сосредоточена двадцать пятая часть всего населения Франции и к тому же парижское гуано – самое ценное, то мы даже преуменьшим цифру, исчисляя в двадцать пять миллионов долю потерь Парижа в том полумиллиарде, от которого ежегодно отрекается Франция. Истраченные на помощь бедноте и на украшение города, эти двадцать пять миллионов удвоили бы блеск и великолепие Парижа. Однако город спускает их в сточные канавы. Можно сказать поэтому, что баснословная расточительность Парижа, его блестящие празднества, его кумир Божон, разгульные оргии, струящееся потоками золото, его пышность, роскошь, великолепие – это и есть его клоака.
Таким образом, по вине недальновидной экономической политики народное достояние просто бросают в воду, где, подхваченное течением, оно поглощается пучиной. В интересах общественного блага здесь пригодились бы сетки Сен-Клу.
С точки зрения экономики можно сделать вывод, что Париж – дырявое решето.
Париж – образцовый город, глава благоустроенных столиц, пример для подражания всем народам, метрополия идей, священная родина дерзаний, стремлений и опытов, центр и обиталище великих умов, город-нация, улей будущего, чудесное сочетание Вавилона и Коринфа; однако же Париж с той точки зрения, с какой мы только что его показали, заставил бы пожать плечами любого крестьянина из Фо-Кьяна.
Попробуйте подражать Парижу – и вы разоритесь.
Но в этом безрассудном, длящемся с незапамятных времен мотовстве Париж сам оказывается подражателем.
Такая поразительная глупость не нова, это вовсе не ошибка юности. Древние народы поступали так же, как и мы. «Клоака Рима, – по словам Либиха, – поглотила все благосостояние римских крестьян». После того как римские водостоки разорили окрестные деревни, Рим обесплодил Италию, а бросив Италию в свои клоаки, он отправил туда Сицилию, затем Сардинию, затем Африку. Сточные трубы Рима пожрали мир. Клоака разинула ненасытную пасть на город и на вселенную. Urbi et orbi. Вечный город, бездонная клоака.
В этом отношении, как и в остальных, Рим подал пример.
Париж следует этому примеру с нелепым упорством, свойственным городам, являющимся средоточиями духовной жизни.
Для осуществления упомянутого процесса под Парижем существует второй Париж – Париж водостоков, со своими улицами, перекрестками, площадями, тупиками, магистралями и даже своим уличным движением – потоками грязи вместо людского потока.
Никому не следует льстить, даже великому народу; там, где есть все, наряду с величием имеется и позор; и если Париж заключает в себе Афины – город просвещения, Тир – город могущества, Спарту – город доблести, Ниневию – город чудес, он заключает в себе также и Лютецию – город грязи.
Впрочем, на этом также лежит отпечаток его могущества; в грандиозных подземных трущобах Парижа, как и в других его памятниках, воплощается тот странный идеал, какой в истории человечества воплощают собою люди, подобные Макьявелли, Бэкону и Мирабо, – величие гнусности.
Эти подвалы Парижа, если бы взгляд мог проникнуть сквозь толщу его поверхности, представились бы нам в виде колоссального звездчатого коралла. В морской губке гораздо меньше отверстий и разветвлений, чем в той земляной глыбе шести миль в окружности, на которой покоится великий древний город. Не говоря уже о катакомбах, образующих особое подземелье, не говоря о запутанных тенетах газопроводов, не считая широко развитой системы труб, подводящих питьевую воду к фонтанам, – водостоки сами по себе образуют под обоими берегами Сены причудливую, скрытую во мраке сеть; путеводной нитью в этом лабиринте служит уклон почвы.
Здесь во мгле и сырости водятся крысы, которые кажутся как бы порождением этого второго Парижа.
Глава 2. Древняя история клоаки.
Если вообразить себе, что Париж снимается, как крышка, то подземная сеть сточных труб по обеим сторонам реки покажется нам с высоты птичьего полета чем-то вроде толстого сука, как бы привитого к реке. Окружной канал на правом берегу будет стволом этого сука, боковые отводы – ветвями, а тупики – побегами.
Это сравнение передает лишь общий вид и далеко не точно, так как прямой угол, обычный для подобных подземных разветвлений, очень редко встречается в растительном мире.
Вы получите более правильное представление об этом необычном геометральном плане, если вообразите себе перепутанные и густо разбросанные на темном фоне затейливые письмена некоего восточного алфавита, связанные друг с другом в кажущемся беспорядке, то углами, то концами, словно наугад.
Подземелья и сточные ямы играли важную роль в Средние века, в Византии и на Древнем Востоке. Там зарождалась чума, там умирали деспоты. Народы смотрели с каким-то священным ужасом на это ложе гнили, на эту чудовищную колыбель смерти. Кишащая червями сточная яма Бенареса вызывает такое же головокружение, как львиный ров Вавилона. Теглат-Фаласар, как повествуют книги раввинов, клялся свалками Ниневии. Из клоаки Мюнстера вызывал Иоганн Лейденский свою ложную луну, а его восточный двойник, загадочный хорасанский пророк Моканна, вызывал ложное солнце из сточного колодца в Кекшебе.
В истории клоак рождается история человечества. Гемонии раскрыли тайны Рима. Водостоки Парижа были страшны в старину. Они служили могилой, и они служили убежищем. Преступление, вольнодумство, социальный бунт, свобода совести, мысль, грабеж, все, что преследуют или преследовали когда-то человеческие законы, пряталось в этой дыре: шайки майотенов в четырнадцатом веке, уличные грабители в пятнадцатом, гугеноты в шестнадцатом, иллюминаты Морена в семнадцатом, банды поджаривателей в девятнадцатом. Сто лет тому назад оттуда выходил ночной убийца, туда прятался от погони вор; в лесу были пещеры, в Париже – водостоки. Нищая братия, галльское подобие picareria[153], свирепая и хитрая, считала водостоки филиалом Двора чудес, и по вечерам спускалась в отверстие сточного колодца на улице Мобюэ, как в собственную спальню.
Вполне естественно, что те, кто обычно промышлял в глухом тупике Карманников или на улице Головорезов, искали ночного убежища под мостиком Зеленой дороги или в закоулке Гюрпуа. Там вас окружает целый рой воспоминаний. В этих бесконечных коридорах появляются всевозможные призраки, повсюду слякоть и зловоние; там и сям встречаются отдушины, сквозь которые некогда Вийон из недр водостока беседовал с Рабле, стоявшим наверху.
Клоака старого Парижа была местом встречи всех неудач и всех дерзаний. Политическая экономия видит в ней свалку отбросов, социальная философия видит в ней осадочный пласт.
Клоака – это совесть города. Все стекается сюда, всему дается здесь очная ставка. В этом призрачном месте много мрака, но тайн больше нет. Всякая вещь принимает свой настоящий облик или по крайней мере свой окончательный вид. Куча отбросов имеет то достоинство, что не лжет. Здесь нашла пристанище полная откровенность. Здесь валяется маска Базилио, но вы видите ее картон и тесемки, ее лицо и изнанку, откровенно вымазанные в грязи. К ней присоседился фальшивый нос Скапена. Весь мерзкий хлам цивилизации, выброшенный за ненадобностью, падает в эту бездну правды, куда обрушивается огромный социальный оползень. Все поглощается ею и раскладывается напоказ. Эта беспорядочная свалка становится исповедальней. Тут невозможна обманчивая личина, тут смываются все прикрасы, тут гнусность сбрасывает свой покров, тут полная нагота, разоблачение всех иллюзий, тут нет ничего, кроме подлинных вещей, являющих зловещий вид разрушения и конца. Бытие и смерть. Здесь донышко бутылки указывает на пьянство, ручка корзины рассказывает о прислуге; там набалдашник от сломанной трости, некогда кичившийся литературными вкусами, снова становится простым набалдашником; королевский лик на монете в одно су откровенно покрывается медной ржавчиной; плевок Кайафы сливается с блевотиной Фальстафа, золотая монета из игорного дома натыкается на гвоздь с обрывком веревки самоубийцы, посинелый недоносок валяется, обернутый в юбку с блестками, в которой плясали на балу в Опере на прошлой масленице; судейский берет вязнет в грязи рядом с полуистлевшим подолом шлюхи. Это больше, чем братство, это – панибратство. Все, что подкрашивалось, здесь умывается грязью. Последняя завеса сорвана. Клоака – циник. Она говорит все.
Это простодушие гнусности нравится нам, оно облегчает душу. После того как на земле нам пришлось столько времени терпеливо лицезреть, какой важный вид напускают на себя государственные соображения, нерушимость клятвы, политическая мудрость, человеческое правосудие, профессиональная честность, чопорность, предписываемая высоким положением, неподкупность чиновников, – нам доставляет утешение спуститься в клоаку и увидеть обыкновенную грязь, которая там вполне уместна.
К тому же это и поучительно. Как мы уже говорили, вся история проходит через клоаку. Варфоломеевские ночи сочатся туда капля за каплей сквозь камни мостовой. Все великие массовые убийства, всякая политическая и религиозная резня – все проносится через это подземелье цивилизации, сбрасывая туда трупы. В воображении мечтателя все убийцы, известные в истории, стоят там на коленях в отвратительном полумраке, подвязав обрывки савана вместо передника, и уныло смывают следы своих деяний. Там и Людовик XI с Тристаном, Франциск I с Дюпра, Карл IX со своей матерью, Ришелье с Людовиком XIII, там и Лувуа, и Летелье, Гебер и Майяр, – все они стараются соскоблить с камней пятна и уничтожить улики своих преступлений. Вы слышите под сводами шум метлы этих призраков. Вы вдыхаете неописуемое зловоние социальных катастроф. Вы видите багровые отблески по углам. Там течет та ужасная вода, в которой омывали окровавленные руки.
Исследователю социальных явлений необходимо войти под эти темные своды. Они являются частью его лаборатории. Философия – микроскоп мысли. Все стремится избежать ее внимания, но ничто от нее не ускользает. Всякие увертки бесполезны. Что вы обнаруживаете, увертываясь от нее? Собственный позор. Философия своим неподкупным взглядом преследует зло и не позволяет ему исчезнуть бесследно. По вещам, обезличенным из-за распада или как бы истаявшим от разрушения, она угадывает все. Она восстанавливает пурпурное одеяние по обрывку лохмотьев и женщину по ее тряпкам. По клоаке она судит о городе, по грязи судит о нравах. По черепку она воспроизводит амфору или кувшин. По отпечатку ногтя на пергаменте она устанавливает разницу между евреями Юденгассе и евреями гетто. По тому, что осталось, она определяет то, что было: добро, зло, ложь, истину, кровавое пятно во дворце, чернильную кляксу в притоне, каплю свечного сала в лупанаре, преодоленные испытания, призываемые искушения, омерзительные оргии, черты опустившегося человека, печать бесчестия на душах, склонных к грубой чувственности, и на одежде римского носильщика она узнает след от локтя Мессалины.
Глава 3. Брюнзо.
В Средние века о парижских водостоках ходили легенды. В шестнадцатом веке Генрих II предпринял их исследование, но оно ни к чему не привело. Всего сто лет тому назад, по свидетельству Мерсье, клоака еще была предоставлена самой себе и растекалась, как хотела.
Таков был старый Париж, раздираемый смутами, сомнениями и метаниями. Долгое время он вел себя довольно глупо. Позднее 89-й год показал, как город может вдруг взяться за ум. Но в доброе старое время столице не хватало рассудка, она плохо устраивала свои дела как в материальном, так и в моральном отношении и умела выметать мусор нисколько не лучше, чем злоупотребления. Все служило препятствием, все представлялось неразрешимой задачей. Клоака, например, не подчинялась никаким путеводителям. Установить направление в этой свалке отбросов было так же трудно, как разобраться в переулках самого города; на земле – непостижимое, под землей – непроходимое; вверху – смешение языков, внизу – путаница подземелий; под вавилонским столпотворением лабиринт Дедала.
По временам сточные воды Парижа имели дерзость выступать из берегов, как будто этот непризнанный Нил вдруг приходил в ярость. Тогда происходило нечто омерзительное – наводнение города нечистотами. Время от времени желудок цивилизации начинал плохо переваривать, содержимое клоаки подступало к горлу Парижа, и город мучился отрыжкой своих отбросов. В этом ощущалось сходство с угрызениями совести, что было небесполезным; это были предостережения, встречаемые, впрочем, с большим недовольством. Город возмущался наглостью своих помойных ям и не желал допустить, чтобы грязь снова вылезала наружу. Гнать ее беспощадно!
Наводнение 1802 года – одно из незабываемых воспоминаний в жизни парижан, достигших восьмидесятилетнего возраста. Грязь разлилась крест-накрест по площади Победы, где возвышается статуя Людовика XIV; она затопила улицу Сент-Оноре из двух выходных отверстий клоаки на Елисейских полях, улицу Сен-Флорантен из отверстия на Сен-Флорантен; улицу Пьер-а-Пуассон из отверстия на улице Колокольного звона, улицу Попенкур из отверстия под мостиком Зеленой дороги, Горчичную улицу из отверстия на улице Лапп; она заполнила сточный желоб улицы Елисейских полей до уровня тридцати пяти сантиметров. В южных кварталах через водоотвод Сены, гнавший ее в обратном направлении, она прорвалась на улицу Мазарини, улицу Эшоде и улицу Марэ, где растеклась на сто девять метров и остановилась за несколько шагов от дома, где жил Расин, выказав таким образом уже в восемнадцатом веке больше уважения к поэту, чем к королю. Наводнение достигло наибольшего уровня на улице Сен-Пьер, где грязь поднялась на три фута выше плит, прикрывающих водосточные трубы, а наибольшего протяжения – на улице Сен-Сабен, где она разлилась на двести тридцать восемь метров в длину.
В начале нынешнего века клоака Парижа все еще оставалась таинственным местом. Грязь никогда особенно не восхваляли, но здесь ее дурная слава вызывала ужас. Париж знал кое-что о мрачном подземелье, которое под ним таилось. Его сравнивали с чудовищным болотом древних Фив, где кишели сколопендры пятнадцати футов длиной и куда мог бы окунуться бегемот. Грубые сапоги чистильщиков сточных труб никогда не отваживались ступать дальше определенных знакомых мест. Недалеко было еще то время, когда телеги мусорщиков, с высоты которых Сент-Фуа братался с маркизом де Креки, выгружались просто-напросто в сточные канавы. Что же касается очистки труб, то эту обязанность возлагали на ливни, которые скорее засоряли их, чем промывали. Рим еще окружал свою клоаку известной поэтичностью и называл ее Гемониями; Париж поносил свою и обзывал ее Вонючей дырой. Она внушала одинаковый ужас и науке, и суеверию. Гигиена относилась к Вонючей дыре с таким же отвращением, как и народные предания. Призрак Черного Монаха впервые появился под сводами зловонного стока Муфтар; трупы мармузетов сбрасывали в сточную яму Бочарной улицы; эпидемию злокачественной лихорадки 1685 года Фагон приписывал водостоку Марэ, широкое отверстие которого продолжало зиять вплоть до 1833 года на улице Сен-Луи, почти напротив вывески «Галантного вестника». Про отдушину водостока на Камнедробильной улице ходила слава, что оттуда распространялась чумная зараза; загороженная железной решеткой с острыми концами, торчащими как ряд клыков, она словно разевала на этой роковой улице пасть дракона, изрыгающего на людей адский смрад. Народная фантазия примешала к легендам об этих страшных каменных воронках парижской клоаки какое-то отталкивающее, путаное представление о бесконечности. Клоака не имеет дна. Клоака – бездонный адский колодец. Полиции даже не приходило в голову обследовать эти пораженные проказой недра. Кто осмелился бы измерить неведомое, исследовать глубины мрака, отправиться на разведку в бездну? Это внушало ужас. Тем не менее нашелся человек, который вызвался это сделать. У клоаки появился свой Христофор Колумб.
Как-то раз, в 1805 году, во время одного из редких наездов императора в Париж, министр внутренних дел, не то Декре, не то Крете, явился на утренний прием повелителя. На площади Карусели слышалось бряцание волочащихся по земле сабель легендарных солдат великой Республики и великой Империи; у дверей Наполеона толпились герои Рейна, Эско, Адидже и Нила; соратники Жубера, Десе, Марсо, Гоша, Клебера; воздухоплаватели Флерюса, гренадеры Майнца, понтонеры Генуи, гусары, на которых смотрели пирамиды, артиллеристы, осыпанные осколками ядер Жюно, кирасиры, взявшие приступом флот, стоявший на якоре в заливе Зюдерзее. Одни из них сопровождали Наполеона на Лодийский мост; другие следовали за Мюратом в траншеи Мантуи; третьи обгоняли Ланна по дороге на Монтебелло. Вся армия того времени, представленная где отрядом, где взводом, собралась здесь, во дворе Тюильри, охраняя покой императора: это происходило в ту блистательную эпоху великой армии, когда позади было Маренго, а впереди – Аустерлиц.
– Государь, – сказал Наполеону министр внутренних дел, – вчера я видел самого бесстрашного человека во владениях Вашего величества.
– Кто же это? – резко спросил император. – И что он сделал?
– Он кое-что задумал, государь.
– Что именно?
– Осмотреть водостоки Парижа.
Глава 4. Подробности, доселе неизвестные.
Осмотр состоялся. Это был тяжелый поход; ночной бой с заразой и удушливыми испарениями. Вместе с тем то было путешествие, богатое открытиями. Один из участников разведки, очень толковый рабочий, в ту пору совсем юноша, рассказывал еще несколько лет назад кое-какие любопытные подробности, которые Брюнзо в донесении префекту полиции счел уместным пропустить как недостойные административного стиля. Способы обеззараживания были в те времена весьма примитивны. Едва успел Брюнзо миновать первые разветвления сети подземных каналов, как восемь из двадцати его рабочих отказались идти дальше. Предприятие было сложным, осмотр влек за собой и очистку; следовательно, приходилось одновременно и расчищать, и производить измерения, отмечать входные отверстия стоков, считать решетки и смотровые колодцы, устанавливать места разветвлений, указывать точки присоединения новых каналов, обозначать на плане очертания различных подземных водоемов, измерять глубину мелких притоков главного канала, высчитывать высоту каждого бокового канала до замка свода и его ширину как у начала закругления свода, так и у основания стен, наконец, определять уровень всякого притока воды, откуда бы она ни поступала в главный водосток – из боковых ли каналов, или с поверхности земли. Продвигаться вперед было трудно. Нередко случалось, что спущенные вниз лестницы погружались в топкий ил на глубину трех футов. Фонари едва мерцали в ядовитых испарениях. То и дело приходилось уносить потерявших сознание рабочих. В некоторых местах неожиданно открывались пропасти. Грунт там расселся, каменный настил дна обрушился, водосток обратился в бездонный колодец, ноге не на что было опереться; кто-то из спутников Брюнзо вдруг провалился, его вытащили лишь с большим трудом. В местах, достаточно обезвреженных, по совету химика Фуркруа, зажигали, от перехода к переходу, большие клети с просмоленной паклей. Местами стены были покрыты безобразными грибами, похожими на опухоли; самые камни казались больными в этом месте, где нечем было дышать.
Брюнзо в своих изысканиях обследовал всю клоаку от верховья до устья. В месте, где Большой Ворчун разделяется на два водостока, он разобрал на каменном выступе дату 1550: этот камень указывал границу, где остановился Филибер Делорм, которому Генрих II поручил произвести осмотр подземных свалок Парижа. То была печать шестнадцатого века на клоаке; работу семнадцатого века Брюнзо узнал в кладке водостока Понсо и водостока Старой Тампльской улицы, крытых сводами между 1600 и 1650 годами, а работу восемнадцатого – в западной секции канала-коллектора, проложенной и покрытой сводом в 1740 году. Оба эти свода, в особенности менее древний, построенный в 1740 году, гораздо сильнее потрескались и обвалились, чем каменная кладка окружного водостока, проложенного в 1412 году. Это был год, когда ручей родниковой воды из Менильмонтана возвели в достоинство Главной клоаки Парижа, – так мог бы повыситься в чине простой крестьянин, став камердинером короля, или, скажем, Жан-дурак, превратившись в Левеля.
В нескольких местах, в особенности под Дворцом правосудия, было обнаружено нечто вроде старинных темниц, вырытых в самом водостоке. Это были ужасные in pace! В одной из таких келий висел железный ошейник. Все они были тотчас же замурованы. Среди находок попадались и очень странные, в их числе скелет орангутанга, убежавшего в 1800 году из Зоологического сада; его исчезновение, вероятно, находилось в связи с пресловутым чертом, которого многие видели на улице Бернардинцев в последнем году девятнадцатого столетия. Бедняга черт кончил тем, что утопился в клоаке.
Под длинным сводчатым коридором, примыкавшим к Арш-Марион, была найдена так прекрасно сохранившаяся корзина тряпичника, что это вызвало удивление знатоков. В топкой грязи, которую рабочие отважно принялись ворошить, всюду попадалось множество ценных вещей, золотых и серебряных украшений, драгоценных камней и монет. Если какому-нибудь великану вздумалось бы процедить эту клоаку, в его сите оказались бы сокровища многих веков. В месте слияния стоков с Тампльской улицы и улицы Сент-Авуа была подобрана любопытная медная медаль гугенотов с изображением на одной стороне свиньи в кардинальской шапке, а на другой – волка в папской тиаре.
Самая поразительная находка была сделана у входа в Главную клоаку. В прежние времена вход был загорожен решеткой. Ныне сохранились лишь крюки, на которых она держалась. На одном из крюков, вероятно занесенный потоком, висел, зацепившись за него, безобразный, испачканный кровью лоскут, совершенно истлевший. Брюнзо поднес фонарь, чтобы рассмотреть эту тряпку. Она оказалась из тончайшего батиста, и на одном уголке, изодранном меньше других, можно было различить вышитую геральдическую корону над следующими шестью буквами: ЛОБЕСП… Корона была короной маркиза, а шесть букв означали Лобеспин. Оказалось, что у них перед глазами находился лоскут от савана Марата. В юности у Марата бывали любовные приключения. Они относились к тому времени, когда он служил при дворе графа д’Артуа в качестве лекаря при конюшнях. От исторически доказанной любовной связи с одной знатной дамой у него осталась эта простыня, возможно, случайно забытая, возможно, подаренная на память. Это было единственное тонкое белье, которое нашлось в доме Марата после его смерти, и его похоронили в этой простыне. Старухи завернули сурового Друга народа в пелены сладострастия, превратив их в погребальные. Брюнзо прошел мимо. Изорванный лоскут оставили на месте, не тронув его. Из презрения или в знак уважения? Марат заслуживал того и другого. Впрочем, печать судьбы была здесь слишком явственна, чтобы осмелиться на нее посягнуть. К тому же могильные останки следует оставлять в том месте, какое они сами себе избрали. Все же это была необычайная реликвия. На ней спала маркиза, в ней истлел Марат; она прошла через Пантеон, чтобы достаться крысам клоаки. Обрывок альковной ткани, все складки которой с таким веселым изяществом изобразил бы некогда Ватто, кончил тем, что стал достойным пристального взгляда Данте.
Тщательный осмотр всех подземных свалок нечистот Парижа продолжался целых семь лет, с 1805 по 1812 год. Продвигаясь вперед, Брюнзо вместе с тем намечал, производил и завершал важные земляные работы: в 1808 году он понизил дно водостока Понсо и в 1809-м, прокладывая всюду новые линии, продолжил сточный канал под улицей Сен-Дени, вплоть до фонтана Инносан; в 1810-м он прорыл водосток под улицами Фруаманто и Сальпетриер; в 1811-м – под Новой Мало-Августинской улицей, улицей Майль, улицей Эшарп, под Королевской площадью; в 1812-м – под улицей Мира и Шоссе д’Антен. В то же время он руководил дезинфекцией и очисткой всей сети. На втором году работ Брюнзо взял себе в помощники своего зятя Нарго.
Вот каким образом в начале нынешнего столетия общество выгребало свое двойное дно и приводило в порядок свои клоаки. Так или иначе, но грязь была вычищена.
Извилистая, растрескавшаяся, развороченная, облупившаяся, изрытая ямами, вся в причудливых поворотах, с беспорядочными подъемами и спусками, зловонная, дикая, угрюмая, затопленная мраком, со шрамами на каменных плитах дна и с рубцами на стенах, страшная, – такова была, если оглянуться а прошлое, древняя клоака Парижа. Развилины во все стороны, перекрестки коридоров, разветвления – то в виде гусиных лапок, то звездообразные – словно в подкопах, тупики, похожие на отросток слепой кишки, пропитанные селитрой своды, смрадные отстойники, мокрые лишаи на стенах, капли, падающие с потолка, кромешная тьма. Ничто не могло сравниться по ужасу с этим древним склепом-очистителем, с этим пищеварительным аппаратом Вавилона, пещерой, ямой, пересеченной улицами бездной, необъятной кротовой норой, где вам чудится, будто во мраке, среди мерзких отбросов прежнего великолепия, бродит огромный слепой крот – прошедшее.
Такова, повторяем, была клоака былых времен.
Глава 5. Прогресс в настоящем.
В наше время клоака опрятна, строга, выпрямлена, благопристойна. Она почти олицетворяет идеал, обозначаемый в Англии словом «респектабельный». У нее приличный вид, она сероватого цвета, вытянута в струнку и, если можно так выразиться, одета с иголочки. Она похожа на человека, который из купцов вдруг вышел в тайные советники. Там почти совсем светло. Там даже грязь держится чинно. На первый взгляд клоаку легко принять за один из подземных ходов, столь распространенных встарь и столь удобных для бегства разных монархов и принцев в доброе старое время, «когда народ так обожал своих государей». Нынешняя клоака, пожалуй, даже красива: там царит чистота стиля. Классический прямолинейный александрийский стиль, изгнанный из поэзии и как будто нашедший прибежище в архитектуре, чувствуется там в каждом камне длинного мрачного белесоватого свода; каждый сточный канал кажется аркадой – архитектура улицы Риволи распространяет свое влияние даже на недра клоаки. К тому же, если геометрические линии где-нибудь и уместны, то именно в каналах, выводящих нечистоты большого города. Там все должно быть подчинено соображениям кратчайшего расстояния. Клоака наших дней приобрела некий официальный вид. Даже в полицейских отчетах, где она зачастую упоминается, о ней говорится с оттенком уважения. Относящимся к ней словам административный язык придал благородство и достоинство. То, что называлось когда-то кишкой, именуется галереей, что называлось дырой – зовется смотровым колодцем. Вийон не узнал бы своего бывшего ночного пристанища. Правда, эта запутанная сеть подземелий по-прежнему и более чем когда-либо заселена грызунами, кишащими там с незапамятных времен; и теперь еще иной раз почтенная усатая крыса, отважившись высунуть голову в отдушину клоаки, разглядывает парижан; но даже эти гады мало-помалу становятся ручными, настолько они довольны своим подземным дворцом. Клоака совершенно потеряла первобытный дикий облик былых времен. Дождь, который некогда только загрязнял водостоки, теперь промывает их. Не слишком доверяйте им, однако. Не забывайте о вредных испарениях. Клоака скорее лицемер, чем праведник. Напрасно стараются префектура полиции и санитарные комиссии. Вопреки всем ухищрениям ассенизации клоака издает какой-то подозрительный запах, точно Тартюф после исповеди.
Из всего этого следует, что, выметая сор, клоака оказывает услугу цивилизации, а так как, с этой точки зрения, совесть Тартюфа – большой прогресс в сравнении с авгиевыми конюшнями, то нельзя не признать, что клоака Парижа, несомненно, усовершенствовалась.
Это больше, чем прогресс: это превращение древней клоаки в клоаку нашего времени. В ее истории произошел переворот. Кто же произвел этот переворот?
Человек, которого все позабыли и которого мы только что назвали: Брюнзо.
Глава 6. Прогресс в будущем.
Прорыть водостоки Парижа было далеко не легкой задачей. Десяти векам вплоть до наших дней не удалось закончить эту работу, так же, как не удалось достроить Париж. В самом деле, ведь на клоаке отражаются все этапы роста Парижа. Это как бы мрачный подземный полип с тысячью щупалец, который растет в глубине, одновременно с городом, растущим наверху. Всякий раз, как город прокладывает новую улицу, клоака вытягивает новую лапу. При старой династии было проложено всего лишь двадцать три тысячи триста метров – так обстояло дело в Париже к 1 января 1806 года. Начиная с этой эпохи, к которой мы еще вернемся, работы возобновились и продолжались энергично и успешно. Наполеон – цифры эти крайне любопытны – провел четыре тысячи восемьсот четыре метра водосточных труб; Людовик XVIII – пять тысяч семьсот девять; Карл Х – десять тысяч восемьсот тридцать шесть; Луи-Филипп – восемьдесят девять тысяч двадцать; Республика 1848 года – двадцать три тысячи триста восемьдесят один; нынешнее правительство – семьдесят тысяч пятьсот. В итоге до настоящего времени проложено двести двадцать шесть тысяч шестьсот десять метров, другими словами, шестьдесят миль сточных труб – так необъятна утроба Парижа. Невидимая ветвистая поросль, непрерывно увеличивающаяся; гигантское никому неведомое сооружение.
Как видим, в наши дни подземный лабиринт Парижа разросся больше чем вдесятеро против того, каким он был в начале столетия. Нам даже трудно представить себе, сколько настойчивости и усилий потребовалось, чтобы довести клоаку до того относительного совершенства, какого она достигла. Прежние королевские городские ведомства, а последнее десятилетие восемнадцатого века и революционная мэрия, лишь с большим трудом завершили бурение тех пяти миль водостока, который существовал до 1806 года. Это предприятие тормозили всевозможные трудности: одни были связаны с особенностями грунта, другие – со старыми предрассудками, укоренившимися среди рабочего люда Парижа. Париж построен на земле, до странности неподатливой для заступа и мотыги, земляного бура и человеческой руки. Нет ничего труднее, чем пробить и просверлить ту геологическую формацию, на которой покоится великолепная историческая формация, называемая Парижем; как только человек задумает каким-либо образом углубиться и проникнуть в эти наносные пласты, перед ним тотчас же возникают бесчисленные, скрытые в земле препятствия. То это жидкий глинозем, то подземные родники, то твердая горная порода, то вязкий и топкий ил, именуемый на профессиональном языке «горчицей». Кирка с трудом пробивается сквозь известняки, чередующиеся с тончайшими жилками глины, сквозь пласты сланца, в толщу которых вкраплены окаменелые раковины улиток, современниц доисторических океанов. Иногда сквозь недостроенный свод вдруг прорывается ручей и затопляет рабочих, иногда осыпь рухляка пробивает себе дорогу и обрушивается вниз с яростью водопада, дробя, как стекло, самые массивные балки креплений. Совсем еще недавно, когда понадобилось провести в Вильете водосток под каналом Сен-Мартен, не прерывая навигации и не осушая канала, в ложе канала внезапно образовалась трещина, и вода хлынула в подземную шахту с такой силой, что водоотливные насосы оказались беспомощны; пришлось посылать на поиски водолаза, который обнаружил в устье канала трещину и лишь с большим трудом заделал ее. Помимо этого, как по берегам Сены, так и довольно далеко от реки, например, в Бельвиле, под Большой улицей и пассажем Люньер, встречаются зыбучие пески, которые могут засосать и поглотить человека на ваших глазах. Добавьте к этому вредные испарения, вызывающие удушье, оползни, погребающие заживо, внезапные обвалы. Добавьте также гнилую лихорадку, которой рано или поздно заболевают все работающие в подземных стоках. Не так давно руководил этой работой Монно. После того как он прорыл подземный ход Клиши с лотками для приема вод главного трубопровода Урк, производя работы в траншее на глубине десяти метров; после того как, борясь с оползнями при помощи разведок, зачастую в гнилостных грунтах, и установки подпорных стенок, он покрыл сводом русло Бьевры от Госпитального бульвара до самой Сены; после того как для отведения от Парижа потоков воды с Монмартра и спуска проточной лужи площадью в девять гектаров, у заставы Мучеников, он, повторяем, проложил длинную линию водостоков от Белой заставы до дороги на Обервилье, работая в течение четырех месяцев, днем и ночью, на глубине одиннадцати метров; после того как – вещь до сей поры неслыханная – он соорудил без открытых траншей, на глубине шести метров под землей, водосток улицы Бардю-Бек, – Монно умер. Вслед за ним, покрыв сводом три тысячи метров водостока во всех районах города, от улицы Траверсьер-Сент-Антуан до улицы Урсин, спустив через боковой канал под Самострельной улицей дождевые воды, затопляющие перекресток Податной улицы и улицы Муфтар, построив далее в зыбучих песках на подводном фундаменте из камня и бетона водосток Сен-Жорж, проведя затем опасные работы, связанные с понижением дна в ответвлении под улицей Назаретской богоматери, – умер инженер Дюло. У нас не публикуют сообщений о смелых подвигах подобного рода, хотя они приносят больше пользы, чем бессмысленная резня на полях сражений.
В 1832 году парижская клоака была далеко не такова, как теперь. Брюнзо дал делу первый толчок, но надо было появиться холере, чтобы городские власти предприняли коренное переустройство водостоков, которое и осуществляется с той поры вплоть до наших дней. Как это ни удивительно, но в 1821 году, например, часть окружного водостока, так называемого Большого канала, полного гниющей жидкости, пролегала еще по улице Гурд под открытым небом, точно в Венеции. И лишь в 1823 году город Париж раскошелился на двести шестьдесят шесть тысяч восемьдесят франков шесть сантимов, необходимых для того, чтобы прикрыть этот срам. Три поглощающих колодца на улицах Битвы, Кюветной и Сен-Мандэ, снабженных сточными желобами, вытяжными трубами, отстойниками с их очистными разветвлениями, сооружены только в 1836 году. Кишечный тракт Парижа был заново переустроен и, как мы уже говорили, на протяжении четверти века разросся более чем вдесятеро.
Тридцать лет тому назад, в дни вооруженного восстания 5 и 6 июня, клоака еще во многих местах сохраняла свой прежний вид. Весьма значительное число улиц имело тогда на месте нынешних выпуклых мостовых вогнутые булыжные мостовые. В самой низкой точке, куда приводил уклон улицы или перекрестка, часто можно было видеть широкие квадратные решетки с толстыми железными прутьями, до блеска отполированные ногами прохожих, скользкие и опасные для экипажей, так как лошади спотыкались на них и падали. На официальном языке дорожного ведомства этим низким точкам и решеткам было присвоено выразительное название cassis[154]. Еще в 1832 году на множестве улиц – как, например, на улице Звезды, Сен-Луи, Тампльской, Старой Тампльской, Назаретской богоматери, Фоли-Мерикур, на Цветочной набережной, на улице Малая Кабарга, Нормандской, Олений мост, Марэ, в предместье Сен-Мартен, на улице Богоматери-победительницы, в предместье Монмартр, на улице Гранж-Бательер, в Елисейских полях, на улице Жакоб, на улице Турнон – старая средневековая клоака цинично разевала свою пасть. Это были громадные зияющие дыры, обложенные необтесанным камнем и кое-где с величественным бесстыдством огороженные кругом тумбами.
Парижские водостоки 1806 года еще почти не превышали в длину установленной в мае 1663 года цифры: пяти тысяч трехсот двадцати восьми туаз. На 1 января 1832 года, после Брюнзо, они достигли сорока тысяч трехсот метров. С 1806 по 1831 год ежегодно прокладывали в среднем семьсот пятьдесят метров сточных труб; с тех пор каждый год сооружали от восьми до десяти тысяч метров подземных туннелей из мелкого гравия, скрепленного известковым гидравлическим раствором, на бетонном основании. Считая по двести франков на метр, шестьдесят миль сточных труб современного Парижа обошлись ему в сорок восемь миллионов.
Помимо отмеченного нами в самом начале экономического прогресса, с серьезной проблемой парижской клоаки связаны также и важные вопросы общественной гигиены.
Париж лежит меж двумя пеленами: пеленой воды и пеленой воздуха. Водная пелена, хоть и простертая довольно глубоко под землей, но уже дважды исследованная бурением, покоится на слое зеленого песчаника, залегающего между меловыми пластами и известняком юрского периода. Этот слой можно изобразить в виде диска радиусом в двадцать пять миль; туда просачивается множество рек и ручьев; из стакана воды, взятой в колодце Гренель, вы пьете воду Сены, Марны, Ионны, Уазы, Эны, Шера, Вьены и Луары. Водная пелена целебна, она образуется сначала в небе, потом в недрах земли; воздушная пелена вредоносна, она прилегает к сточным водам. Все миазмы клоаки смешиваются с воздухом, которым дышит город; потому-то у него такое нездоровое дыхание. Воздух, взятый на пробу над навозной кучей, – это доказано наукой, – гораздо чище, чем воздух над Парижем. Настанет время, когда благодаря успехам прогресса, усовершенствованной технике и свету знания водяная пелена поможет очистить пелену воздушную – иными словами, поможет промыть водостоки. Как известно, под промывкой водостоков мы подразумеваем отведение нечистот в землю, унаваживание почвы и удобрение полей. Это простое мероприятие повлечет за собой облегчение нужды и приток здоровья для всего города. А ныне болезни Парижа распространяются на пятьдесят миль в окружности, если принять Лувр за ступицу этого чумного колеса.
Мы могли бы сказать, что клоака вот уже десять веков является язвой Парижа. Сточные воды – это отрава, которая засела в крови города. Народное чутье никогда не обманывалось на этот счет. Ремесло золотаря в прежние времена считалось в народе столь же опасным и почти столь же омерзительным, как ремесло живодера, которое так долго внушало отвращение и предоставлялось палачу. Только ради высокой оплаты каменщик соглашался спуститься в этот зловонный ров; землекоп едва решался погрузить туда свою лестницу; поговорка гласила: «В сточную яму сойти, что в могилу войти». Как мы уже говорили, всевозможные отвратительные, вселявшие ужас легенды окружали эту бездонную канаву, эту опасную подземную трущобу, хранящую отпечаток как геологических, так и исторических переворотов, хранящую следы всех катаклизмов, начиная от раковины времен потопа и кончая лоскутом от савана Марата.
Книга третья. Грязь, побежденная силой души.
Глава 1. Клоака и ее неожиданности.
В этой самой парижской клоаке и очутился Жан Вальжан.
Еще одна черта сходства между Парижем и морем. Там человек может исчезнуть бесследно, словно пловец в океанских глубинах.
Переход был ошеломляющим. В самом центре города Жан Вальжан скрылся из города и в мгновение ока, лишь приподняв и захлопнув крышку, перешел от дневного света к непроглядному мраку, от полудня к полуночи, от шума к тишине, от вихря и грома к покою гробницы и, благодаря еще более чудесному повороту судьбы, чем на улице Полонсо, – от неминуемой гибели к полной безопасности.
Вдруг провалиться в подземелье, исчезнуть в каменном тайнике Парижа, сменить улицу, где повсюду рыскала смерть, на склеп, где теплилась жизнь, – это была необыкновенная минута. Некоторое время он стоял, словно оглушенный, и с изумлением прислушивался. Под его ногами внезапно разверзлась спасительная западня. Небесное милосердие укрыло его, так сказать, обманным путем. Благословенная ловушка, уготованная провидением!
Между тем раненый оставался недвижим, и Жан Вальжан не знал, живого или мертвеца унес он с собой в эту могилу.
Первым его ощущением была полная слепота. Он вдруг перестал видеть. Ему показалось также, что он сразу оглох. Он ничего не слышал. Яростный смерч побоища, бушевавший в нескольких футах над его головой, доносился до него сквозь отделявшую его толщу земли глухо и неясно, как смутный гул. Он ощущал под ногами твердую почву – вот и все, но этого было достаточно. Он протянул одну руку, затем другую, с обеих сторон наткнулся на стену и понял, что находится в узком коридоре; он поскользнулся и понял, что каменный пол залит водой. Он осторожно ступил вперед одной ногой, опасаясь какого-нибудь провала, колодца, бездонной ямы, и убедился, что каменный настил тянется и дальше. На него пахнуло зловонием, и он догадался, где он.
Через несколько секунд он уже не был слепым. Сквозь отдушину смотрового колодца, в который он спустился, проникало немного света, и его глаза скоро привыкли к этим сумеркам. Он начинал различать кое-что вокруг. Подземный ход, где он похоронил себя, – никаким словом не обрисуешь лучше его положение, – был замурован позади него и являлся одним из тупиков, называемых на профессиональном языке «тупиковой веткой». Впереди ему преграждала путь другая стена – стена ночного мрака. Луч, падавший из отдушины, угасал в десяти – двенадцати шагах от Жана Вальжана, озаряя тусклым белесоватым светом всего лишь несколько метров мокрой стены водостока. Дальше стояла сплошная тьма; вступить в нее казалось страшным, чудилось, что она поглотит вас навеки. Однако пробиться сквозь эту стену густой мглы было возможно и даже необходимо. Мало того, надо было спешить. Жану Вальжану пришло в голову, что, если он заметил решетку под булыжниками, ее могли заметить и солдаты, и что все зависело от этой случайности. Солдаты также могут спуститься в колодец и обыскать его. Нельзя терять ни минуты. Опустив было Мариуса наземь, он снова поднял его, взвалил себе на плечи и пустился в путь. Он смело шагнул в темноту.
На самом деле они были совсем не так близки к спасению, как думал Жан Вальжан. Их подстерегали опасности другого рода, и, быть может, не меньшие. Вместо пылающего вихря битвы – пещера, полная миазмов и ловушек; вместо хаоса – клоака. Из одного круга ада Жан Вальжан попал в другой.
Пройдя полсотни шагов, он принужден был остановиться. Перед ним возник вопрос. Подземный коридор упирался в другой, пересекавший его поперек. Отсюда расходились два пути. Который же избрать? Свернуть ли налево, или направо? Как разобраться в черном лабиринте? У этого лабиринта, как мы отметили выше, была одна путеводная нить – его естественный уклон. Следовать уклону значило спускаться к реке.
Жан Вальжан понял это сразу.
Он решил, что находится, вероятно, в водостоке Центрального рынка; что, выбрав левый путь и следуя уклону, он может меньше чем в четверть часа добраться до одного из отверстий, выходящих к Сене между мостами Менял и Новым, иными словами, он рискует очутиться среди бела дня в самом многолюдном районе Парижа. Возможно также, что этот путь приведет его к смотровому колодцу на каком-нибудь перекрестке. Он представил себе испуг прохожих при виде двух окровавленных людей, выходящих прямо из земли у них под ногами. Прибегут полицейские, вооруженная стража из ближайшей караульной. И их схватят прежде, чем они успеют выйти на свет. Лучше уж углубиться в дебри лабиринта, довериться темноте, а в остальном положиться на волю провидения.
Он стал подниматься вверх и пошел направо.
Как только он повернул за угол галереи, слабый отдаленный свет из отдушины исчез, над ним опустилась завеса тьмы, и он опять ослеп. Это не мешало ему продвигаться вперед так быстро, как только он мог. Руки Мариуса были перекинуты вперед, по обеим сторонам его шеи, а ноги висели за спиной. Одной рукой он сжимал руки юноши, а другой ощупывал стену. Щека Мариуса касалась его щеки и прилипала к ней, так как была вся в крови. Он чувствовал, как текли по нему и пропитывали его одежду теплые струйки крови, бежавшей из ран Мариуса. Однако ощущаемая им у самого уха влажная теплота, которой веяло от уст раненого, указывала, что Мариус дышит и, следовательно, еще жив. Коридор, куда свернул Жан Вальжан, был шире предыдущего. Идти становилось довольно тяжело. Оставшаяся там от вчерашнего ливня вода образовала небольшой ручей, бежавший посреди водостока, так что Жан Вальжан принужден был держаться у самой стены, чтобы не ступать по воде. Угрюмо брел он вперед. Он напоминал те порожденные ночью существа, что движутся ощупью в невидимом, затерянные в подземных шахтах мрака.
Между тем мало-помалу, потому ли, что из дальних отдушин пробивался в густую мглу слабый мерцающий свет, потому ли, что глаза Жана Вальжана привыкли к темноте, но зрение отчасти вернулось к нему, и он снова начал смутно различать то стену, которую задевал плечом, то свод, под которым проходил. Зрачок расширяется в темноте и в конце концов видит в ней свет, подобно тому как душа вырастает в страданиях и познает в них бога.
Выбирать дорогу становилось все труднее.
Направление сточных труб как бы отражает направление улиц, над ними расположенных. Париж того времени насчитывал две тысячи двести улиц. Попробуйте представить себе под ними темную чащу переплетенных ветвей, называемую клоакой. Существовавшая в те годы система водостоков, если вытянуть ее в длину, достигла бы одиннадцати миль. Мы уже говорили, что благодаря усиленному строительству последнего тридцатилетия теперь эта сеть – не менее шестидесяти миль длиной.
Жан Вальжан ошибся в самом начале. Он думал, что находится под улицей Сен-Дени, но, к сожалению, это было не так. Под улицей Сен-Дени залегает древний каменный водосток времен Людовика XIII, который ведет прямо к каналу-коллектору, называемому Главной клоакой, с единственным поворотом направо, на уровне прежнего Двора чудес, и единственным разветвлением под улицей Сен-Мартен, где пересекаются крест-накрест четыре линии стоков. Что же касается трубы Малой Бродяжной, со входным отверстием возле кабачка «Коринф», то она никогда не сообщалась с подземельем улицы Сен-Дени, а впадала в клоаку Монмартра; там-то и очутился Жан Вальжан. Здесь было очень легко заблудиться: клоака Монмартра – одно из самых сложных переплетений старой сети. По счастью, Жан Вальжан миновал стороной водостоки рынков, напоминавшие своими очертаниями на плане целый лес перепутавшихся корабельных мачт; однако ему предстояло еще немало неприятных случайностей и немало уличных перекрестков, – ибо это те же улицы, – выраставших перед ним во мгле вопросительным знаком. Во-первых, налево лежала обширная клоака Платриер, настоящая китайская головоломка, простирающая свою хаотическую путаницу стоков в виде букв Т и Z под Почтовым управлением и под ротондой Хлебного рынка, до самой Сены, где она заканчивается в форме буквы Y. Во-вторых, направо – изогнутый туннель Часовой улицы с тремя тупиками, похожими на зубцы. В-третьих, опять-таки налево, – ответвление под улицей Майль, которое, почти сразу расходясь какой-то развилиной, спускаясь зигзагами, впадает в большое подземелье-отстойник под Лувром, изрезанное и разветвленное во всех направлениях. Наконец, за последним поворотом направо – глухой тупик улицы Постников, еще не считая мелких закоулков, то и дело попадающихся на пути к окружному каналу, который один только и мог привести его к выходу в какое-либо отдаленное и, стало быть, безопасное место.
Если бы Жан Вальжан имел хоть малейшее понятие обо всем этом, он сразу догадался бы, проведя рукой по стене, что он отнюдь не в подземной галерее улицы Сен-Дени. Вместо старого тесаного камня, вместо древней архитектуры, сохраняющей даже в клоаке горделивое величие, с полом и стенами крепчайшей продольной кладки из гранита, цементированного известковым раствором, ценой в восемьсот ливров за одну туазу, он ощутил бы под пальцами современную дешевку, экономный строительный материал буржуа, короче говоря, «труху», то есть ноздреватый известняк на гидравлическом растворе, на бетонном основании, ценой всего двести франков за метр. Но Жан Вальжан ничего этого не знал.
Он шел прямо вперед, твердо, но с тревогой в душе, ничего не видя, ничего не зная, положившись на случай, иначе говоря, вверив свою судьбу провидению.
Надо сознаться, что мало-помалу им овладевал ужас. Нависший над ним мрак проникал и в его мозг. Он брел наугад среди неведомого. Сеть клоаки вероломна; она полна головокружительных переплетений. Горе тому, кто попал в эту преисподнюю Парижа. Жану Вальжану приходилось отыскивать и даже изобретать дорогу, не видя ее. В этой неизвестности каждый шаг, на который он отваживался, мог стать его последним шагом. Как ему выбраться отсюда? Найдет ли он выход и успеет ли найти его вовремя? Позволит ли эта колоссальная подземная губка, вся в каменных ячейках, проникнуть в себя и пробиться наружу? Не подстерегает ли его во тьме какая-нибудь неожиданность, какое-нибудь непреодолимое препятствие? Неужели Мариусу грозит смерть от потери крови, а ему от голода? Неужели им обоим суждено погибнуть здесь, и от них останутся только два скелета где-нибудь в закоулке, среди этой вечной ночи? Кто знает! Он задавал себе эти вопросы и не находил ответа. Утроба Парижа – бездонная пропасть. Подобно древнему пророку, он находился во чреве чудовища.
И вдруг его поразила одна странность. Шагая напрямик, все вперед и вперед, он внезапно почувствовал, что больше не поднимается вверх; течением ручья его било по ногам сзади, вместо того чтобы заливать носки его башмаков. Теперь водосток спускался под гору. Почему? Неужели он выйдет сейчас к берегам Сены? Это грозило большой опасностью, но возвращаться назад было еще опаснее. Он продолжал идти вперед.
Однако путь его вел совсем не к Сене. С двускатного бугра правобережного Парижа сточные воды сбрасываются по обоим его уклонам – в Сену и в Главную клоаку. Гребень этого бугра, составляющего водораздел, изгибается самым прихотливым образом. Высшая точка, откуда разбегаются водостоки, находится в клоаке Сент-Авуа, за улицей Мишель-ле-Конт, в клоаке Лувра, около бульваров, и в клоаке Монмартра, возле Центрального рынка. Эту высшую точку гребня и миновал Жан Вальжан. Он спускался теперь к окружному каналу; он был на правильном пути. Но ничего этого не подозревал.
Достигнув поворота, он всякий раз ощупывал углы, и если обнаруживал, что новый проход более узок, чем прежний коридор, он не сворачивал туда, а продолжал идти прямо, справедливо рассуждая, что каждый узкий ход неминуемо заведет его в тупик и только отдалит от цели, то есть от выхода на свет. Таким образом, ему четыре раза удалось избежать западни, расставленной для него во тьме в виде четырех перечисленных нами лабиринтов.
В какой-то миг он вдруг почувствовал, что уже миновал кварталы Парижа, где все замерло от страха перед восстанием, где баррикады преградили уличное движение, и что он вступает под улицы обычного, живого Парижа. Над его головой раздавался немолчный гул, как бы отдаленные раскаты грома. Это катились колеса экипажей.
По собственному его расчету, он шел уже около получаса, но даже и не думал об отдыхе; он только переменил руку, которой поддерживал Мариуса. Мрак все сгущался, но именно это и успокаивало его.
Вдруг прямо перед ним легла его тень. Она вырисовывалась на каменных плитах пола; слабый, едва различимый багровый отблеск, смутно окрасивший камень у него под ногами и своды над головой, дрожал справа и слева по осклизлым стенам туннеля. Он обернулся пораженный.
Позади него, в конце коридора, на огромном, как ему казалось, расстоянии, пронизывая густую мглу, пылала зловещая звезда, точно устремленный на него глаз.
Это было полицейское око – мрачное светило подземных трущоб.
За этой звездой смутно колыхались восемь или десять черных теней, длинных, зыбких, угрожающих.
Глава 2. Пояснение.
Днем 6 июня в водостоках было приказано произвести облаву. Из опасения, как бы они не послужили убежищем для побежденных, префекту полиции Жиске поручили обыскать Париж подземный, пока генерал Бюжо очищал Париж наземный; эта двойная согласованная операция требовала двойной стратегии от государственной власти, представленной наверху войсками, внизу – полицией. Три отряда агентов и рабочих клоаки обследовали вдоль и поперек подземную свалку Парижа, один – вдоль правого берега Сены, другой – вдоль левого, третий – в центральной части города.
Полицейских агентов вооружили карабинами, дубинками, саблями и кинжалами.
Луч света, направленный в этот миг на Жана Вальжана, исходил из фонаря полицейского дозора, проверявшего правый берег.
Дозор только что обошел кривую галерею с тремя тупиками, расположенными под Часовой улицей. Пока они обшаривали с фонарем все закоулки этих тупиков, Жан Вальжан набрел на вход в галерею, обнаружил, что она гораздо уже главного коридора, и не свернул в нее. Он прошел мимо. На обратном пути из галереи под Часовой улицей полицейским почудился звук шагов, удалявшихся в сторону окружного канала. Это и были шаги Жана Вальжана. Сержант, начальник дозора, поднял фонарь, и весь отряд начал всматриваться в туман, в направлении, откуда слышался шум.
Для Жана Вальжана это была невыразимо страшная минута.
По счастью, если он хорошо видел фонарь, то фонарь освещал его плохо. Фонарь был светом, Жан Вальжан тенью. Он был очень далеко, сливаясь с окружающей чернотой. Он прижался к стене и застыл на месте.
Впрочем, он не вполне отдавал себе отчет в том, что за тени движутся там, позади. От бессонницы, недостатка пищи, волнения он был как бы в бреду. Ему мерещилось пламя и вокруг этого пламени какие-то привидения. Что это было? Он не понимал.
Когда Жан Вальжан остановился, шум затих.
Дозорные прислушивались, но ничего не слышали, они всматривались, но ничего не видели. Они стали совещаться.
В ту пору в водостоке Монмартра на этом месте находился так называемый «служебный перекресток», уничтоженный впоследствии из-за небольшого озерка, образуемого стремительным потоком дождевой воды, скоплявшейся там во время сильных ливней. Весь отряд мог разместиться на этой площадке.
Жан Вальжан увидел, что призраки собрались в круг. Их головы, напоминавшие бульдожьи морды, придвинулись ближе друг к другу и начали шептаться.
Совещание этих сторожевых псов вынесло решение, что они ошиблись, что шум только почудился им, что там не было ни души и что нет смысла идти по окружному каналу, ибо это будет лишь напрасной тратой времени; напротив того, надо спешить в сторону Сен-Мерри, так как если найдется какое-нибудь дело, если удастся выследить какого-нибудь «смутьяна», то именно в этом квартале.
Время от времени партии прибивают новые подметки к изношенным бранным кличкам своих противников. В 1832 году слово «смутьян» заменило затертое тогда слово «якобинец», предшествуя прозвищу «демагог», тогда еще почти неупотребительному, но превосходно сослужившему службу впоследствии.
Сержант скомандовал свернуть налево, вниз к Сене. Если бы им пришло в голову разделиться на две группы и пойти по двум направлениям, то Жан Вальжан был бы неминуемо схвачен. Его судьба висела на волоске. Однако вполне вероятно, что, предвидя возможность стычек и большую численность повстанцев, префектура полиции в своих инструкциях запретила дозорам разбиваться на группы. Итак, дозор пустился в путь, оставив Жана Вальжана у себя в тылу. Из всего происшедшего до Вальжана дошло лишь то, что фонарь, круто повернутый в сторону, вдруг померк.
Для очистки своей полицейской совести сержант перед уходом разрядил карабин в сторону, оставленную без проверки, то есть туда, где находился Жан Вальжан. Грохот выстрела многократным эхом раскатился по пещерам; казалось, забурчала вся эта необъятная утроба. Кусок штукатурки обвалился в ручей и расплескал воду в нескольких шагах от Жана Вальжана; он понял, что пуля ударила в свод над его головой.
Мерные, медленные шаги еще некоторое время гулко раздавались на каменных плитах и, постепенно удаляясь, затихли; группа черных теней углубилась во тьму; мерцающий свет фонаря, колеблясь и дрожа, отбрасывал на своды красноватый полукруг, который все уменьшался и наконец совсем погас. Снова наступила глубокая тишина, снова спустилась непроницаемая тьма, снова воцарилась слепая и глухая ночь. А Жан Вальжан долго еще стоял, прислонясь к стене, не смея пошевелиться, настороженный, с расширенными зрачками, глядя, как исчезал вдалеке этот патруль привидений.
Глава 3. Человек, которого выслеживают.
Надо отдать справедливость полиции того времени: даже в самой сложной политической обстановке она неуклонно выполняла свои обязанности надзора и слежки. В ее глазах восстание вовсе не давало повода предоставить преступникам свободу действий и бросить общество на произвол судьбы только потому, что правительство находится в опасности. Повседневная работа полиции шла своим чередом наряду с особыми заданиями, нисколько не нарушая свой ход. В самый разгар развернувшихся политических событий, последствия которых трудно было предугадать, но которые могли привести к революции, полицейский агент, не отвлекаясь ни восстанием, ни баррикадами, продолжал вести слежку.
Нечто в этом роде и происходило 6 июня после полудня возле откоса набережной на правом берегу Сены, по ту сторону моста Инвалидов.
В настоящее время там уже нет берегового откоса. Вид местности сильно изменился.
Два человека шли вдоль откоса, поодаль один от другого, казалось, избегая и вместе с тем украдкой наблюдая друг за другом. Тот, кто шел впереди, старался скрыться, а идущий позади старался нагнать его.
Это напоминало шахматную партию, которую игроки ведут молча и на далеком расстоянии. Казалось, ни один из них не спешил: оба шли медленно, точно каждый опасался, что, заторопившись, вынудит другого прибавить шагу.
Можно было подумать, будто хищник преследует добычу, ловко скрывая свои намерения. Но добыча не вдавалась в обман и держалась настороже.
Необходимое соотношение сил между загнанной куницей и гончей собакой здесь было соблюдено. Тот, кто убегал, был тщедушен и жалок с виду, тот, кто преследовал, – высокий и здоровый мужчина, – был очень силен и, должно быть, жесток в схватке.
Первый, чувствуя себя слабее, очевидно, старался уйти от второго, но уходил он в бессильной ярости; наблюдая за ним, вы могли бы заметить в его взгляде мрачную злобу затравленного зверя, и угрозу, и страх.
Берег был безлюден: не попадалось ни прохожих, ни лодочников, ни даже грузчиков на пришвартованных к причалу баржах.
Обоих пешеходов можно было разглядеть как следует только с самой набережной, и всякому, кто следил бы за ними на таком расстоянии, первый показался бы обтрепанным, подозрительным оборванцем, испуганным и дрожащим от холода в своей дырявой блузе, а второй – почтенным должностным лицом в наглухо застегнутом форменном сюртуке.
Читатель, может быть, и узнал бы этих двух людей, если бы увидел их поближе.
Какова была цель второго?
По всей вероятности, одеть потеплее первого.
Когда человек в казенном мундире преследует человека в лохмотьях, обычно он стремится и его тоже облачить в казенную одежду. Весь вопрос в цвете. Быть одетым в синее – почетно, быть одетым в красное – неприятно.
Существует пурпур общественного дна.
Именно от такой неприятности и от пурпура такого рода, вероятно, и стремился ускользнуть первый прохожий.
То, что второй беспрепятственно пускал его идти вперед и до сих пор не схватил, объяснялось, по всей видимости, надеждой выследить какое-нибудь важное свидание или накрыть целую шайку сообщников. Такая щекотливая работа и называется слежкой.
Эту догадку вполне подтверждает то обстоятельство, что человек в застегнутом сюртуке, заметив с берега порожний экипаж, проезжавший наверху по набережной, подал знак извозчику; извозчик понял, очевидно сразу сообразив, с кем имеет дело, круто повернул и поехал шагом по набережной, следом за двумя пешеходами. Подозрительный оборванец, шедший впереди, не заметил этого.
Фиакр катился под деревьями Елисейских полей. Над парапетом мелькали голова и плечи извозчика с кнутом в руке.
В секретном предписании полицейским агентам имеется следующий параграф: «Всегда иметь под рукой наемный экипаж на всякий случай».
Два человека, маневрируя каждый по всем правилам стратегии, приблизились к пологому скату набережной, благодаря которому извозчики в те времена могли по дороге из Пасси спускаться к реке и поить лошадей. Впоследствии этот удобный спуск был уничтожен ради симметрии: пусть лошади дохнут от жажды, зато пейзаж услаждает взоры.
Было похоже на то, что человек в блузе собирается подняться вверх по скату и скрыться в Елисейских полях, где, правда, много деревьев, но зато немало и полицейских, и где преследователь мог рассчитывать на подмогу.
Набережная здесь отстоит совсем недалеко от знаменитого дома, перевезенного в 1824 году из Морэ в Париж полковником Браком, – так называемого дома Франциска I. А там и караульня рядом.
К большому удивлению преследователя, его поднадзорный и не подумал свернуть к откосу. Он по-прежнему шел вперед вдоль набережной.
Его положение явно становилось отчаянным.
Что ему оставалось делать? Только броситься в Сену.
Здесь он упустил последнюю возможность подняться на набережную: дальше не было ни спуска, ни лестницы. Совсем близко виднелся поворот, образуемый изгибом Сены возле Иенского моста, где берег, постепенно суживаясь, обращался в тоненькую полоску земли и терялся под водой. Там он неизбежно окажется зажатым со всех сторон: справа ему отрежет путь отвесная стена, слева и спереди – река, с тыла – представитель власти.
Правда, конец береговой полосы загораживала от глаз куча щебня шести или семи футов в высоту, оставшаяся от какого-то снесенного строения. Но неужели бедняга рассчитывал надежно укрыться за кучей мусора, которую так легко обойти кругом? Такая попытка была бы ребячеством. Вряд ли он надеялся на это. Наивность преступников не простирается до таких пределов.
Груда щебня, образуя на берегу нечто вроде пригорка, тянулась высоким мысом до самой стены набережной.
Преследуемый достиг этого холмика и, обогнув его, скрылся от глаз преследователя.
Потеряв его из виду и думая, что не виден сам, преследователь решил отбросить всякое притворство и ускорил шаг. В одну минуту он добежал до кучи щебня и обошел ее кругом. Тут он остановился, пораженный. Человека, за которым он охотился, там не оказалось.
Оборванец исчез бесследно.
Берег тянулся за грудой щебня не далее как на тридцать шагов, после чего уходил в воду, плескавшуюся о стену набережной.
Беглец не мог ни броситься в реку, ни перелезть через стену, не будучи замечен своим преследователем. Куда же он девался?
Человек в застегнутом сюртуке дошел до конца береговой косы и остановился на минуту в раздумье, стиснув кулаки и внимательно осматриваясь кругом. Внезапно он хлопнул себя по лбу. В том месте, где кончалась полоска берега и начиналась вода, он вдруг заметил под каменным сводом широкую и низкую железную решетку на трех массивных петлях, с тяжелым замком. Эта решетка, представлявшая собою нечто вроде двери, пробитой в подножии стены набережной, выходила частью на реку, частью на берег. Из-под решетки вытекал мутный ручей. Этот ручей впадал в Сену.
За толстыми ржавыми прутьями можно было различить что-то вроде темного сводчатого коридора.
Человек скрестил руки и посмотрел на решетку с упреком.
Не добившись ничего взглядом, он принялся толкать и трясти ее, но она держалась крепко. Вполне возможно, что ее недавно отворяли, хотя казалось странным, чтобы такая ржавая решетка не издала никакого скрипа; во всяком случае, несомненно, что ее опять заперли. Это доказывало, что тот, перед кем отворилась дверь, имел при себе не отмычку, а настоящий ключ.
Очевидность этого факта сразу предстала перед человеком, который пытался расшатать решетку. Он с возмущением воскликнул:
– Это уж чересчур! У него казенный ключ!
Затем он сразу успокоился и выразил нахлынувшие на него мысли в целом залпе односложных восклицаний, звучавших почти насмешливо:
– Так, так, так!
После этого, неизвестно на что рассчитывая – то ли увидеть, как человек выйдет обратно, то ли, как туда войдут другие, – он притаился в засаде за кучей щебня с терпением ищейки.
Фиакр, который соразмерял свой ход со всеми его движениями, тоже остановился наверху, у парапета набережной. Предвидя долгую стоянку, кучер слез и подвязал под морды лошадей мешки с овсом, слегка намоченные снизу, – мешки, столь знакомые парижанам, которым, заметим в скобках, правительство частенько затыкает рот таким же способом. Редкие прохожие на Иенском мосту оборачивались на мгновение, чтобы взглянуть на эти две неподвижные подробности пейзажа – человека на берегу и фиакр на набережной.
Глава 4. Он тоже несет свой крест.
Жан Вальжан снова пустился в путь и больше уже не останавливался.
Идти становилось все тяжелее и тяжелее. Высота сводов то и дело менялась; в среднем она достигала приблизительно пяти футов шести дюймов и была рассчитана на человека среднего роста. Жан Вальжан был принужден идти согнувшись, чтобы не ушибить Мариуса о камни свода; каждую минуту ему приходилось то нагибаться, то выпрямляться и все время ощупывать стену. Мокрые камни и скользкие плиты служили плохой точкой опоры как для ног, так и для рук. Он брел, спотыкаясь, в омерзительных нечистотах города. Неверные отсветы дня, проникающие сюда сквозь редкие отдушины, были такими тусклыми, что солнечный луч казался лунным. Все остальное было туман, миазмы, темень, ночь. Жана Вальжана мучили голод и жажда, особенно жажда; между тем здесь, точно в море, его окружала вода, а пить было нельзя. Даже его сила, необычайная, как мы знаем, и почти не ослабевшая с годами благодаря строгой и воздержанной жизни, все же начинала сдавать. Им овладевала усталость, и по мере того как уходили силы, возрастала тяжесть его ноши. Тело Мариуса, быть может, бездыханное, повисло на нем со всей тяжестью мертвого груза. Жан Вальжан старался держать его так, чтобы не давить ему на грудь и не стеснять дыхания. Он чувствовал, как у него под ногами проворно шмыгают крысы. Одна из них чуть не укусила его с перепугу. Изредка через входные отверстия сточных труб до него долетало дуновение свежего воздуха, и ему становилось легче.
Было, вероятно, часа три пополудни, когда он дошел до окружного канала.
Прежде всего его удивил неожиданный простор. Он вдруг очутился в большой галерее, где мог вытянуть обе руки, не наткнувшись на стены, и где его голова не задевала свода. Главный водосток действительно имеет восемь футов в ширину и семь футов в высоту.
В том месте, где в Главный водосток впадает водосток Монмартра, скрещиваются еще две подземные галереи: Провансальской улицы и Скотобойной. Всякий менее проницательный человек растерялся бы здесь, на перекрестке четырех дорог. Жан Вальжан выбрал самый широкий путь, то есть окружной канал. Но тут снова возникал вопрос: спускаться вниз или подниматься в гору? Он подумал, что положение вещей вынуждало его спешить и что теперь следовало во что бы то ни стало дойти до Сены. Другими словами, спускаться вниз. Он повернул налево.
И хорошо сделал. Было бы заблуждением думать, будто окружной канал имеет два выхода, один на Берси, другой на Пасси, и будто, оправдывая свое название, он окружает подземный Париж на правом берегу реки. Главный водосток, представлявший собою, как мы должны припомнить, не что иное, как взятый в трубу ручей Менильмонтан, если подниматься вверх по течению, приведет к тупику, то есть к самому своему истоку – роднику у подошвы холма Менильмонтан. Он не сообщается непосредственно с боковым каналом, который вбирает сточные воды Парижа, начиная с квартала Попенкур, и впадает в Сену через трубы Амло, несколько выше старого острова Лувье. Этот боковой канал, дополняющий канал-коллектор, отделен от него, как раз под улицей Менильмонтан, каменным валом, являющимся водоразделом верховья и низовья. Если бы Жан Вальжан направился вверх по галерее, то после бесконечных усилий, изнемогая от усталости, полумертвый, он в конце концов наткнулся бы во мраке на глухую стену. И это был бы конец.
В лучшем случае, вернувшись немного назад и углубившись в туннель улицы Сестер страстей господних, не задерживаясь у подземной развилины под перекрестком Бушра и следуя дальше коридором Сен-Луи, затем, свернув налево, проходом Сен-Жиль, повернув потом направо и миновав галерею Сен-Себастьен, – он мог бы достичь водостока Амло, если бы только не заблудился в сети стоков, напоминающих букву F и залегающих под Бастилией, а оттуда уже добраться до выхода на Сену, возле Арсенала. Но для этого необходимо было хорошо знать все разветвления и все отверстия громадного звездчатого коралла парижской клоаки. Между тем, повторяем, он совершенно не разбирался в этой ужасной сети дорог, по которой плутал, и если бы спросить его, где он находится, он ответил бы: «В сердце ночи».
Внутреннее чутье не обмануло его. Спускаться вниз – действительно означало возможность спасения.
Справа от него остались два коридора, которые расходятся кривыми когтями под улицами Лафит и Сен-Жорж, а также длинный раздвоенный канал под Шоссе д’Антен.
Миновав небольшой боковой проход, вероятно ответвление под улицей Мадлен, он остановился передохнуть. Он страшно устал. Сквозь достаточно широкую отдушину, по-видимому смотровой колодец улицы Анжу, пробивался дневной свет. Жан Вальжан нежным и осторожным движением, словно брат раненого брата, опустил Мариуса на приступок у стены. Окровавленное лицо Мариуса, озаренное бледным светом, проникавшим через отдушину, казалось лицом мертвеца на дне могилы. Глаза его были закрыты, волосы прилипли к вискам красными склеенными прядями, безжизненные, застывшие руки висели, как плети, в углах губ запеклась кровь. В узле галстука виднелся сгусток крови, складки рубашки запали в открытые раны, сукно сюртука бередило свежие порезы на теле. Осторожно раздвинув кончиками пальцев края одежды, Жан Вальжан приложил руку к его груди; сердце еще билось. Жан Вальжан разорвал свою рубашку, перевязал раны, как только мог лучше, и тем остановил кровотечение; затем, склонившись в сумеречном полусвете над бесчувственным и почти бездыханным Мариусом, он устремил на него взгляд, полный смертельной ненависти.
Перевязывая Мариуса, он нашел в его карманах две вещи: забытый со вчерашнего дня кусок хлеба и записную книжку. Он съел хлеб и раскрыл книжку. На первой странице он нашел написанные почерком Мариуса три строчки, о которых помнит читатель:
«Меня зовут Мариус Понмерси. Прошу доставить мой труп деду моему, г-ну Жильнорману, улица Сестер страстей господних, № 6, в Марэ».
Жан Вальжан прочел эти три строчки при свете, проникавшем из отдушины, и замер на миг, сосредоточенно повторяя вполголоса: «Улица Сестер страстей господних, № 6, г-н Жильнорман». Потом он вложил записную книжку обратно в карман Мариуса. Он поел, и силы возвратились к нему; снова взвалив Мариуса на спину, он заботливо уложил его голову на своем правом плече и стал спускаться вниз по водостоку.
Главный водосток, проложенный в лощине по руслу Менильмонтана, простирается в длину почти на две мили. Дно его на значительном протяжении вымощено камнем.
У Жана Вальжана не было того факела, каким пользуемся мы, чтобы осветить читателю его подземное странствие, – он не знал названий улиц. Ничто не указывало ему, какой район города он пересекал или какое расстояние преодолел. Лишь по световым пятнам, которые встречались время от времени на его пути и становились все бледнее, он мог судить, что солнце уже не освещает мостовой и что день склоняется к вечеру; а по шуму колес над головой, который из непрестанного обратился в прерывистый и наконец почти затих, он заключил, что уже вышел за пределы центральных кварталов и приближается к пустынным окраинам, возле внешних бульваров или отдаленной набережной. Где меньше домов и улиц, там меньше в клоаке и отдушин. Вокруг Жана Вальжана сгущалась тьма. Это не мешало ему идти вперед, пробираясь ощупью во мраке.
Внезапно этот мрак стал ужасен.
Глава 5. Лесок коварен, как женщина: чем он приманчивей, тем опасней.
Он почувствовал, что входит в воду и что под ногами его уже не каменные плиты, а ил.
На побережье Бретани или Шотландии случается иногда, что какой-нибудь путник или рыбак, отойдя во время отлива по песчаной отмели далеко от берега, вдруг замечает, что уже несколько минут ступает с некоторым трудом. Земля под его ногами словно превращается в смолу, подошвы прилипают к ней; это уже не песок, а клей. Отмель как будто суха, но при каждом шаге, едва переставишь ноги, след заполняется водой. А между тем глаз не видит перемены: бесконечно тянется берег, он ровен, однообразен, песок повсюду кажется одинаковым, ничто не отличает твердой почвы от зыбкой, буйный рой водяных блох по-прежнему весело скачет у ног прохожего. Человек продолжает свой путь, идет вперед, направляется к суше, старается держаться ближе к береговому откосу. Он нисколько не обеспокоен. О чем ему беспокоиться? Ему кажется только, что с каждым шагом тяжесть в ногах почему-то возрастает. Вдруг он чувствует, что вязнет. Он увяз на два или три дюйма. Положительно, он сбился с дороги; он останавливается, чтобы определить направление. И тут он смотрит себе на ноги. Ног не видно. Их покрывает песок. Он вытаскивает ноги из песка, хочет вернуться, поворачивает назад – и увязает еще глубже. Песок доходит ему до щиколоток; он вырывается и бросается влево, песок доходит до икр; он кидается вправо, песок достигает колен. Тогда, в невыразимом ужасе, он понимает, что попал в зыбучие пески, что под его ногами та страшная стихия, где человеку так же невозможно ходить, как рыбе плавать. Он швыряет прочь свою ношу, если у него она есть, он освобождается от груза, словно корабль, терпящий бедствие; слишком поздно: он уже провалился выше колен.
Он зовет на помощь, размахивает шапкой или платком, песок засасывает его все глубже и глубже; если берег безлюден, если жилье далеко, если песчаная отмель пользуется дурной славой, если не сыщется поблизости какого-нибудь героя – тогда все кончено: его засосал песок. Он обречен на ту ужасную медленную смерть, неминуемую, беспощадную, которую нельзя ни отсрочить, ни ускорить, которая длится часами, нескончаемо долго; она настигает вас здоровым, свободным, полным сил, хватает вас за ноги и при каждом вашем крике, при каждой попытке вырваться тащит вас все глубже, словно желая наказать за сопротивление еще более мучительным объятием; она медленно увлекает человека в землю, дав ему время налюбоваться горизонтом, деревьями, зелеными полями, дымом хижин в долине, парусами кораблей в море, порхающими и поющими кругом птицами, солнцем, небесами. Зыбучие пески – это могила, обернувшаяся приливом и поднимающаяся из недр земли за живой добычей. Каждый миг – это безжалостный могильщик. Несчастный пытается сесть, лечь, ползти, но всякое движение хоронит его все глубже; он выпрямляется – и погружается еще больше; он чувствует, что тонет; он кричит, умоляет, взывает к небесам, ломает руки, впадает в отчаяние. Вот уже песок ему по пояс, на поверхности только грудь и голова. Он простирает руки, испускает яростные вопли, вонзает ногти в песок, пытаясь ухватиться за сыпучий прах, опирается на локти, чтобы вырваться из этого мягкого футляра, исступленно рыдает; песок поднимается все выше. Песок доходит до плеч, до подбородка; теперь видно одно только лицо. Рот еще кричит, песок заполняет рот; настает молчание. Глаза еще смотрят, песок засыпает глаза; наступает мрак. Постепенно исчезает лоб, только развеваются над песком пряди волос; высовывается рука, пробивая песчаную гладь, судорожно двигается, сжимается и пропадает. Зловещее исчезновение человека.
Иногда пески засасывают всадника вместе с лошадью, иногда возницу вместе с повозкой; трясина все поглощает. Потонуть в ней совсем не то, что потонуть в море. Здесь затопляет человека земля. Земля, пропитанная океаном, становится западней. Она простирается перед вами, точно равнина, и разверзается под ногами, точно волна. Пучине свойственно такое коварство.
Подобное роковое происшествие, всегда возможное на некоторых морских побережьях, лет тридцать тому назад могло случиться также и в парижской клоаке.
До 1833 года, когда наконец были предприняты важные усовершенствования, в подземной сточной сети Парижа нередко происходили внезапные обвалы.
Кое-где в подпочву, особенно в рыхлые породы, просачивалась вода; тогда настил, будь он мощенный камнем, как в старинных водостоках, или бетонный на известковом растворе, как в новых галереях, потеряв опору, начинал прогибаться. Прогиб такого настила ведет к трещине, а трещина – к обвалу. Настил обрушивался на значительном протяжении. Эта расселина, эта щель, открывающая пучину грязи, на профессиональном языке называлась провалом, а самая грязь – плывуном. Что такое плывуны? Это зыбучие пески морского побережья, неожиданно оказавшиеся под землей; это песчаный грунт горы Сен-Мишель, перенесенный в клоаку. Разжиженная почва кажется расплавленной; в жидкой среде все ее частицы находятся во взвешенном состоянии; это уже не земля и не вода. Иногда такая топь достигает значительной глубины. Нет ничего опаснее встречи с нею. Если преобладает вода, вам грозит мгновенная смерть – вас затопит; если преобладает земля, вам грозит медленная смерть – вас засосет.
Представляете ли вы себе такую смерть? Она страшна на морском берегу, какова же она в клоаке? Вместо свежего воздуха, яркого света, ясного дня, чистого горизонта, шума волн, вместо вольных облаков, изливающих животворный дождь, вместо белеющих вдалеке лодок, вместо неугасающей до последней минуты надежды, надежды на случайного прохожего, на возможное спасение, вместо всего этого – глухая тишина, слепой мрак, черные своды, готовая зияющая могила, смерть в трясине под гробовой крышкой! Медленная гибель от недостатка воздуха среди мерзких отбросов, каменный мешок, где в грязной жиже раскрывает когти удушье и хватает вас за горло, предсмертный хрип среди зловония, тина вместо песка, сероводород вместо ветра, нечистоты вместо океана! Звать на помощь, скрипеть зубами, корчиться, биться и погибать, когда над самой вашей головой шумит огромный город и ничего о вас не знает!
Невыразимо страшно умереть таким образом! Смерть искупает иногда свою жестокость неким грозным величием. На костре или при кораблекрушении можно проявить доблесть, в пламени, так же, как в морской пене, – сохранить достоинство; такая гибель преображает человека. Здесь же этого нет. Здесь смерть нечистоплотна. Здесь испустить дух унизительно. Даже предсмертные видения, проносящиеся мимо, и те внушают отвращение. Грязь – синоним позора. Все тут ничтожно, гнусно, презренно. Утонуть в бочке с мальвазией, подобно Кларенсу, – еще куда ни шло; но захлебнуться в выгребной яме, как д’Эскубло, – ужасно. Барахтаться там омерзительно: там бьются в предсмертных судорогах, увязая в грязи. Там такой мрак, что можно счесть его адом, такая тина, что можно счесть ее просто болотом, и умирающий не знает, станет ли он бесплотным призраком или обратится в жабу.
Могила повсюду мрачна; здесь же она безобразна. Глубина плывунов изменялась так же, как их протяженность и плотность, в зависимости от состояния подпочвы. Иногда провал достигал глубины трех-четырех футов, иногда восьми или десяти, иногда же в нем не могли найти дна. В одном месте ил казался почти твердым, в другом – почти жидким. В плывуне Люньер человек тонул бы в течение целого дня, тогда как топь Фелипо поглотила бы его в пять минут. Трясина выдерживает человека дольше или меньше, в зависимости от большей или меньшей своей плотности. Ребенок может спастись там, где проваливается взрослый. Первое условие спасения – это избавиться от всякого груза. Сбросить с себя мешок с инструментами, или корзинку, или творило с известкой – вот с чего начинал всякий рабочий в клоаке, когда чувствовал, что почва под ним начинает оседать.
Провалы вызывались различными причинами: рыхлостью грунта, случайным оползнем на недоступной исследованию глубине, бурными летними ливнями, непрерывными зимними осадками, осенними моросящими дождями. Иногда тяжесть окружающих домов, построенных на мергелевой или песчаной почве, прогибала своды подземных галерей и заставляла их покоситься, а порой, не выдержав давления, трескался и раскалывался фундамент. Лет сто тому назад осевшее здание Пантеона завалило таким образом часть подземелий в горе Сент-Женевьев. Когда под тяжестью домов происходил обвал в клоаке, это разрушение в некоторых случаях обнаруживало себя наверху в виде рассевшихся булыжников мостовой, ощерившихся, точно зубья пилы; такая щель вилась по всей линии треснувшего свода, и тогда, видя повреждение, можно было принять срочные меры. Нередко случалось, однако, что внутреннее повреждение не обозначалось на поверхности никакими рубцами. В таких случаях несдобровать было рабочим клоаки! Войдя без предосторожностей в обвалившийся водосток, они легко могли погибнуть. В старинных реестрах упоминается немало рабочих, погребенных таким образом в плывунах. Там перечислено много имен; среди прочих имя некоего Блеза Путрена, провалившегося при обвале водостока под улицей Заговенья; Блез Путрен приходился братом последнему могильщику кладбища, так называемого Костехранилища Инносан, Никола́ Путрену, который работал там вплоть до 1785 года, когда это кладбище перестало существовать.
В те же реестры попал и упомянутый нами юный, прелестный виконт д’Эскубло, один из героев осады Лериды, которые шли на приступ в шелковых чулках, с оркестром скрипачей во главе. Застигнутый ночью у своей кузины, герцогини де Сурди, д’Эскубло утонул в трясине Ботрельи, куда укрылся, чтобы спастись от герцога. Когда г-же де Сурди сообщили о его гибели, она потребовала флакон с солями и так долго нюхала его, что забыла о слезах. В подобных случаях никакая любовь не устоит, клоака потушит ее. Геро откажется обмыть труп Леандра, Фисба заткнет нос при виде Пирама и скажет: «Фи!».
Глава 6. Провал.
Перед Жаном Вальжаном был провал.
Подобного рода разрушения в то время часто происходили в подпочве Елисейских полей, где грунт неудобен для гидравлических работ и недостаточно прочен для подземных сооружений из-за необычайной своей плывучести. Этот грунт превосходит плывучестью даже рыхлые пески квартала Сен-Жорж, с которыми удалось справиться лишь при помощи бетонного фундамента, даже пропитанные газом глинистые пласты квартала Мучеников, которые настолько разжижены, что подземную галерею под улицей Мучеников пришлось заключить в чугунную трубу. Когда в 1836 году под предместьем Сент-Оноре разрушили для перестройки древний каменный водосток, куда сейчас углубился Жан Вальжан, то зыбучие пески – основная подпочва Елисейских полей до самой Сены – явились таким серьезным препятствием, что работы затянулись почти на полгода, к величайшему огорчению прибрежных жителей, в особенности владельцев особняков и роскошных карет. Земляные работы были там не только трудными: они были опасными. Правда, надо учесть, что в том году дожди лили непрерывно четыре с половиной месяца и Сена три раза выступала из берегов.
Провал, который встретился на пути Жана Вальжана, был вызван вчерашним ливнем. Вследствие оседания каменного настила, плохо укрепленного на песчаной подпочве, там образовалось большое скопление дождевых вод. Вода просочилась под настил, вслед за чем произошел обвал. Прогнувшийся фундамент опустился в трясину. На каком протяжении? Невозможно установить. Мрак в этом месте был непрогляднее, чем где бы то ни было. Это был омут грязи в пещере ночи.
Жан Вальжан почувствовал, что мостовая ускользает у него из-под ног. Он ступил в яму. На поверхности была вода, на дне – тина. Все равно надо было пройти. Возвращаться назад немыслимо. Мариус казался при последнем издыхании, и сам он изнемогал. Да и куда ему идти? Жан Вальжан двинулся вперед. К тому же на первых порах яма показалась ему неглубокой. Но чем дальше он продвигался, тем глубже увязали ноги. Вскоре тина дошла ему до икр, а вода выше колен. Он шагал, поднимая Мариуса обеими руками как можно выше над водой. Тина доходила ему теперь уже до колен, а вода до пояса. Он уже не мог вернуться назад. Его затягивало все глубже и глубже. Ил, достаточно плотный, чтобы выдержать тяжесть одного человека, не мог, очевидно, выдержать двоих. Мариусу и Жану Вальжану удалось бы выбраться только поодиночке. Но Жан Вальжан продолжал идти вперед, неся на себе умирающего, а может быть, – кто знает? – мертвеца.
Вода доходила ему до подмышек, он чувствовал, что тонет; он едва-едва передвигал ноги в этой глубокой тине. Толща грязи, служившая опорой, являлась в то же время и препятствием. Он по-прежнему приподнимал Мариуса над поверхностью и с нечеловеческим напряжением сил двигался вперед, но погружался все глубже. Над водой оставались только голова и две руки, держащие Мариуса. Где-то на старинной картине, изображающей Всемирный потоп, нарисована мать, которая вот так поднимает над головой своего ребенка.
Он погрузился еще глубже, он запрокинул голову назад, чтобы не захлебнуться; тот, кто увидел бы это лицо во тьме, принял бы его за маску, плывущую по мраку. Жан Вальжан смутно различал над собой свесившуюся голову и посинелое лицо Мариуса. Он сделал последнее отчаянное усилие и шагнул вперед; и вдруг нога его наткнулась на что-то твердое, нашла точку опоры. Еще миг, и было бы поздно!
Он выпрямился, рванулся вперед в каком-то исступлении и словно прирос к этой точке опоры. Она показалась ему первой ступенькой лестницы, ведущей к жизни.
Опора, обретенная им в трясине в последний смертный миг, оказалась началом выходящего из-под воды каменного настила, который не обрушился, а только осел и прогнулся под водой целиком, подобно доске. Хорошо выложенный настил в таких случаях выгибается дугой и держится прочно. Эта часть мощеного дна водостока, наполовину затопленная, но устойчивая, представляла собою своего рода лестницу, и, попав на эту лестницу, человек был спасен. Жан Вальжан поднялся по наклонной плоскости и достиг другого края провала.
Выходя из воды, он споткнулся о камень и упал на колени. Приняв это как должное, он так и остался коленопреклоненным, от всей души вознося безмолвную молитву богу.
Потом он встал, весь дрожа, закоченев от холода, задыхаясь от смрада, сгибаясь под тяжестью раненого, которого тащил на себе; с него струились потоки грязи, но душа была полна неизъяснимым светом.
Глава 7. Порою терпят крушение там, где надеются пристать к берегу.
И он снова пустился в путь.
Но если в трясине он не лишился жизни, то, казалось, лишился там всех своих сил. Напряжение последних минут доконало его. Усталость дошла до такого предела, что через каждые три-четыре шага он принужден был делать передышку и прислоняться к стене. Однажды, когда ему пришлось присесть на выступ у стены, чтобы переложить Мариуса поудобнее, он почувствовал, что там и останется. Но если телесные его силы иссякли, то воля не была сломлена. И он встал.
Он пошел вперед с отчаянием, почти бегом, сделал так шагов сто, не поднимая головы, не переводя духа, и вдруг стукнулся об стену. Он достиг угла, где водосток сворачивает в сторону, и так как он шел с низко опущенной головой, то на повороте наткнулся на стену. Он поднял глаза и вдруг, в конце подземелья, где-то впереди, далеко-далеко – увидел свет. На этот раз он не казался угрожающим, это был приветливый белый свет. Там был день.
Жан Вальжан видел впереди дверь на волю.
Если бы среди адского пекла душа грешника увидела вдруг выход из геенны огненной, она испытала бы то же, что испытал Жан Вальжан. В безумном порыве, на своих искалеченных обгорелых крыльях она устремилась бы к лучезарным вратам. Жан Вальжан уже не чувствовал усталости, не ощущал тяжести Мариуса, стальные мышцы его снова напряглись. Он уже не шел, а бежал. И все яснее и яснее обозначался просвет. Это была полукруглая арка, расположенная ниже постепенно опускающегося свода и более узкая, чем галерея, суживающаяся по мере того, как понижался свод. Конец туннеля напоминал собою внутренность воронки, с узким, неудобным выходом, вроде калитки смирительного дома, подходящей для тюрьмы, но никак не для клоаки; впоследствии эта несообразность была исправлена.
Жан Вальжан подошел к отверстию.
Там он остановился.
Это действительно был выход, но выйти было нельзя.
Арка была загорожена толстой решеткой, а решетка, которая, по всей видимости, редко поворачивалась на проржавленных петлях, плотно прилегала к каменному наличнику, запертая на массивный замок, красный от ржавчины и похожий на громадный кирпич. Были видны замочная скважина и тяжелый замочный язык, глубоко задвинутый в железную скобу. Замок, по-видимому, был заперт на два поворота и казался одним из тех тюремных замков, на какие не скупился в те времена старый Париж.
По ту сторону решетки – свежий воздух, река, дневной свет, береговая коса, узкая, но не настолько, чтобы нельзя было пройти по ней, отдаленные набережные Парижа – этой бездны, где так легко скрыться, широкий горизонт, свобода. Направо, вниз по реке, виднелся Иенский мост, налево, вверх по течению, – мост Инвалидов: самое подходящее место, чтобы дождаться темноты и незаметно ускользнуть. Это был один из самых безлюдных уголков Парижа, набережная против Большого Камня. Сквозь железные прутья решетки влетали и вылетали мухи.
Было, вероятно, около половины девятого вечера. Начинало смеркаться.
Жан Вальжан положил Мариуса у стены, на сухую часть каменного пола, и, подойдя к решетке, судорожно впился в прутья обеими руками; толчок был бешеный, результата никакого. Решетка не дрогнула. Жан Вальжан рванул каждый прут по очереди, надеясь, что удастся выломать наименее прочный и, орудуя им как рычагом, приподнять дверь или сбить замок. Ни один прут не подался. Даже у тигра зубы в деснах не сидят так прочно. Ни рычага, ничего тяжелого под рукой. Препятствие было непреодолимо. Отворить дверь невозможно.
Неужели их ждал тут конец? Что делать? Как быть? Вернуться назад, начать сызнова страшное путешествие, уже раз им проделанное, он был не в силах. К тому же, как снова перебраться через топь, откуда они выбрались только чудом? Да и помимо топи, разве не было там полицейского патруля, от которого, конечно, не удалось бы скрыться во второй раз? Кроме того, куда идти? Какое направление избрать? Спускаться по уклону вовсе не значило дойти до цели. Даже если найдется другой выход, он тоже окажется замурованным или загороженным решеткой. Очевидно, все выходы запирались таким образом. Решетка, через которую они проникли, лишь случайно оказалась неисправной, остальные же отверстия клоаки, несомненно, все были закрыты. Они спаслись лишь для того, чтобы попасть в темницу.
Это был конец. Все, что совершил Жан Вальжан, оказалось бесполезным. Силы иссякли, надежды рухнули.
Они запутались оба в необъятной темной паутине смерти, и Жан Вальжан чувствовал, как, раскачивая черные нити, ползет к ним во мраке чудовищный паук.
Он повернулся спиной к решетке и опустился, вернее, рухнул, на каменные плиты, возле все еще недвижимого Мариуса; голова его низко склонилась к коленям. Выхода нет! Это была последняя капля в чаше отчаяния.
О чем думал он в смертельной тоске? Не о себе и не о Мариусе. Он думал о Козетте.
Глава 8. Лоскут от разорванною сюртука.
Вдруг чья-то рука, тронув его за плечо, вывела из забытья, и чей-то голос проговорил шепотом:
– Добычу пополам!
Что это? Здесь кто-то есть. Ничто так не напоминает бреда, как отчаяние. Жан Вальжан подумал, что бредит. Он не слышал шагов. Возможно ли это? Он поднял глаза.
Перед ним стоял какой-то человек.
Человек был одет в блузу; он стоял босиком, держа башмаки в левой руке; очевидно, он снял их, чтобы неслышно подкрасться к Жану Вальжану.
Как ни неожиданна была встреча, Жан Вальжан не сомневался ни минуты; он сразу узнал человека. Это был Тенардье.
Жан Вальжан привык к опасностям и умел быстро отражать внезапное нападение; даже захваченный врасплох, он сразу овладел собой. Кроме того, его положение не могло стать хуже, чем было: отчаяние, достигшее крайних пределов, уже ничем нельзя усугубить, и даже сам Тенардье не способен был сгустить мрак этой ночи.
С минуту они оба выжидали.
Приложив правую ладонь козырьком ко лбу, Тенардье нахмурил брови и прищурился, слегка сжав губы, как человек, с пристальным вниманием старающийся распознать другого. Ему это не удалось. Жан Вальжан, как мы уже сказали, сидел спиной к свету и вдобавок был так обезображен, так залит кровью и запачкан грязью, что даже в яркий день его невозможно было бы узнать. Напротив, освещенный спереди, со стороны решетки, белесоватым, но при всей его мертвенности отчетливым светом подземелья, Тенардье, согласно избитому, но меткому выражению, «сразу бросился в глаза» Жану Вальжану. Этого неравенства условий оказалось достаточно, чтобы Жан Вальжан получил некоторое преимущество в той таинственной дуэли, которая должна была завязаться между двумя людьми в разных положениях. Жан Вальжан выступал на поединке с закрытым лицом, а Тенардье – без маски.
Жан Вальжан тотчас же заметил, что Тенардье не узнал его.
Несколько мгновений они разглядывали друг друга в тусклом полусвете, как бы примеряясь один к другому. Первым нарушил молчание Тенардье:
– Как ты думаешь выбраться отсюда?
Жан Вальжан не ответил.
Тенардье продолжал:
– Отмычка здесь не поможет. А выйти тебе отсюда надо.
– Это правда, – сказал Жан Вальжан.
– Так вот, добычу пополам.
– Что ты хочешь сказать?
– Ты пришил человека. Дело твое. Но ключ-то у меня.
И Тенардье указал пальцем на Мариуса.
– Я тебя не знаю, – продолжал он, – но хочу тебе помочь. Ты, я вижу, свой парень.
Жан Вальжан начал догадываться: Тенардье принимал его за убийцу.
Тенардье заговорил снова:
– Слушай, приятель. Коли ты прикончил молодца, так уж, верно, обшарил его карманы. Давай мне мою половину. А я отомкну тебе дверь.
И, вытащив наполовину из-под своей дырявой блузы тяжелый ключ, он добавил:
– Хочешь поглядеть, каков из себя ключ от воли? Вот он, полюбуйся.
Жан Вальжан был до такой степени «ошарашен», пользуясь словцом старика Корнеля, что не верил собственным глазам. Неужели само провидение явилось ему в столь отвратительном обличье, неужели светлый ангел вырос из-под земли под видом Тенардье?
Тенардье засунул руку за пазуху, вытащил из объемистого внутреннего кармана веревку и протянул Жану Вальжану.
– Держи-ка, – сказал он, – вот тебе еще веревка в придачу.
– Зачем мне веревка?
– Надо бы еще и камень, да ты найдешь его снаружи. Там целая куча щебня.
– Зачем мне камень?
– Вот болван! Тебе же придется бросить в реку эту падаль, стало быть, нужны и веревка, и камень. А то всплывет наверх.
Жан Вальжан взял веревку. В иные минуты человек машинально соглашается на все.
Тенардье прищелкнул пальцами, как будто его поразила внезапная мысль:
– Скажи-ка, приятель, как это ты ухитрился выбраться из трясины? Я не мог на это решиться… Фу, нельзя сказать, чтобы от тебя хорошо пахло.
Помолчав, он прибавил:
– Я задаю тебе вопросы, но ты правильно делаешь, что не отвечаешь. Готовишься к допросу у следователя? Поганая минутка! Конечно, если вовсе не говорить, не рискуешь проговориться. А все-таки, хоть я тебя не вижу и по имени не знаю, ты напрасно думаешь, будто мне непонятно, кто ты и чего тебе надо. Видали таких. Ты легонько подшиб этого молодца и теперь хочешь его сплавить. Тебе нужна река, – чтобы концы в воду. Так и быть, я помогу тебе выпутаться. Выручить славного малого из беды – это по моей части.
Хваля Жана Вальжана за молчание, он тем не менее явно старался вызвать его на разговор. Он хватил его по плечу, пытаясь разглядеть лицо сбоку, и воскликнул, не особенно, впрочем, повышая голос:
– Кстати, насчет трясины. Экий ты дурак! Почему ты не сбросил его туда?
Жан Вальжан хранил молчание.
Тенардье, жестом положительного, солидного человека подтянув к самому кадыку тряпку, заменявшую ему галстук, продолжал:
– А впрочем, ты, пожалуй, поступил неглупо. Завтра рабочие пришли бы затыкать дыру и уж, верно, нашли бы там этого подкидыша; а тогда шаг за шагом, потихоньку-помаленьку напали бы на твой след и добрались бы до тебя самого. Ага, скажут, кто-то ходил по клоаке! Кто такой? Откуда он вышел? Не видал ли кто, когда он выходил? Легавым ума не занимать стать. Водосток – доносчик, непременно выдаст. Ведь такая находка тут – редкость, она привлекает внимание; в клоаку мало кто заходит по делу, а река – для всех. Река – что могила. Ну, пускай через месяц выудят утопленника из сеток Сен-Клу. А на черта он годится? Падаль, и больше ничего. Кто убил человека? Париж. Суд даже и следствия не начнет. Ты хорошо сделал.
Чем больше болтал Тенардье, тем упорнее молчал Жан Вальжан. Тенардье снова тряхнул его за плечо.
– А теперь давай по рукам. Поделимся. Я показал тебе ключ, покажи свои деньги.
Вид у Тенардье был беспокойный, дикий, недоверчивый, слегка угрожающий и вместе с тем дружелюбный.
Странное дело, в повадках Тенардье чувствовалось что-то неестественное, ему словно было не по себе; хоть он и не напускал на себя таинственности, однако говорил тихо и время от времени, приложив палец к губам, шептал: «Тсс!» Трудно было угадать, почему. Кроме них двоих, там никого не было. Жану Вальжану пришло в голову, что где-нибудь неподалеку, в закоулке, скрываются другие бродяги и у Тенардье нет особой охоты делиться с ними добычей.
Тенардье опять заговорил:
– Давай кончать. Сколько ты наскреб в ширманах у этого разини?
Жан Вальжан порылся у себя в карманах.
Как мы помним, у него была привычка всегда иметь при себе деньги. В мрачной, полной опасностей жизни, на которую он был обречен, это стало для него законом. На сей раз, однако, он был застигнут врасплох. Накануне вечером, находясь в подавленном, мрачном состоянии, он забыл, переодеваясь в мундир национальной гвардии, захватить с собой бумажник. Только в жилетном кармане у него нашлось несколько монет. Он вывернул пропитанные грязью карманы и выложил на выступ стены один золотой, две пятифранковых монеты и пять или шесть медяков по два су.
Тенардье выпятил нижнюю губу, выразительно покрутив головой.
– Да ты же его убил задаром, – сказал он.
С полной бесцеремонностью он принялся обшаривать карманы Жана Вальжана и карманы Мариуса. Жан Вальжан не мешал ему, стараясь, однако, не поворачиваться лицом к свету. Ощупывая одежду Мариуса, Тенардье, с ловкостью опытного карманника, ухитрился оторвать лоскут от его сюртука и незаметно спрятать за пазуху, вероятно рассчитывая, что этот кусок материи может пригодиться ему впоследствии, чтобы опознать убитого или выследить убийцу. Но, кроме упомянутых тридцати франков, он не нашел ничего.
– Что верно, то верно, – пробормотал он, – один на другом верхом, и у обоих ни шиша.
И, позабыв свое условие «добычу пополам», он забрал себе все.
Глядя на медяки, он было заколебался, но, подумав, тоже сгреб их в ладонь, ворча:
– Все равно! Можно сказать, без пользы пришил человека.
После этого он опять вытащил из-под блузы ключ.
– А теперь, приятель, выходи. Здесь, как на ярмарке, плату берут при выходе. Заплатил, можешь уходить.
Может ли быть, чтобы, выручая незнакомца при помощи ключа и выпуская на волю вместо себя другого, он руководился чистым и бескорыстным намерением спасти убийцу? В этом мы позволим себе усомниться.
Тенардье помог Жану Вальжану снова взвалить Мариуса на плечи, затем на цыпочках подкрался к решетке и, подав Жану Вальжану знак следовать за ним, выглянул наружу, приложил палец к губам и застыл на мгновение, как бы выжидая; наконец, осмотревшись по сторонам, он вложил ключ в замок. Язычок замка скользнул в сторону, и дверь отворилась. Не было слышно ни скрипа, ни стука. Все произошло в полной тишине. Было ясно, что и решетка, и дверные петли заботливо смазывались маслом и отворялись гораздо чаще, чем можно было подумать. Эта тишина казалась зловещей; за ней чудились тайные появления и исчезновения, молчаливый приход и уход людей ночного промысла, волчий неслышный шаг преступления. Клоака, очевидно, была заодно с какой-то таинственной шайкой. Безмолвная решетка являлась их сообщницей.
Тенардье приотворил дверцу ровно настолько, чтобы пропустить Жана Вальжана, запер решетку, дважды повернул ключ в замке и погрузился в сумрак. Будто прошел на бархатных лапах тигр. Минуту спустя это провидение в отвратительном обличье сгинуло среди непроницаемой тьмы.
Жан Вальжан очутился на воле.
Глава 9. Человек, знающий толк в таких делах, принимает Мариуса за мертвеца.
Жан Вальжан опустил Мариуса на берег.
Они были на воле!
Миазмы, темнота, ужас остались позади. Он свободно дышал здоровым, чистым, целебным воздухом, который хлынул на него живительным потоком. Повсюду кругом стояла тишина, отрадная тишина ясного безоблачного вечера. Сгущались сумерки, надвигалась ночь, великая избавительница, верная подруга всем, кому нужен покров мрака, чтобы отогнать мучительную тревогу. Со всех сторон необъятное небо струило на него бесконечное успокоение. Легкий плеск реки у его ног напоминал звук поцелуя. С высоких вязов Елисейских полей доносились воздушные диалоги птичьих семейств, перекликавшихся перед сном. Кое-где на светло-голубом небосклоне выступили звезды; бледные, словно в грезах, они мерцали в беспредельной глубине едва заметными искорками. Вечер изливал на Жана Вальжана все очарование бесконечности.
Стоял тот неверный и дивный час, который нельзя назвать ни днем, ни ночью. Было уже достаточно темно, чтобы потеряться на расстоянии, и еще достаточно светло, чтобы узнать друг друга вблизи.
Жан Вальжан на несколько секунд поддался неотразимому обаянию этого ласкового и торжественного покоя; бывают минуты забвения, когда страдания и тревоги перестают терзать несчастного; мысль затуманивается, благодатный мир, словно ночь, обволакивает мечтателя, и душа в этих лучистых сумерках, подобно загоревшемуся небу, также озаряется звездами. Жан Вальжан невольно отдался созерцанию этой необъятной светящейся мглы над своей головой; задумавшись, он погрузился в торжественную тишину вечного неба, словно в очистительную купель самозабвения и молитвы. Потом, спохватившись, как будто вспомнив о долге, он нагнулся над Мариусом и, зачерпнув в ладонь воды, брызнул ему несколько капель в лицо. Веки Мариуса не разомкнулись, но его полуоткрытый рот еще дышал.
Жан Вальжан собирался зачерпнуть еще воды, но вдруг почувствовал какое-то неясное беспокойство – так бывает, когда кто-то не замеченный вами стоит у вас за спиной.
Нам уже приходилось в другом месте описывать это ощущение, знакомое всякому человеку.
Он обернулся.
Как и в прошлый раз, кто-то действительно был за его спиной.
Человек высокого роста, в длинном сюртуке, скрестив руки и зажав в правом кулаке дубинку со свинцовым набалдашником, стоял в нескольких шагах позади Жана Вальжана, склонившегося над Мариусом.
Сгустившийся сумрак придавал ему облик привидения. Человек суеверный испугался бы его из-за темноты, человек разумный – из-за его дубинки.
Жан Вальжан узнал Жавера.
Читатель, разумеется, уже догадался, что преследователем Тенардье был не кто иной, как Жавер. Неожиданно выйдя целым и невредимым с баррикады, Жавер тут же отправился в полицейскую префектуру, лично, в короткой аудиенции, доложил обо всем префекту и тотчас вернулся к исполнению своих обязанностей, в которые входило, как мы помним из найденного при нем листка, особое наблюдение за правым берегом Сены, вдоль Елисейских полей, привлекавшим с некоторых пор внимание полиции. Там он заметил Тенардье и пошел за ним следом. Остальное мы уже знаем.
Нам понятно также, что решетка, столь предупредительно отворенная перед Жаном Вальжаном, была хитрой уловкой со стороны Тенардье. Тенардье чуял, что Жавер все еще здесь; человек, которого преследуют, наделен безошибочным нюхом; необходимо было бросить кость этой ищейке. Убийца, какая находка! Это был жертвенный дар, на который всякий польстится. Выпуская на волю Жана Вальжана вместо себя, Тенардье науськивал полицейского на новую добычу, сбивал его со следа, отвлекая внимание на более крупного зверя, вознаграждал Жавера за долгое ожидание, что всегда лестно для шпиона, а сам, заработав вдобавок тридцать франков, твердо рассчитывал ускользнуть при помощи этого маневра.
Жан Вальжан попал из огня да в полымя.
Перенести две такие встречи одну за другой – попасть от Тенардье к Жаверу – было тяжким ударом.
Жавер не узнал Жана Вальжана, который, как мы говорили, стал сам на себя не похож. Не меняя позы и лишь крепче сжав неуловимым движением дубинку в руке, он сказал отрывисто и спокойно:
– Кто вы такой?
– Я.
– Кто это вы?
– Жан Вальжан.
Жавер взял дубинку в зубы, наклонился, слегка присев, положил свои могучие руки на плечи Жану Вальжану, сдавив их, словно тисками, внимательно вгляделся и узнал его. Их лица почти соприкасались. Взгляд Жавера был страшен.
Жан Вальжан словно не почувствовал хватки Жавера; так лев не обратил бы внимания на когти рыси.
– Надзиратель Жавер, – сказал он, – я в вашей власти. К тому же с нынешнего утра я считаю себя вашим пленником. Я не для того дал вам свой адрес, чтобы скрываться от вас. Берите меня. Прошу вас только об одном.
Жавер, казалось, не слышал его слов. Он впился в Жана Вальжана своим пронзительным взглядом. Стиснутые челюсти и поджатые почти к самому носу губы служили признаком свирепого его раздумья. Наконец он отпустил Жана Вальжана, выпрямился во весь рост, снова взял в руки дубинку и, точно в забытьи, скорее пробормотал, чем проговорил:
– Что вы здесь делаете? И что это за человек?
Он продолжал обращаться на «вы» к Жану Вальжану. Жан Вальжан ответил, и звук его голоса как будто пробудил Жавера:
– О нем-то я как раз и хотел говорить с вами. Поступайте со мною, как вам угодно, но помогите мне сначала доставить его домой. Только об этом я и прошу.
Лицо Жавера скривилось, как бывало всякий раз, когда он боялся, что его сочтут способным на уступку. Однако он не отказал.
Он опять нагнулся, вытащил из кармана платок и, намочив его в воде, вытер окровавленный лоб Мариуса.
– Этот человек был на баррикаде, – сказал он вполголоса, как бы про себя. – Это тот, кого называли Мариусом.
Первоклассный шпион все подсмотрел, все подслушал, все расслышал и все запомнил, ожидая смерти; он выслеживал даже в агонии и, стоя одной ногой в могиле, продолжал брать все на заметку.
Он схватил руку Мариуса, нащупывая пульс.
– Он ранен, – сказал Жан Вальжан.
– Он умер, – сказал Жавер.
Жан Вальжан возразил:
– Нет. Пока еще жив.
– Значит, вы принесли его сюда с баррикады? – заметил Жавер.
Видно, он был сильно озабочен, если не настаивал на выяснении этого подозрительного бегства через подземелья клоаки и даже не заметил, что Жан Вальжан промолчал на его вопрос.
Да и Жана Вальжана занимала, казалось, одна-единственная мысль. Он снова заговорил:
– Он живет в Марэ, на улице Сестер страстей господних, у своего деда… Я забыл его имя.
Жан Вальжан пошарил в карманах Мариуса, вынул его записную книжку, раскрыл исписанную карандашом страницу и протянул Жаверу.
В вечернем небе брезжило еще достаточно света, и можно было читать. К тому же глаза Жавера фосфоресцировали, как глаза хищных ночных птиц. Он разобрал написанные Мариусом строчки и проворчал сквозь зубы: «Жильнорман, улица Сестер страстей господних, номер шесть».
Потом он крикнул: «Извозчик!».
Читатель помнит о фиакре, стоявшем в ожидании на всякий случай.
Записную книжку Мариуса Жавер оставил у себя.
Через минуту карета съехала на берег по спуску к водопою, Мариуса перенесли на заднее сиденье, а Жавер уселся рядом с Жаном Вальжаном на передней скамейке.
Дверца захлопнулась, и фиакр быстро покатил вдоль набережной, по направлению к Бастилии.
Свернув с набережной, они поехали по улицам. Извозчик, возвышаясь на козлах черным силуэтом, подхлестывал тощих лошадей. В карете царило ледяное молчание. Недвижимое тело Мариуса в углу кареты, с поникшей головой, с безжизненно висящими руками и вытянутыми ногами, как будто ждало, чтобы его положили в гроб; Жан Вальжан казался сотканным из мрака, а Жавер изваянным из камня. В этой темной карете, которая, словно неверной вспышкой молнии, по временам озарялась внутри мертвенным, синеватым светом уличного фонаря, случай зловещим образом свел и сопоставил три воплощения трагической неподвижности – труп, призрак, статую.
Глава 10. Возвращение блудного сына.
При каждом толчке экипажа с волос Мариуса падали капли крови.
Уже совсем стемнело, когда фиакр подъехал к дому номер 6 на улице Сестер страстей господних.
Жавер вышел из кареты первым, бегло взглянул на номер над воротами и, приподняв тяжелый кованый молоток, украшенный по старинной моде изображением столкнувшихся лбами козла и сатира, громко постучал. Дверь приоткрылась. Жавер распахнул ее. Из-за двери, зевая, выглянул заспанный привратник со свечой в руке.
Весь дом спал. В Марэ ложатся засветло, особенно в дни уличных волнений. Этот мирный старый квартал, перепуганный революцией, искал спасения в сне; так дети, в страхе перед букой, поспешно прячут голову под одеяло.
Жан Вальжан с помощью извозчика вынес Мариуса из кареты; Жан Вальжан держал его под мышки, а извозчик за ноги.
Неся его таким образом, Жан Вальжан просунул руку под его разорванное платье и удостоверился, что сердце еще бьется. Оно билось даже немного сильнее, словно движение экипажа вызвало у раненого приток жизненных сил.
Жавер спросил привратника резким тоном, как и подобало представителю власти обращаться со слугою бунтовщика:
– Живет тут кто-нибудь по имени Жильнорман?
– Живет. Что вам угодно?
– Мы привезли его сына.
– Сына? – тупо переспросил привратник.
– Он умер.
Показавшийся за спиной Жавера оборванный и грязный Жан Вальжан, на которого привратник уставился с ужасом, сделал ему знак, что это неправда.
Привратник, казалось, не понял ни слов Жавера, ни знаков Жана Вальжана.
Жавер продолжал:
– Он пошел на баррикаду – и вот, доигрался.
– На баррикаду?! – вскричал привратник.
– Его там убили. Поди разбуди отца.
Привратник не трогался с места.
– Ступай же! – повторил Жавер. И добавил: – Завтра тут будут похороны.
Для Жавера все события общественной жизни были распределены по категориям, с этого начинаются попечение и надзор; любой случайности было отведено определенное место; возможные события хранились, так сказать, в особых ящиках, откуда появлялись вместе или порознь, судя по обстоятельствам; на улицах, например, могли происходить нарушения тишины, бунты, карнавалы и похороны.
Привратник ограничился тем, что разбудил Баска. Баск разбудил Николетту, Николетта разбудила тетушку Жильнорман. Но деда не тревожили, решив, что чем позже он узнает новость, тем лучше.
Мариуса внесли во второй этаж, впрочем, так осторожно, что в другой половине дома никто этого не заметил, и уложили на старый диван в прихожей г-на Жильнормана. Когда Баск отправился за доктором, а Николетта стала рыться в бельевых шкафах, Жан Вальжан почувствовал, что Жавер трогает его за плечо. Он понял и спустился вниз, слыша позади шаги Жавера, который шел за ним по пятам.
Привратник глядел им вслед с тем же сонным испуганным видом, с каким встретил их появление.
Они снова сели в фиакр, а извозчик взобрался на козлы.
– Надзиратель Жавер, – сказал Жан Вальжан, – окажите мне еще одну милость.
– Какую? – сурово спросил Жавер.
– Позвольте мне зайти на минуту домой. А там делайте со мной что хотите.
Жавер помолчал несколько мгновений, уткнув подбородок в воротник сюртука, затем опустил переднее окошко кареты.
– Извозчик, – сказал он, – на улицу Вооруженного человека, номер семь.
Глава 11. Потрясение незыблемых основ.
За все время пути они больше не раскрывали рта.
Что хотел сделать Жан Вальжан? Довести до конца начатое дело: предупредить Козетту, сообщить ей, где находится Мариус, дать ей, быть может, другие полезные указания, сделать, если успеет, последние распоряжения. Что же до него, до его собственной судьбы, то все было кончено, он попал в руки Жавера и не сопротивлялся. Другой человек в таком положении подумал бы, вероятно, о веревке, полученной от Тенардье, и о перекладинах решетки в первой же тюремной камере, куда он попадет; но со времени встречи с епископом всякое покушение, даже на собственную жизнь, мы подчеркиваем это, вызывало в Жане Вальжане глубокий религиозный протест.
Самоубийство, это таинственное насилие над неведомым, быть может, в какой-то мере убивающее душу, казалось невозможным Жану Вальжану.
В самом начале улицы Вооруженного человека фиакр остановился, так как она была слишком узка для проезда экипажей. Жавер и Жан Вальжан сошли на мостовую.
Извозчик смиренно просил господина надзирателя обратить внимание, что утрехтский бархат внутри кареты был весь в пятнах от крови убитого и от грязной одежды убийцы. Только это и дошло до него. Он добавил, что следовало бы возместить убытки. Тут же, вытащив из кармана свою контрольную книжку, он просил господина надзирателя сделать ему милость и написать там «какую ни на есть аттестацию, хоть самую пустячную».
Жавер оттолкнул книжку, которую протягивал ему извозчик, и спросил:
– Сколько тебе следует, считая за проезд и простой?
– Теперь уж четверть восьмого, – отвечал кучер, – да и бархат мой был новехонький. Восемьдесят франков, господин инспектор.
Жавер вынул из кармана четыре наполеондора и отпустил фиакр.
Жан Вальжан подумал, что Жавер собирается пешком отвести его на караульный пост улицы Белых мантий или Архива, находившихся совсем рядом.
Они пошли по улице. Она, как всегда, была безлюдна. Жавер следовал за Жаном Вальжаном. Они поравнялись с домом номер 7. Жан Вальжан постучался. Дверь отворилась.
– Хорошо, – сказал Жавер. – Входите.
Он прибавил с каким-то странным выражением, точно делая над собой усилие, произнося эти слова:
– Я подожду вас здесь.
Жан Вальжан взглянул на него. Подобный образ действия был далеко не в привычках Жавера. Однако презрительное доверие, оказываемое ему Жавером, доверие кошки, которая отпускает мышь ровно настолько, чтобы вонзить в нее затем когти, не могло особенно удивить его, ибо он сам решил отдаться в руки правосудия и на этом все покончить. Он толкнул дверь, вошел в дом, окликнул заспанного привратника, который дернул шнурок, не вставая с постели. Потом поднялся по лестнице.
Дойдя до второго этажа, он остановился. На всяком крестном пути есть свои передышки. Подъемное окно на площадке было открыто. Как во многих старинных домах, лестница была светлая, окно это выходило на улицу. От уличного фонаря, стоявшего как раз напротив, на лестничные ступеньки падали лучи, что избавляло от расходов на освещение.
Жан Вальжан, то ли чтобы подышать свежим воздухом, то ли просто безотчетно, высунул голову в окно. Он выглянул на улицу. Она была совсем коротенькая, и фонарь освещал ее всю целиком. Жан Вальжан остолбенел от изумления: на улице никого не было.
Жавер ушел.
Глава 12. Дед.
Баск и привратник перенесли в гостиную диван, на котором Мариус по-прежнему лежал без движения. Сразу послали за доктором, и он тут же явился. Встала и тетушка Жильнорман.
Испуганная тетушка ходила взад и вперед, ломая руки, и только бормотала: «Боже милостивый, возможно ли?» Иногда она прибавляла: «Все будет перепачкано кровью!» Когда первое потрясение улеглось, мозг ее оказался способным в некотором роде философски осмыслить создавшееся положение, что выразилось в следующем возгласе: «Этим и должно было кончиться!» Правда, она не дошла до формулы: «Я давно это предсказывала!», обычно изрекаемой в подобных случаях.
По приказанию врача рядом с диваном поставили складную кровать. Доктор осмотрел Мариуса и, удостоверившись, что пульс бьется, что на груди нет ни одной глубокой раны и что кровь, запекшаяся в углах рта, текла из носовой полости, велел положить его на койку плашмя, без подушки, – голову на одном уровне с туловищем, даже несколько ниже, – и обнажить грудь, чтобы облегчить дыхание. Девица Жильнорман, увидев, что Мариуса раздевают, поспешно удалилась к себе в комнату, где принялась усердно молиться, перебирая четки.
У Мариуса не обнаружилось особых внутренних повреждений; скользнув по записной книжке, пуля отклонилась в сторону и прошла вдоль ребер, образовав рваную рану, ужасную с виду, но неглубокую и, следовательно, неопасную. Долгое подземное путешествие довершило вывих перебитой ключицы, и лишь это повреждение оказалось серьезным. Руки были изрублены сабельными ударами; ни один шрам не обезобразил лица, но голова была вся словно исполосована. Какие последствия повлекут эти ранения в голову? Затронули они только кожный покров? Или повредили череп? Пока еще определить было невозможно. Опасным симптомом являлось то, что они вызвали обморок, а от подобных обмороков не всегда приходят в чувство. Кроме того, раненый обессилел от потери крови. Нижняя половина тела не пострадала, так как Мариус был до пояса защищен баррикадой.
Баск и Николетта разрывали белье и готовили бинты; Николетта сшивала их. Баск скатывал. Корпии под рукой не было, и доктор останавливал кровотечение, затыкая раны тампонами из ваты. Возле кровати на столе, где был разложен целый набор хирургических инструментов, горели три свечи. Врач обмыл лицо и волосы Мариуса холодной водой. Привратник светил ему, держа в руке свечу. Полное ведро в один миг окрасилось кровью.
Доктор казался погруженным в печальные размышления. По временам он отрицательно покачивал головой, словно отвечая на вопросы, которые сам себе задавал. Дурной знак для больного – эти таинственные диалоги врача с самим собой!
В ту минуту, когда доктор обтирал лицо раненого, тихонько касаясь пальцами все еще закрытых век, в глубине гостиной отворилась дверь, и появилась высокая белая фигура.
Это был дед.
Последние два дня мятеж сильно волновал, возмущал и тревожил г-на Жильнормана. Прошлую ночь он не смыкал глаз, и весь день его лихорадило. Вечером он улегся спать очень рано, приказав накрепко запереть весь дом, и от усталости наконец задремал.
Сон у стариков чуткий; спальня г-на Жильнормана была рядом с гостиной, и, несмотря на все предосторожности, шум разбудил его. Удивленный светом, проникавшим сквозь дверную щель, он встал с постели и ощупью добрался до двери.
Он остановился на пороге в изумлении, держась одной рукой за ручку полуоткрытой двери, слегка наклонив вперед трясущуюся голову; на нем был белый облегающий тело халат, прямой и гладкий, точно саван; казалось, призрак заглядывает в могилу.
Он увидел ярко освещенную кровать и распростертого на ней окровавленного молодого человека, бледного как воск, с закрытыми глазами, полуоткрытым ртом и бескровными губами, обнаженного по пояс, в багровых ранах, недвижимого.
Старик задрожал с головы до ног; глаза его с желтыми от старости белками затуманились и остекленели, лицо осунулось и уподобилось черепу, покрывшись землистыми тенями, руки безжизненно повисли, точно в них сломалась пружина, раздвинутые пальцы старческих рук судорожно вздрагивали, колени подогнулись, и распахнувшийся халат открыл худые голые ноги, заросшие седыми волосами; он прошептал:
– Мариус!
– Сударь, – сказал Баск, – господина Мариуса только что принесли. Он пошел на баррикаду, и там…
– Он умер! – воскликнул старик страшным голосом. – Ах, разбойник!
И вдруг, словно после загробного преображения, этот столетний старец выпрямился во весь рост, как юноша.
– Сударь, – сказал он, – вы врач. Прежде всего скажите мне одно: он умер, не правда ли?
Доктор, встревоженный до последней степени, хранил молчание.
Заломив руки, г-н Жильнорман разразился ужасным смехом:
– Он умер! Он умер! Он дал себя убить на баррикаде! Из ненависти ко мне! Он сделал это мне назло! А, кровопийца! Вот как он вернулся ко мне! Горе мне, он умер!
Он подошел к окну, распахнул его настежь, как будто ему не хватало воздуха, и, стоя лицом к лицу с тьмой, заговорил в ночь, оглашая воплями спящую улицу:
– Исколот, изрублен, зарезан, искромсан, загублен, рассечен на куски! Посмотрите на него – каков негодяй! Он прекрасно знал, что я жду его, что я велел приготовить для него комнату, что я повесил у изголовья моей постели его детский портрет! Он отлично знал, что ему стоило только вернуться, что я призывал его долгие годы, что целыми вечерами я просиживал у камелька, сложив руки на коленях дурак дураком и не понимая, что делать! Ты хорошо знал, что тебе стоит только вернуться и сказать: «Вот и я!» – и ты станешь полным хозяином, и я буду повиноваться тебе, и ты будешь делать все, что тебе вздумается с твоим старым растяпой-дедом! Ты это знал и все-таки решил: «Нет, он роялист, я не пойду к нему!» И ты побежал на баррикаду и дал убить себя из одного окаянства, нарочно, чтобы отомстить за мои слова о его светлости герцоге Беррийском! Это подло. Ложитесь после этого в постель и попробуйте-ка спать спокойно! Он умер. Вот оно, мое пробуждение.
Доктор, который начал тревожиться уже за обоих, покинул на минуту Мариуса, подошел к г-ну Жильнорману и взял его за руку. Старик обернулся, посмотрел на него расширенными, налившимися кровью глазами и медленно произнес:
– Благодарю вас, сударь. Я спокоен, я мужчина, я видел кончину Людовика Шестнадцатого, я умею переносить испытания. Но вот что особенно ужасно – это мысль, что все зло наделали ваши газеты. Пускай у вас будут писаки, краснобаи, адвокаты, ораторы, трибуны, словопрения, прогресс, просвещение, права человека, свобода печати, – но вот в каком виде принесут вам домой ваших детей! Ах, Мариус, это чудовищно! Убит! Умер раньше меня! На баррикаде! Ах, бандит! Доктор, вы, кажется, живете в нашем квартале? О, я хорошо вас знаю. Я часто вижу из окна, как вы проезжаете мимо в кабриолете. Я вам все скажу. Вы напрасно думаете, что я сержусь. На мертвых не сердятся. Это было бы нелепо. Но ведь я вырастил этого ребенка. Я был уже стар, когда он был еще малюткой. Он играл в парке Тюильри с лопаткой и тележкой, и, чтобы сторожа не ворчали, я терпеливо заравнивал тростью все ямки, которые он выкапывал в песке своей лопаточкой. И вот однажды он крикнул: «Долой Людовика Восемнадцатого!» – и ушел из дому. Это не моя вина. Он был такой розовый, такой белокурый. Мать его умерла. Вы заметили, что маленькие дети все белокурые? Отчего это бывает? Он сын одного из этих луарских разбойников, но ведь дети не отвечают за преступления отцов. Я помню его, когда он был вот такого роста. Ему никак не удавалось выговорить букву Д. Он щебетал так нежно и так непонятно, точно птенчик. Помню, как однажды, возле статуи Геркулеса Фарнезского, все обступили этого ребенка, любуясь и восхищаясь им, до того он был хорош! Только на картинах увидишь такие очаровательные головки. Напрасно я говорил сердитым голосом, грозил ему тростью, но он отлично понимал, что это не всерьез. Когда по утрам он вбегал ко мне в спальню, я ворчал, но мне казалось, что взошло солнце. Невозможно устоять против таких малышей. Они завладевают нами, держат и не выпускают. По правде сказать, не было ничего на свете прелестней этого ребенка. После этого что вы мне можете сказать о всех ваших Лафайетах, Бенжаменах Констанах, о Тиркюи де Корселях, о всех тех, кто отнял его у меня? Это вам даром не пройдет!
Он приблизился к мертвенно-бледному, безжизненному Мариусу, возле которого хлопотал врач, и снова принялся ломать руки. Бескровные губы его шевелились как бы непроизвольно, и из них вырывались, словно слабые вздохи среди предсмертного хрипа, почти неуловимые, бессвязные слова:
– Ах, бессердечный! Ах, якобинец! Ах, злодей! Ах, разбойник!
Умирающий еле слышным голосом упрекал мертвеца. Внутренние потрясения в конце концов неизбежно проявляются вовне, и речь деда мало-помалу снова стала связной, но у того уже не хватало сил произносить слова; голос звучал так глухо и слабо, как будто доносился с другого края пропасти.
– Мне все равно, я и сам скоро умру. Подумать только, разве сыщется в Париже такая чудачка, что не была бы рада составить счастье этого негодника! Бессовестный, вместо того чтобы веселиться и наслаждаться жизнью, он пошел драться и дал изрешетить себя пулями как дурак! И было бы за что! За Республику! Вместо того чтобы танцевать на балу в Шомьер, как надлежит молодым людям! Ведь ему только двадцать лет! Республика, что за чертова чепуха! Бедные матери, рожайте после этого красивых мальчиков! Говорят вам, он умер. Значит, из наших ворот выйдут одна за другой две похоронные процессии. Итак, ты отколол такую штуку ради прекрасных глаз генерала Ламарка? Чем ты ему обязан, этому генералу Ламарку? Этому рубаке, этому болтуну? Пошел на смерть ради покойника! Есть от чего с ума сойти! Поймите! Двадцать лет от роду! И даже не оглянулся на то, что осталось позади! И вот теперь бедному старику приходится умирать в одиночестве. Подыхай в своем углу, старый филин! Ну что ж, пожалуй, так лучше, именно этого я и хотел, это убьет меня сразу. Я слишком стар, мне сто лет, мне сто тысяч лет, я уже давным-давно имею право умереть. Этот удар и доконает меня. Значит, все кончено. Какое счастье! Зачем давать ему нюхать нашатырь и пить всякую дрянь? Вы напрасно теряете время, безмозглый вы лекарь! Будет вам, он же умер, умер по-настоящему. Уж я-то понимаю в этом толк, я тоже мертвец. Он довел дело до конца. Подлое, подлое, подлое время! Вот что я думаю о вас, о ваших идеях, ваших системах, ваших главарях, оракулах, врачах, негодяях-писателях, прощелыгах-философах, о всех этих революциях, которые целых шестьдесят лет только распугивают ворон в Тюильри! И если ты был настолько безжалостен, что погубил себя таким образом, то и поделом, я и горевать о тебе не стану, слышишь ли ты, убийца!
В эту минуту веки Мариуса медленно раскрылись, и его взгляд, еще затуманенный летаргией, с удивлением остановился на г-не Жильнормане.
– Мариус! – вскричал старик. – Мариус, мой мальчик! Дитя мое! Дорогой мой сын! Ты открыл глаза, ты смотришь на меня, ты жив, благодарю тебя!
И он упал без чувств.
Книга четвертая. Жавер сбился с пути.
Медленным шагом Жавер удалился с улицы Вооруженного человека.
Впервые в жизни он шел, опустив голову, и также впервые в жизни – заложив руки за спину.
До этого дня из двух поз Наполеона Жавер заимствовал только ту, что выражает уверенность, – руки, скрещенные на груди; поза, выражающая нерешительность – руки за спиной, – была ему незнакома. Но теперь произошел перелом; вся его медлительная и угрюмая фигура носила отпечаток душевной тревоги.
Он углубился во тьму уснувших улиц.
Однако его путь лежал в определенном направлении.
Свернув кратчайшей дорогой к Сене, он вышел на набережную Вязов, пошел вдоль берега, миновал Гревскую площадь и остановился на углу моста Богоматери, не доходя караульного поста на площади Шатле. В этом месте, огороженная мостами Богоматери и Менял, а с боков набережными Сыромятной и Цветочной, Сена образует нечто вроде квадратного озера с быстриной посредине.
Лодочники избегают этого участка Сены. Ничего нет опаснее ее быстрины, которая в те времена еще была зажата здесь с боков и гневно бурлила между сваями мельницы, выстроенной на мосту и впоследствии разрушенной. Два моста, расположенные на таком близком расстоянии, еще увеличивают опасность, так как вода со страшной силой устремляется под их арки. Она катится туда широкими бурными потоками, клокочет и вздымается; волны яростно набрасываются на мостовые быки, словно стараясь вырвать их с корнем мощными водяными канатами. Упавший туда человек уже не всплывет на поверхность, даже лучшие пловцы здесь тонут.
Жавер облокотился на парапет, подперев обеими руками подбородок, и задумался, машинально запустив пальцы в свои густые бакенбарды.
В его душе произошел перелом, переворот, катастрофа, ему было о чем подумать.
Вот уже несколько часов, как он перестал себя понимать. Он был в смятении; ум его, столь ясный в своей слепоте, потерял присущую ему прозрачность; чистый кристалл замутился. Жавер чувствовал, что понятие долга раздвоилось в его сознании, и не мог скрыть этого от себя. Когда он так неожиданно встретил на берегу Сены Жана Вальжана, в нем проснулся инстинкт волка, наконец схватившего добычу, и вместе с тем инстинкт собаки, которая вновь нашла своего хозяина.
Он видел перед собою два пути, одинаково прямых, но их было два; это ужасало его, так как всю жизнь он следовал только по одной прямой линии. И, что особенно мучительно, оба пути были противоположны. Каждая из этих прямых линий исключала другую. Которая же из двух правильна?
Положение его было невыразимо трудным.
Быть обязанным жизнью преступнику, признать этот долг и возвратить его; наперекор себе самому стать на одну доску с закоренелым злодеем, отплатить ему услугой за услугу; дойти до того, чтобы сказать себе: «Уходи!», а ему: «Ты свободен!»; пожертвовать долгом, этой общей для всех обязанностью, ради побуждений личных, и вместе с тем чувствовать за этими личными побуждениями некий столь же общеобязательный, а может быть, и высший закон; предать общество, чтобы остаться верным своей совести! Надо же, чтобы все эти нелепости произошли на самом деле и свалились именно на него! Вот что его доконало.
Случилось нечто неслыханное, удивившее его: Жан Вальжан его пощадил; но случилось и другое, что окончательно его сразило: он сам, Жавер, пощадил Жана Вальжана.
До чего же он дошел? Он старался понять и не узнавал самого себя.
Что теперь делать? Выдать Жана Вальжана было дурно; оставить Жана Вальжана на свободе тоже было дурно. В первом случае представитель власти падал ниже последнего каторжника; во втором – колодник возвышался над законом и попирал его ногами. В обоих случаях обесчещенным оказывался он, Жавер. Что бы он ни решил, исход один – конец. В судьбе человека встречаются отвесные кручи, откуда не спастись, откуда вся жизнь кажется глубокой пропастью. Жавер стоял на краю такого обрыва.
Особенно угнетала его необходимость размышлять. Жестокая борьба противоречивых чувств принуждала его к этому. Мыслить было для него непривычно и необыкновенно мучительно.
В мыслях всегда кроется известная доля тайной крамолы, и его раздражало, что он не уберегся от этого.
Любая мысль, выходящая за пределы узкого круга его обязанностей, при всех обстоятельствах представилась бы ему бесполезной и утомительной; но думать о событиях истекшего дня казалось ему пыткой. Однако после стольких потрясений было необходимо заглянуть в свою совесть и отдать себе отчет о самом себе.
Он трепетал перед тем, что сделал. Он, Жавер, вопреки всем полицейским правилам, всем политическим и юридическим установлениям, вопреки всему кодексу законов, счел возможным отпустить преступника на свободу; так ему заблагорассудилось; он подменил своими личными интересами интересы общества. Ведь это неслыханно! Всякий раз, возвращаясь к этому не имеющему названия поступку, он содрогался с головы до ног. На что решиться? Ему оставалось одно: не теряя времени вернуться на улицу Вооруженного человека и взять под стражу Жана Вальжана. Конечно, следовало поступить только так. Но он не мог.
Что-то преграждало ему путь в ту сторону.
Но что же? Что именно? Разве существует на свете что-нибудь, кроме судов, судебных приставов, полиции и властей? Жавер был потрясен.
Каторжник, личность которого неприкосновенна! Арестант, неуловимый для полиции! И все это благодаря Жаверу!
Разве не ужасно то, что Жавер и Жан Вальжан, два человека, целиком принадлежащие закону и созданные один, чтобы карать, другой, чтобы терпеть кару, вдруг оба дошли до того, что попрали закон?
Как же так? Неужели могут произойти столь чудовищные вещи и никто не будет наказан? Неужели Жан Вальжан оказался сильнее всего общественного порядка и останется на свободе, а он, Жавер, будет по-прежнему получать жалованье от казны?
Его раздумье становилось все более мрачным.
Он мог бы среди всех этих размышлений упрекнуть себя еще и за бунтовщика, которого доставил на улицу Сестер страстей господних; но он даже не думал о нем. Мелкий проступок затмевала более тяжкая вина. Кроме того, бунтовщик, несомненно, был мертв, а со смертью, согласно закону, прекращается и преследование.
Жан Вальжан – вот тяжкий груз, давивший на его мозг.
Жан Вальжан сбивал его с толку. Все правила, служившие ему опорой на протяжении всей жизни, рушились перед лицом этого человека. Великодушие Жана Вальжана по отношению к нему, Жаверу, подавляло его. Другие поступки Жана Вальжана, которые прежде он считал лживыми и безрассудными, теперь являлись ему в истинном свете. За Жаном Вальжаном вставал образ господина Мадлена, и оба эти лица, наплывая друг на друга, сливались в одно, светлое и благородное. Жавер чувствовал, как в душу его закрадывается нечто отвратительное – преклонение перед каторжником. Уважение к острожнику, мыслимо ли это? Он дрожал от волнения, но не мог справиться с собой. Как он ни противился этому, ему приходилось признать в глубине души нравственное благородство отверженного. Это было нестерпимо.
Милосердный злодей, сострадательный каторжник, кроткий, великодушный, который помогает в беде, воздает добром за зло, прощает своим ненавистникам, предпочитает жалость мести, который готов скорее погибнуть, чем погубить врага, и спасает того, кто оскорбил его, – преступник, коленопреклоненный на высотах добродетели, более близкий к ангелу, чем к человеку! Жавер вынужден был признать, что подобное диво существует на свете.
Дальше так продолжаться не могло.
Правда, и мы настаиваем на этом, Жавер не без борьбы отдался во власть чудовищу, нечестивому ангелу, презренному герою, который вызывал в нем почти в равной мере и негодование, и восхищение. Когда он ехал в карете один на один с Жаном Вальжаном, сколько раз в нем возмущался и рычал тигр законности! Сколько раз его одолевало желание броситься на Жана Вальжана, схватить его и растерзать, иными словами, арестовать! В самом деле, что могло быть проще? Крикнуть, поравнявшись с первым же караульным постом: «Вот беглый каторжник, укрывающийся от правосудия!» Позвать жандармов и заявить: «Он ваш!» Потом уйти, оставить им проклятого злодея и больше ничего не знать, ни во что не вмешиваться. Ведь этот человек – пожизненный пленник закона; пусть закон и распоряжается им, как пожелает. Что может быть справедливее? Все это Жавер говорил себе; более того, он хотел действовать, хотел собственноручно схватить свою жертву, но и тогда и теперь был не в силах это сделать; всякий раз, как его рука судорожно протягивалась к вороту Жана Вальжана, она падала, словно была налита свинцом, а в глубине его сознания звучал голос, странный голос, кричавший ему: «Хорошо. Предай своего спасителя. А затем, как Понтий Пилат, вели принести сосуд с водой и умой свои когти».
Потом его мысли обращались на него самого, и рядом с величавым образом Жана Вальжана он видел себя, Жавера, жалким и униженным.
Его благодетелем был каторжник!
В сущности, с какой стати он разрешил этому человеку подарить ему жизнь? Он имел право быть убитым на баррикаде. Ему следовало воспользоваться этим правом. Он должен был позвать других повстанцев на помощь и насильно заставить их расстрелять себя.
Мучительнее всего была утрата веры в себя. Он потерял почву под ногами. От жезла закона в его руке остались одни лишь обломки. Неведомые раньше сомнения одолевали его. В нем происходил нравственный перелом, некое откровение, глубоко отличное от того правосознания, какое до сей поры служило единственным мерилом его поступков. Оставаться в рамках прежней честности казалось ему недостаточным. Целый рой неожиданных событий обступил его и поработил. Новый мир открылся его душе: благодеяние, принятое и вознагражденное, самоотверженность, милосердие, терпимость, победа жалости над суровостью, доброжелательство, отмена приговора, пощада осужденному, слезы в очах правосудия, некая непостижимая божественная справедливость, противоположная справедливости человеческой. Он видел во мраке грозный восход неведомого духовного солнца; оно ужасало и ослепляло его. Филин был вынужден смотреть глазами орла.
Он говорил себе: значит, правда, что бывают исключения, что власть может заблуждаться, что перед некоторыми явлениями правило становится в тупик, что не все умещается в своде законов, что приходится покоряться непредвиденному, что добродетель каторжника может расставить сети для добродетели чиновника, что чудовищное может обернуться божественным, что жизнь таит в себе подобные западни, и думал с отчаянием, что он и сам был захвачен врасплох.
Он вынужден был признать, что добро существует. Каторжник оказался добрым. И сам он – неслыханное дело! – только что проявил доброту. Значит, он обесчестил себя.
Он считал себя подлецом. Он внушал ужас самому себе.
Идеал для Жавера заключался не в том, чтобы быть человечным, великодушным, возвышенным, а в том, чтобы быть безупречным. И вот он совершил проступок.
Как он дошел до этого? Как все это случилось? Он и сам не мог бы сказать. Он сжимал голову обеими руками, но сколько ни думал, ничего не мог объяснить.
Несомненно, он все время имел намерение передать Жана Вальжана в руки правосудия, чьим пленником был Жан Вальжан и чьим рабом был он, Жавер. Ни на миг не признавался он себе, пока Жан Вальжан находился в его власти, что втайне решил отпустить его. Словно без его ведома, рука его сама собой разжалась и выпустила пленника.
Множество жгучих, мучительных загадок предстало перед ним. Он задавал себе вопросы и отвечал на них, но эти ответы пугали его. Он спрашивал себя: «Когда я попался в лапы этому каторжнику, тому безумцу, которого я безжалостно преследовал, и он мог отомстить мне и даже должен был отомстить, не только из злопамятства, но и ради собственной безопасности, – что же он сделал, даровав мне жизнь и пощадив меня? Исполнил свой долг? Нет. Нечто большее. А я, когда пощадил его, в свою очередь, что я сделал? Выполнил свой долг? Нет. Нечто большее. Следовательно, существует нечто большее, чем выполнение долга?» Здесь он терялся, душевное его равновесие нарушалось; одна чаша весов падала в пропасть, другая взлетала к небу, и та, что была наверху, устрашала Жавера не меньше, чем та, что была внизу. Он вовсе не был ни вольтерьянцем, ни философом, ни неверующим – напротив, чувствовал инстинктивное почтение к официальной религии; тем не менее он рассматривал ее как возвышенный, но несущественный элемент социального целого; установленный порядок был его единственным догматом и вполне его удовлетворял; с тех пор как он стал зрелым человеком и чиновником, он обратил почти все свое религиозное чувство на полицию и был сыщиком, – мы говорим это без малейшей насмешки, но с полной серьезностью, – был, повторяем, сыщиком, как бывают священником. Он знал своего начальника, г-на Жиске, и до сей поры он ни разу не подумал о другом начальнике – о господе боге.
Внезапно осознав этого нового хозяина, бога, он пришел в замешательство.
Неожиданно оказавшись перед лицом бога, он растерялся; он не знал, как вести себя с таким начальством; ему было известно, что подчиненный всегда обязан слепо повиноваться, не имея права ни ослушаться, ни порицать, ни оспаривать, и что в случае слишком странного приказа у подначального остается один выход – подать в отставку.
Но каким образом просить бога об отставке?
Что бы там ни было, он вечно возвращался к тому же факту, который заслонял для него все остальное, – он только что совершил тяжкое преступление. Он не задержал закоренелого злодея, беглого каторжника. Он выпустил острожника на волю. Он украл у представителей закона человека, принадлежавшего им по праву. Он действительно совершил это. Он перестал понимать себя. Он не узнавал себя. Самые причины такого поступка ускользали от него, даже от одной мысли об этом у него кружилась голова. До этой минуты он жил слепой верой, порождающей суровую честность. Теперь он потерял веру, а с нею и честность. Все, чему он поклонялся, разлетелось в прах. Ненавистные истины преследовали его неотвязно. С этих пор надо было стать другим человеком. Он испытывал странные муки, словно с его сознания внезапно сняли катаракту. Он прозрел и увидел то, чего видеть не желал. Он чувствовал себя опустошенным, бесполезным, вырванным из прошлого, уволенным с должности, уничтоженным. В нем умер представитель власти. Его жизнь потеряла всякий смысл.
Какое ужасное состояние – быть растроганным! Быть гранитом и усомниться! Быть изваянием кары, отлитым из одного куска по установленному законом образцу, и вдруг ощутить в бронзовой груди что-то непокорное и безрассудное, почти похожее на сердце! Дойти до того, чтобы отплатить добром за добро, хотя всю жизнь до этого дня внушал себе, что подобное добро есть зло! Быть сторожевым псом – и ластиться к чужому! Быть льдом – и растаять! Быть клещами – и обратиться в живую руку! Почувствовать вдруг, как пальцы разжимаются! Выпустить пойманную добычу – какое страшное падение! Человек-снаряд вдруг сбился с пути и летит вспять! Приходилось признаться самому себе в том, что непогрешимость не безгрешна, что в догмат может вкрасться ошибка, что в своде законов сказано не все, общественный строй несовершенен, власть подвержена колебаниям, нерушимое может разрушиться, судьи такие же люди, как все, закон может обмануться, трибуналы могут ошибиться! На громадном синем стекле небесной тверди зияла трещина.
То, что происходило в душе Жавера, в его прямолинейной совести, можно было сравнить с крушением в Фампу: душа его словно сошла с рельсов, честность, неудержимо мчавшаяся по прямому пути, оказалась разбитой вдребезги, столкнувшись с богом. Разумеется, казалось невероятным, чтобы машинист общественного порядка, кочегар власти, оседлавший слепого железного коня, способного мчаться лишь в одном определенном направлении, мог быть выбит из седла лучом света! Чтобы неизменное, прямое, точное, геометрически правильное, покорное, безукоризненное могло изменить себе! Неужели и для локомотива существует путь в Дамаск?
Бог в человеке, его истинная совесть, которая отвергает совесть ложную, запрещает искре гаснуть, повелевает лучу помнить о солнце, приказывает душе отличать настоящую истину от столкнувшейся с нею мнимой истины, – этот родник человечности, неумолчный голос сердца, это изумительное чудо, самое прекрасное, быть может, из наших внутренних сокровищ, – понимал ли его Жавер? Постигал ли его Жавер? Отдавал ли себе отчет? Очевидно, нет. Но он чувствовал, что череп его готов расколоться под гнетом непостижимой непреложности.
Он не столько был обращен этим чудом, сколько являлся его жертвой. Он покорился с отчаянием. Он видел во всем этом лишь невыносимую тяжесть жизни. Ему казалось, что отныне дыхание его стеснено навеки.
Чувствовать над собой неведомое было ему непривычно.
Все, что до той поры стояло выше его, представлялось его взору гладкой поверхностью, простой, ровной, прозрачной; в ней не было ничего непонятного, ничего темного; ничего, кроме точного, упорядоченного, согласованного, ясного, отчетливого, определенного, ограниченного, законченного; решительно все было предусмотрено; власть расстилалась перед ним ровной плоскостью, без круч и обрывов; она не вызывала головокружения. Жаверу случалось видеть неведомое только внизу, на дне. Беззаконное, непредвиденное, беспорядочное, провал в хаос, возможность соскользнуть в пропасть – все это являлось уделом низших слоев, бунтовщиков, злодеев, отверженных. Теперь же, упав навзничь, Жавер вдруг пришел в ужас от небывалого зрелища: бездна разверзлась над ним, в вышине.
Что же это такое? Все перевернулось вверх дном; он был окончательно сбит с толку. На что же положиться? Все, во что он верил, рушилось!
Что же случилось? Какой-то отверженный с великодушным сердцем сумел найти в общественном строе уязвимое место? Как же так? Честный служитель закона вдруг оказался принужденным выбирать между двумя преступлениями: отпустить человека – преступление, арестовать его тоже преступление! Значит, в уставе, данном государством чиновнику, не все предусмотрено? Значит, на путях долга могли встретиться тупики? Что же это такое? Неужели так оно и есть? Неужели прежний бандит, согбенный под тяжестью обвинений, мог расправить плечи? Неужели правда на его стороне? Возможно ли этому поверить? Неужели бывают случаи, когда закон, бормоча извинения, должен отступить перед преображенным преступником?
Да, такое чудо произошло! И Жавер сам его видел! И Жавер осязал его! Он не только не мог отрицать его, но сам в нем участвовал. Оно было реальностью. Ужасно, что реальные факты могли дойти до такого уродства.
Если бы факты выполняли свое назначение, они служили бы лишь подтверждением закону; ведь факты посылаются богом. Неужто в наше время и анархия нисходит свыше?
Так, в тоске, в тревожном недоумении, порождающем как бы зрительный обман души, меркло все, что могло бы смягчить и улучшить его состояние, и с этой минуты общество, человечество, вселенная представлялись его глазам в простых и страшных очертаниях. Стало быть, система наказаний, вынесенное решение, непререкаемая сила закона, приговор верховного суда, магистратура, правительство, следствие и карательные меры, официальная мудрость, непогрешимость закона, основы власти, все догматы, на которых зиждется политическая и гражданская безопасность, верховная власть, правосудие, логика закона, устои общества, общепризнанные истины – все это только мусор, груда обломков, хаос! И сам он, Жавер, – блюститель порядка, неподкупный слуга полиции, провидение в образе ищейки на страже общества, – испепелен и повержен наземь. А над этими развалинами возвышается человек в арестантском колпаке и с сиянием вокруг чела. Вот до какого потрясения основ он дошел; вот какое страшное видение угнетало его душу.
Можно ли это вынести? Нет.
Если все это так, у него отчаянное положение. Остается лишь два выхода. Один – вернуться немедля к Жану Вальжану и заточить беглого каторжника в тюрьму. Другой выход…
Жавер сошел с моста и твердым шагом, на этот раз с высоко поднятой головой, направился к полицейскому посту под фонарем, на углу площади Шатле.
Подойдя, он увидел в окно дежурного сержанта и вошел внутрь. Полицейские узнают друг друга сразу, хотя бы по манере толкнуть дверь в караульное помещение. Жавер назвал себя, показал сержанту свой билет и уселся за столом, где горела свеча. На столе стояла свинцовая чернильница, лежали перья и бумага на случай протоколов или для письменных распоряжений ночным караулам.
Такой стол, с неизменным соломенным стулом возле него, по заведенному обычаю, есть на всех полицейских постах; его непременно украшает блюдце самшитового дерева, полное опилок, и картонная коробочка с красными облатками для запечатывания писем; этот стол – низшая ступень судопроизводства. Именно здесь и зарождается судебная литература.
Жавер взял перо и листок бумаги и принялся писать. Вот что он написал:
«Несколько заметок для пользы полицейской службы.
Во-первых: я прошу господина префекта прочесть то, что следует ниже.
Во-вторых: арестанты после допроса разуваются и стоят на полу босиком, пока их обыскивают. Многие, вернувшись в тюрьму, начинают кашлять. Это влечет за собой расходы на больницу.
В-третьих: наблюдение, со сменой агентов на определенных участках, поставлено хорошо; но в особо важных случаях следовало бы, чтобы по крайней мере два агента не теряли друг друга из виду; если один из них почему-либо ослабит бдительность, другой следит за ним и заступает на его место.
В-четвертых: непонятно, почему в тюрьме Мадлонет особым распоряжением запрещено заключенным иметь стулья, даже за плату.
В-пятых: в тюрьме Мадлонет закусочная отгорожена только двумя перекладинами, что позволяет арестантам касаться руки буфетчицы.
В-шестых: арестанты, именуемые «выкликалами» и вызывающие других арестантов в приемную, требуют по два су с заключенного, чтобы выкрикивать их имена поотчетливее. Это воровство.
В-седьмых: в ткацкой мастерской за каждую спущенную нитку вычитают по десять су с заключенного, что является злоупотреблением со стороны подрядчика, так как холст от этого нисколько не хуже.
В-восьмых: недопустимо, что посетители тюрьмы Форс, направляясь в приемную приюта Св. Марии Египетской, проходят через двор малолетних преступников.
В-девятых: замечено, что жандармы каждый день рассказывают во дворе префектуры о допросах обвиняемых. Неуместно жандарму, который должен быть безупречным, разбалтывать то, что он слышал в кабинете следователя, – это важный проступок.
В-десятых: госпожа Анри – честная женщина и содержит свою закусочную очень чисто; но женщине не годится быть привратницей возле одиночных камер. Это недостойно тюрьмы Консьержери, как образцового учреждения».
Жавер вывел эти строки обычным своим ровным и аккуратным почерком, не пропустив ни одной запятой и громко скрипя пером по бумаге. Внизу, под последней строкой, он подписал:
«Жавер. Надзиратель 1-го класса. Полицейский пост на площади Шатле.
7 Июня 1832 года, около часу пополуночи».
Жавер просушил свежие чернила на бумаге, сложил ее в виде письма, запечатал, надписал на обороте: «Донесение для администрации», положил на стол и вышел из комнаты. Застекленная, забранная решеткой дверь захлопнулась за ним.
Он снова пересек по диагонали площадь Шатле, достиг набережной и, возвратившись с точностью автомата на то самое место, какое покинул четверть часа назад, облокотился на ту же плиту парапета, совершенно в той же позе, как прежде. Могло показаться, что он и не трогался с места.
Было совсем темно. Наступил тот час могильной тишины, какой бывает после полуночи. Завеса облаков скрывала звезды. Небо застилала густая зловещая мгла. Ни один огонек не светился в домах квартала Ситэ; прохожих не было, все ближние улицы и набережные казались пустынными; собор Парижской Богоматери и башни Дворца правосудия казались очертаниями самой ночи. Фонарь освещал края перил красноватым светом. Силуэты мостов, возникавшие вдали один позади другого, расплывались в тумане. Река вздулась от дождей.
Место, где облокотился на перила Жавер, как помнит читатель, находилось над самой быстриной Сены, как раз над страшной спиралью водоворота, которая скручивалась и раскручивалась, точно бесконечный винт.
Жавер наклонил голову и заглянул вниз. Все было черно. Ничего нельзя было различить. Слышалось, как бурлила вода, но реки не было видно. По временам в головокружительной глубине вспыхивал, извиваясь, блуждающий огонек, так как даже в самую темную ночь вода обладает способностью ловить свет неизвестно откуда и отражать его искрящимися змейками. Но огонек потухал, и все снова тонуло во мгле. Чудилось, там разверзалась сама бесконечность. Внизу была не вода, а бездна. Отвесная темная стена набережной, сливаясь с туманом и пропадая во тьме, представлялась крутым обрывом в эту бесконечность.
Ничего не было видно, но тянуло студеным холодом воды и слабым запахом сырых камней. В глубине слышалось грозное дыхание бездны. Вздувшаяся река, которую скорее можно было угадать, чем увидеть, трагический рокот волн, унылая громада мостовых арок, манящая глубь черной пустоты, – весь этот мрак наводил ужас.
Несколько мгновений Жавер стоял неподвижно, устремив глаза в эти отверстые врата ночи; он вглядывался в невидимое пристально, с упорным вниманием. Шумела вода. Вдруг он снял шляпу и положил ее на перила. Минуту спустя высокая черная тень, которую запоздалый прохожий мог бы издали принять за привидение, поднялась во весь рост на парапете, наклонилась над Сеной, затем выпрямилась и упала прямо во тьму; раздался глухой всплеск, и одна только ночь видела, как билась в судорогах эта темная фигура, исчезая под водой.
Книга пятая. Дед и внук.
Глава 1. Где читатель снова видит дерево с цинковым кольцом.
Некоторое время спустя после описанных нами событий достойному Башке пришлось испытать сильное волнение.
Достойный Башка – тот самый шоссейный рабочий из Монфермейля, который нам уже встречался в наиболее мрачных главах этой повести.
Как помнит читатель, Башка занимался разнообразными делами, в том числе и темными. Он разбивал камни и грабил путешественников на большой дороге. Этого камнебойца и вора обуревала одна мечта: он бредил сокровищами, зарытыми в Монфермейльском лесу. Он надеялся в один прекрасный день где-нибудь под деревом найти в земле клад; в ожидании этого он не прочь был пошарить в карманах прохожих.
Однако теперь он держался осторожно. Ему только что удалось выйти сухим из воды. Как мы знаем, он был захвачен вместе с другими бандитами в лачуге Жондрета. Иногда порок может пригодиться: Башку спасло то, что он был пьяницей. Никто так и не мог разобраться, грабитель он или ограбленный. На основании вполне доказанной его невменяемости в вечер грабежа дело было прекращено, и его отпустили. Он опять вырвался на волю. Возвратившись на тот же дорожный участок, между Ганьи и Ланьи, он снова принялся бить щебень для казны, под наблюдением администрации, понурый, озабоченный, слегка охладев к воровскому ремеслу, которое едва его не сгубило, но зато еще более пристрастившись к вину, которое вызволило его из беды.
Что же так сильно взволновало Башку после его возвращения под дерновую кровлю своей землянки? А вот что.
Однажды утром, незадолго до рассвета, выйдя, как обычно, на место своей работы, возможно, служившее ему и местом засады, Башка заметил в кустарниках человека, который, хотя был виден только со спины, показался ему, несмотря на расстояние и предрассветный сумрак, не совсем незнакомым. Башка, правда, пил горькую, однако обладал точной и ясной памятью, необходимым защитным оружием всякого, кто не очень-то ладит с правопорядком.
– Где, черт возьми, я видел этого человека? – спрашивал он себя.
И ничего не мог ответить, кроме того, что фигура эта напоминала кого-то, кто оставил неясный след в его памяти.
Тогда Башка, оставив в стороне сходство, которое ему никак не удавалось установить, принялся соображать и сопоставлять. Человек этот был явно нездешний. Он откуда-то прибыл. Очевидно, пешком. Ни один дилижанс не проезжает через Монфермейль в такие часы. Значит, он шел целую ночь. Откуда он явился? Не издалека, так как у него не было с собой ни котомки, ни узла. Наверно, из Парижа. Почему он забрался в лес? Да еще в такую раннюю пору? Чего ему тут нужно?
Башка подумал о кладе. Порывшись в памяти, он смутно припомнил, что много лет назад его охватило такое же беспокойство при виде одного человека. А вдруг это тот же самый!
Раздумывая таким образом, он опустил голову под грузом размышлений, что было естественно, но не слишком предусмотрительно. Когда он снова поднял голову, никого уже не было. Незнакомец исчез в чаще, в предрассветном тумане.
– Черт меня подери, если я его провороню! – воскликнул Башка. – Уж я разыщу молельню этого ханжи. Неспроста он вышел на прогулку ни свет ни заря, уж я-то узнаю, в чем тут загвоздка. В моем лесу не бывало еще тайны, которой бы я не распутал.
И он схватил свою острую кирку.
– Пригодится, – проворчал он, – и в земле поковырять, и человека ковырнуть.
И как бы связав нить с нитью, он, стараясь как можно лучше угадать предполагаемый путь незнакомца, начал пробираться сквозь заросли.
Не успел он сделать и сотни шагов, как разгоравшийся рассвет пришел ему на помощь. Там и сям виднелись отпечатки подошв на песке, примятая трава, растоптанный вереск, согнутые молодые ветки кустарника, распрямлявшиеся с медлительной грацией красавицы, которая потягивается, просыпаясь, – все это были верные приметы. Он долго шел по следу, потом потерял его. Время уходило. Он углубился дальше в лес и вышел на какой-то пригорок. Охотник, проходивший на заре по дальней тропинке, насвистывая песенку Гильери, навел его на мысль взобраться на дерево. Несмотря на свои годы, он был очень ловок. Поблизости стоял высокий бук, достойный Титира и Башки. Башка вскарабкался на дерево, как только мог выше.
Это была превосходная мысль. Оглядывая лесную глушь, в той стороне, где деревья превращаются в непроходимую чащу, Башка вдруг опять увидел человека.
Едва он успел его заметить, как снова потерял из виду.
Незнакомец вышел, или, вернее, проскользнул, на довольно отдаленную прогалину, скрытую густыми деревьями, которую Башка очень хорошо знал, так как приметил там, возле большой кучи известняка, больное каштановое дерево с цинковым кольцом на пораженном стволе, прибитым гвоздями прямо к коре. Это та самая полянка, что в старину называли «прогалиной Бларю». Груда камней, неизвестно для чего предназначенная и лежавшая там еще лет тридцать тому назад, верно, и теперь на том же месте. Ничто не может сравниться по долговечности с кучей камней, кроме разве деревянного забора. Возникают они на время – лучший предлог, чтобы остаться надолго!
С радостной поспешностью Башка слез с дерева, вернее, скатился. Логово было открыто, оставалось изловить зверя. Вероятно, там же был и пресловутый клад, о котором он так долго мечтал.
Добраться до полянки было вовсе не легким делом. По протоптанным стежкам, которые извивались, делая тысячу досадных поворотов, пришлось бы идти добрых четверть часа. Если же продираться напрямик сквозь густые заросли, чрезвычайно колючие и цепкие в этих местах, надо было потратить целых полчаса. Вот чего Башка не сумел сообразить. Он доверился прямой линии – это вполне допустимый обман зрения, однако он губит многих людей. Чаща, как ни была она непроходима, показалась ему хорошей дорогой.
– Махнем по волчьему проспекту Риволи, – сказал он себе.
Привыкнув ходить окольными путями, Башка на сей раз ошибся, пойдя напрямик.
Он решительно ринулся в драку с кустарником.
Ему пришлось схватиться с диким терновником, с крапивой, боярышником, шиповником, чертополохом, с сердитой ежевикой. Он был весь исцарапан.
На дне овражка оказалась вода, которую пришлось переходить вброд.
Наконец минут через сорок он добрался до прогалины Бларю, весь в поту, мокрый, запыхавшийся, исцарапанный, рассвирепевший.
На прогалине никого не было.
Башка бросился к груде камней. Она лежала на прежнем месте. Никто ее не уносил.
Что же до человека, то он исчез в лесу. Он сбежал. Куда? В какую сторону? В какой чаще он скрылся? Угадать было невозможно.
И что поразило его в самое сердце, за кучей камней, у подножия дерева с цинковым кольцом, он увидел свежевырытую землю, забытый или брошенный заступ и глубокую яму.
Яма была пуста.
– Вор проклятый! – закричал Башка, грозя кулаком в пространство, сам не зная кому.
Глава 2. После войны гражданской Мариус готовится к войне домашней.
Мариус долгое время находился между жизнью и смертью. В течение нескольких недель у него продолжались лихорадка с бредом и довольно серьезные мозговые явления, вызванные скорее сотрясением от ран в голову, чем самими ранами.
Целые ночи напролет он твердил имя Козетты с мрачной настойчивостью горячечного больного, со зловещим упорством умирающего. Величина некоторых ран угрожала очень серьезной опасностью, ибо нагноение широкой раны легко может распространиться и под влиянием известных атмосферных условий привести к смертельным последствиям. Поэтому малейшая перемена погоды, всякая гроза сильно беспокоили доктора. «Главное, чтобы раненый ни в коем случае не волновался», – повторял он. Перевязки были сложным и трудным делом – в то время еще не изобрели способа скреплять липким пластырем повязки и бинты. Николетта изорвала на корпию целую простыню «шириной с потолок», как она выражалась. И лишь с большим трудом, при помощи примочек из хлористого раствора и прижигания ляписом, удалось справиться с гангреной. Пока Мариусу угрожала опасность, убитый горем г-н Жильнорман не отходил от изголовья внука и, подобно Мариусу, был ни жив ни мертв.
Каждый день, а то и по два раза в день почтенный седовласый господин, очень прилично одетый, по описанию привратника, приходил справляться о самочувствии раненого и оставлял толстый пакет корпии для перевязок.
Наконец, 7 сентября, день в день, ровно через четыре месяца после той ужасной ночи, когда умирающего принесли в дом деда, врач объявил, что теперь отвечает за его жизнь. Началось выздоровление. Однако Мариусу предстояло еще месяца два провести полулежа на кушетке из-за осложнений, вызванных переломом ключицы. В подобных случаях обычно остается одна последняя рана, которая не хочет заживать, что бесконечно затягивает перевязки, к великому огорчению больного.
Впрочем, долгая болезнь и медленное выздоровление спасли Мариуса от преследования. Во Франции всякий гнев, даже гнев народный, остывает по прошествии полугода. При тогдашнем настроении умов участие в мятежах было явлением до такой степени широко распространенным, что на это поневоле приходилось закрывать глаза.
Добавим, что беспримерный приказ префекта Жиске, предписывавший врачам выдавать раненых полиции, возмутил не только общественное мнение, но в первую очередь самого короля, и для раненых это всеобщее негодование послужило лучшей защитой и охраной; поэтому, за исключением тех, кто был захвачен на поле боя, военные трибуналы не осмелились никого привлекать к ответственности. Таким образом, Мариуса оставили в покое.
Господин Жильнорман прошел через все стадии отчаяния, а затем восторженной радости. Его с большим трудом отговорили проводить возле раненого все ночи напролет; он велел поставить свое большое кресло рядом с постелью Мариуса; он требовал, чтобы дочь употребила на компрессы и бинты самое лучшее белье, какое было в доме. Мадемуазель Жильнорман, как особа рассудительная и умудренная годами, нашла способ припрятать тонкое белье, оставив старика в убеждении, что его приказание исполнено. Г-н Жильнорман и слышать не хотел, будто грубый холст пригоднее для корпии, чем батист, и изношенное полотно лучше нового. Он неизменно присутствовал при перевязках, во время которых девица Жильнорман стыдливо удалялась. «Ай! Ай!» – вскрикивал он, когда при нем отрезали ножницами омертвелую ткань. Трогательно было видеть, как он протягивал раненому чашку с лекарственным питьем своей дрожащей старческой рукой. Он забрасывал доктора вопросами, не замечая того, что постоянно задает одни и те же.
В тот день, когда врач объявил, что Мариус вне опасности, старик совсем обезумел от счастья. На радостях он подарил привратнику три луидора. Вечером в своей спальне он протанцевал гавот, прищелкивая пальцами вместо кастаньет и напевая такую песенку:
После этого г-н Жильнорман преклонил колени на скамеечке, и Баску, который следил за ним через полуоткрытую дверь, ясно послышалось, будто он молится.
До этих пор он никогда не верил в бога.
При каждом новом признаке выздоровления, все более и более несомненного, старец становился все сумасброднее. Он совершал множество беспричинных поступков, ища выхода для своей бурной радости, бегал вверх и вниз по лестницам, сам не зная зачем. Одна из соседок, правда, прехорошенькая, как-то утром была совершенно поражена, получив огромный букет цветов; его прислал г-н Жильнорман. Муж устроил ей сцену ревности. Г-н Жильнорман даже порывался сажать к себе на колени Николетту. Он называл Мариуса «господином бароном». Он кричал: «Да здравствует Республика!».
Каждую минуту он приставал к доктору с вопросом:
«Не правда ли, опасность миновала?» Он смотрел на Мариуса с нежностью бабушки. Он боялся дохнуть, когда того кормили. Он не помнил себя, не считался с собой. Хозяином дома был Мариус; радость старика была похожа на самоотречение, он стал внуком своего внука.
При всей своей ревности это было самое благонравное дитя на свете. Боясь утомить или наскучить выздоравливающему, он становился позади него и молча ему улыбался. Он был доволен, весел, счастлив, обворожителен, он помолодел. Седые волосы придавали его сияющему лицу кроткое величие. Когда радость озаряет лицо, изборожденное морщинами, она достойна преклонения. В улыбке старости есть какой-то отсвет утренней зари.
А Мариус, не противясь перевязкам, равнодушно принимал заботы о себе и был поглощен одной лишь мыслью – о Козетте.
С тех пор как бред и лихорадка прекратились, он больше не произносил ее имени, и могло показаться, будто он перестал о ней думать. На самом же деле он молчал именно потому, что душа его была с нею.
Он не знал, что сталось с Козеттой; все происшедшее на улице Шанврери представлялось ему как в тумане; в его памяти всплывали неясные тени – Эпонина, Гаврош, Мабеф, семья Тенардье, все его товарищи, окутанные зловещим дымом баррикады; странное появление г-на Фошлевана в этой кровавой сече казалось ему загадкой, промелькнувшей сквозь бурю; не понимал он также, почему сам остался в живых, не знал, кто спас его и каким образом, и ничего не мог добиться от окружающих; ему сообщили только, что ночью его привезли в карете на улицу Сестер страстей господних; прошедшее, настоящее, будущее – все превратилось лишь в смутное туманное воспоминание, но среди этой мглы была одна незыблемая точка, четкий и определенный план, нечто твердое, как гранит, одно решение, одно желание – найти Козетту. Мысль о жизни и мысль о Козетте были неотделимы в его сознании. Он положил в своем сердце, что не примет одну без другой, и от всякого, кто пытался бы заставить его жить, – будь то его дед, судьба или самый ад, – он бесповоротно решил требовать возвращения потерянного рая.
Что же до препятствий, то он не скрывал их от себя.
Отметим одно обстоятельство: заботы и ласки деда нисколько не смягчили Мариуса и даже мало растрогали. Во-первых, он знал далеко не все; кроме того, в своем болезненном, быть может, еще лихорадочном, состоянии, он не доверял этим нежностям, как чему-то странному и новому, имеющему цель подкупить его. Он держался холодно. Дед понапрасну расточал ему жалкие старческие улыбки. Мариус внушал себе, что все идет мирно только до поры до времени, пока он молчит и подчиняется; но стоит ему заговорить о Козетте, как дед покажет свое настоящее лицо и сбросит маску. Тогда разразится жестокая буря; снова встанет вопрос о ее семье, о неравенстве общественного положения, посыплется целый град насмешек и упреков, «Фошлеван», «Кашлеван», богатство, бедность, нищета, камень на шее, будущность. Яростное сопротивление, и в итоге – отказ. Мариус заранее готовился к отпору.
И затем, по мере того как жизнь возвращалась к нему, в его памяти всплывали прежние обиды, раскрывались старые раны, вспоминалось прошлое, и между внуком и дедом снова становился полковник Понмерси; Мариус говорил себе, что нечего ждать настоящей доброты от человека, который был так жесток и несправедлив к его отцу. И вместе с выздоровлением в нем росла какая-то неприязнь к деду. Старик терпел это с кроткой покорностью.
Господин Жильнорман отметил про себя, что Мариус, с тех пор как его принесли к нему в дом и он пришел в сознание, еще ни разу не назвал его отцом. Правда, он не именовал его также и «сударь», но строил фразы таким образом, что ухитрялся избегать всякого обращения.
Несомненно, назревал кризис.
Как обычно бывает в таких случаях, прежде чем вступить в бой, Мариус испытал себя в мелких стычках. На войне это называется разведкой. Однажды утром г-ну Жильнорману, по поводу попавшейся ему под руку газеты, вздумалось отозваться с пренебрежением о Конвенте и изречь какую-то роялистскую сентенцию насчет Дантона, Сен-Жюста и Робеспьера.
– Люди девяносто третьего года были титанами, – сурово отрезал Мариус.
Старик умолк и до самого вечера не проронил ни слова.
Мариус, который всегда помнил непреклонного деда своих детских лет, счел это молчание за глубокий сдержанный гнев и, предвидя ожесточенную борьбу, тем упорнее начал мысленно готовиться к предстоящему сражению.
Он твердо решил, что в случае отказа сорвет все повязки, чем повредит сломанной ключице, обнажит и разбередит не совсем еще зажившие раны и откажется от всякой пищи. Его раны были его оружием. Завоевать Козетту или умереть.
Он стал выжидать благоприятной минуты с угрюмым терпением больного.
Эта минута наступила.
Глава 3. Мариус идет на приступ.
Однажды г-н Жильнорман, пока его дочь приводила в порядок склянки и пузырьки на мраморной доске комода, наклонился к Мариусу и сказал ему самым ласковым своим тоном:
– Знаешь, мой мальчик, на твоем месте я больше налегал бы теперь на мясо, чем на рыбу. Жареная камбала отличная еда при начале выздоровления, но, чтобы поставить больного на ноги, нужна хорошая котлета.
Мариус, силы которого почти совсем восстановились, собрался с духом, сел на своем ложе, оперся стиснутыми кулаками на постель, взглянул деду прямо в глаза и заявил с угрожающим видом:
– По этому поводу я должен вам кое-что сказать.
– Что же такое?
– Дело в том, что я намерен жениться.
– Это уже предусмотрено, – отвечал дедушка, разражаясь хохотом.
– Как предусмотрено?
– Так, предусмотрено. Девчурка будет твоей.
Мариус задрожал от радости. Господин Жильнорман продолжал:
– Ну да, бери ее, свою прелестную милую девочку. Она приходит каждый день под видом старого господина справляться о твоем здоровье. С тех пор как тебя ранили, она только и делает, что плачет и щиплет корпию. Я наводил справки. Она живет на улице Вооруженного человека, номер семь. Ага, вот мы и договорились! Ты хочешь жениться на ней? Отлично, женись. Попался, голубчик! Ты задумал целый заговор, ты говорил себе: «Я все объявлю напрямик деду, этой мумии времен Регентства и Директории, этому бывшему красавцу, этому Доранту, обратившемуся в Жеронта; и у него были когда-то свои интрижки и страстишки, свои гризетки, свои Козетты; и он пощеголял в свое время, и он парил в небесах, и он вкусил от плодов весны; хочет не хочет, а придется ему вспомнить об этом. Увидим тогда. Дадим бой!» Ах, ты решил взять быка за рога! Хорошо же. Я предлагаю тебе котлетку, а ты отвечаешь: «Да, кстати, я хочу жениться». Ну и переход! Ага, ты ожидал перепалки? Ты и не знал, что я старый плут. Что ты на это скажешь? Ты взбешен. Ты никак не ожидал, что твой дедушка еще легкомысленнее тебя. Твоя блестящая, заранее заготовленная речь пропала даром, господин адвокат, как досадно! Тем лучше, бесись на здоровье. Я делаю все по-твоему, и это затыкает тебе рот, глупец. Послушай. Я наводил справки, ведь я тоже себе на уме; она очаровательна, она благонравна, про улана – все враки; она нащипала целую кучу корпии, это настоящее сокровище, и она обожает тебя. Если бы ты умер, нас хоронили бы всех троих, ее гроб несли бы вслед за моим. С тех пор как тебе стало лучше, мне даже приходила мысль попросту пристроить ее у твоего изголовья; но ведь только в романах девиц так вот, без церемоний, приводят к постели раненых красавцев, которые им нравятся. В жизни так не бывает. Что бы сказала твоя тетушка? Ты ведь почти все время лежал совсем голый, дружище. Спроси у Николетты, она не оставляла тебя ни на минуту, можно ли было пускать сюда женщин? Да и что сказал бы доктор? Красивая девица – уж никак не лекарство от лихорадки. Ладно, все равно, не будем больше говорить об этом: все сказано, сделано, кончено, бери ее. Вот какой я изверг! Я чувствовал, видишь ли, что ты меня невзлюбил, и я сказал себе: «Что бы мне такое сделать, чтобы эта скотина полюбила меня снова?» И подумал: «Стой-ка, у меня ведь есть под рукой крошка Козетта, подарю-ка ему ее, авось он полюбит меня тогда или хоть скажет, в чем я провинился». Ах, ты решил, что старик будет рвать и метать, бесноваться, топать ногами, замахиваться палкой на эту алую зарю? Ничуть не бывало. Козетта – согласен; любовь – пожалуйста! Ничего лучшего мне не надо. Женитесь, сударь, сделайте милость. Будь счастлив, милое мое дитя!
С этими словами старик расплакался.
Обхватив голову Мариуса, он прижал ее обеими руками к своей старческой груди, и оба разразились рыданиями. В этом находит иногда свое выражение высшее счастье.
– Отец! – воскликнул Мариус.
– Ах, значит, ты любишь меня! – прошептал старик.
Это были незабываемые мгновения. Оба задыхались от слез и не могли говорить.
– Ну вот, – пролепетал наконец старик, – разродился-таки! Сказал мне: «отец»!
Мариус высвободил свою голову из объятий деда и тихонько спросил:
– Отец, но ведь теперь я совсем здоров, я думаю, мне можно с ней повидаться?
– Это тоже предусмотрено, ты увидишь ее завтра.
– Отец!
– Ну что?
– Почему не сегодня?
– Ну что же, не возражаю. Пускай сегодня! Три раза подряд ты назвал меня отцом, это ведь чего-нибудь да стоит. Сейчас я распоряжусь. Тебе ее приведут. Все предусмотрено, говорят тебе. Вся эта история уже была когда-то воспета в стихах. В развязке элегии «Больной юноша» Андре Шенье, того Андре Шенье, которого зарезали эти разб… то есть эти гиганты девяносто третьего года.
Господину Жильнорману показалось, будто Мариус слегка нахмурился, хотя, по правде сказать, Мариус, витая в облаках, совсем не слушал его и думал гораздо больше о Козетте, чем о девяносто третьем годе. Трепеща от страха, что так некстати упомянул Андре Шенье, дедушка тотчас спохватился:
– Зарезали – не то слово. Дело в том, что великие гении революции, которые, бесспорно, никакие не злодеи, а, честное мое слово, истинные герои… нашли, что Андре Шенье немного мешает им и решили его гильотин… Вернее сказать, эти великие люди, в интересах общественного блага, седьмого термидора предложили Андре Шенье отправиться ко всем…
Поперхнувшись собственными словами, г-н Жильнорман запнулся, не умея ни закончить фразы, ни взять ее обратно, и, пока его дочь поправляла за спиной Мариуса подушки, растерянный, взволнованный старик выбежал из спальни со всей быстротой, на какую был способен в свои годы, захлопнул за собою дверь, и, весь красный, взбешенный, задыхающийся, с выпученными глазами, налетел прямо на Баска, который мирно чистил сапоги в прихожей. Он схватил Баска за шиворот и яростно крикнул ему в лицо:
– Тысяча чертей, эти разбойники укокошили его?
– Кого, сударь?
– Андре Шенье.
– Так точно, сударь, – ответил перепуганный Баск.
Глава 4. Мадемуазель Жильнорман в конце концов примиряется с тем, что Фошлеван вошел с пакетом под мышкой.
Козетта и Мариус наконец свиделись.
Какова была эта встреча, мы не в силах описать. Есть многое, чего не стоит и пытаться изобразить, в том числе солнце.
В ту минуту, когда вошла Козетта, в спальне Мариуса собралось все семейство, включая Баска с Николеттой.
Она появилась на пороге; казалось, ее окружало сияние.
Как раз в это время дедушка собирался сморкаться; он замер, уткнув нос в платок и глядя на Козетту исподлобья.
– Обворожительна! – воскликнул он.
И оглушительно высморкался.
Козетта была полна восхищения, упоения, трепета, блаженства. Она оробела, как только можно оробеть от счастья. Она что-то лепетала, то бледнея, то краснея, готова была броситься в объятия Мариуса и не решалась. Она стыдилась выразить свою любовь при всех. Мы безжалостны к счастливым влюбленным: мы торчим рядом, когда им больше всего хочется остаться наедине. Ведь, в сущности, им никого не нужно.
Вместе с Козеттой, держась позади нее, в комнату вошел серьезный седовласый господин, улыбавшийся какой-то странной, горькой улыбкой. То был «господин Фошлеван», то был Жан Вальжан.
Он был «очень прилично одет», как и говорил привратник, – во все черное, во все новое, с белым галстуком на шее.
Привратнику и в голову бы не пришло опознать в этом почтенном буржуа, вероятно нотариусе, страшного носильщика трупов, который в ночь на 7 июня появился перед его дверью, оборванный, черный, ужасный, дикий, с лицом, испачканным кровью и грязью, поддерживая бездыханного Мариуса; тем не менее что-то в нем пробудило его профессиональный нюх. Увидев Фошлевана с Козеттой, привратник не мог удержаться, чтобы тихонько не поделиться с женой: «Не знаю почему, мне все мерещится, будто я где-то уже видел это лицо».
В спальне Мариуса г-н Фошлеван стоял в сторонке, у двери. Он держал под мышкой какой-то пакет, похожий на том в восьмую долю листа, обернутый в бумагу. Обертка была зеленоватого цвета и казалась покрытой плесенью.
– Этот господин всегда таскает книги под мышкой? – шепотом спросила у Николетты девица Жильнорман, которая терпеть не могла книг.
– Что ж тут такого? – возразил г-н Жильнорман тоже шепотом. – Это ученый. Ну и что же? Чем он виноват? Господин Булар, которого я знавал, тоже никогда не выходил из дому без книги и вечно прижимал к сердцу какой-нибудь фолиант.
И, приветствуя гостя, проговорил уже громко:
– Господин Кашлеван…
Старый Жильнорман сделал это ненарочно, просто ему была свойственна аристократическая манера путать фамилии.
– Господин Кашлеван, имею честь просить у вас руки мадемуазель для моего внука, барона Мариуса Понмерси.
«Господин Кашлеван» поклонился.
– По рукам, – заключил дед.
И, повернувшись к Мариусу и Козетте, он воздел обе руки для благословения и воскликнул:
– Отныне можете обожать друг друга.
Они не заставили повторять себе это дважды. Пеняйте на себя! Началось воркованье. Они разговаривали вполголоса – Мариус, полулежа на своей кушетке, Козетта, стоя около него.
– О господи, – шептала Козетта, – наконец-то я вас вижу. Это ты! Это вы! Подумать только, идти туда сражаться! Зачем же? Это ужасно. Целых четыре месяца я умирала со страху. О, как жестоко было с вашей стороны пойти в бой! Что я вам сделала? Я прощаю вам, но больше так не поступайте. Когда пришли, чтобы пригласить нас сюда, я опять чуть не умерла, только уже от радости. Я так тосковала! Я даже не успела приодеться, должно быть, у меня ужасный вид. Что скажут ваши родные, увидев мой смятый воротничок? Да говорите же! Все время говорю только я одна. Мы по-прежнему живем на улице Вооруженного человека. С вашим плечом, кажется, было ужас что такое? Мне говорили, что в рану можно было засунуть целый кулак. А потом, кажется, вам резали тело ножницами. Как страшно! Я так плакала, я все глаза выплакала. Даже смешно, что можно столько вынести. У вашего дедушки очень доброе лицо. Не двигайтесь так, не опирайтесь на локоть, осторожнее, вам будет больно. О, как я счастлива! Наконец-то кончились наши страдания. Я стала совсем дурочкой. Я хотела столько вам сказать и все перезабыла. Вы меня любите? По-прежнему? Мы живем на улице Вооруженного человека. Там нет сада. Я все время щипала корпию. Взгляните-ка, сударь, я натерла мозоль на пальце, это по вашей вине.
– Ангел! – прошептал Мариус.
«Ангел» – единственное слово, которое не может поблекнуть. Никакое другое слово не выдержало бы тех безжалостных повторений, к каким прибегают влюбленные.
Затем, смущенные присутствием посторонних, они замолкли и, не произнося больше ни слова, только тихонько пожимали друг другу руки.
Повернувшись ко всем находящимся в комнате, г-н Жильнорман крикнул:
– Да говорите же громче, эй вы, публика! Шумите, изображайте гром за сценой. Ну же, погалдите немножко, черт возьми, дайте же детям поболтать всласть!
И, подойдя к Мариусу с Козеттой, он сказал им тихонько:
– Говорите друг другу «ты». Не стесняйтесь.
Тетушка Жильнорман растерянно взирала на этот луч света, внезапно вторгшийся в ее тусклый старушечий мирок. В удивлении ее не было ничего враждебного, ничего общего с негодующим и завистливым взглядом совы, устремленным на двух голубков. То был глуповатый взор бедной пятидесятисемилетней старой девы; то неудавшаяся жизнь созерцала торжествующий расцвет любви.
– Девица Жильнорман-старшая, – сказал ей отец, – я давно тебе предсказывал, что ты до этого доживешь.
Он помолчал с минуту и добавил:
– Любуйся теперь чужим счастьем.
Потом он повернулся к Козетте:
– До чего же она красива! До чего красива! Настоящий Грез! И все это достанется тебе одному, повеса! Ах, мошенник, ты дешево отделался от меня, тебе повезло! Будь я на пятнадцать лет моложе, мы бились бы с тобой на шпагах, и неизвестно, кому бы она еще досталась. Слушайте, я просто влюблен в вас, мадемуазель! В этом нет ничего удивительного. Ваше право пленять сердца. Ах, какая прелестная, чудная, веселая свадебка у нас будет! Наш приход – это Сен-Дени, но я выхлопочу вам разрешение венчаться в приходе Сен-Поль. Там церковь лучше. Она построена иезуитами. Она гораздо наряднее. Это против фонтана кардинала Бирага. Лучший образец архитектуры иезуитов находится в Намюре и называется Сен-Лу. Вам непременно нужно туда съездить, когда вы обвенчаетесь. Туда стоит прокатиться. Я всецело на вашей стороне, мадемуазель, я хочу, чтобы девушки выходили замуж, для того они и созданы. Пусть все юные девы идут по стопам праматери Евы – вот мое пожелание. Остаться в девицах весьма похвально, но жить холодно! В Библии сказано: «Размножайтесь». Чтобы спасать народы, нужна Жанна д’Арк, но чтобы плодить народы, нужна матушка Жигонь. Итак, выходите замуж, красавицы! Право, не понимаю, зачем оставаться в девушках? Я знаю, у них отдельные молельни в церквах и они утешаются сознанием своей принадлежности к общинам Святой Девы; но, черт побери, все-таки красивый муж, славный парень, а через год толстенький белокурый малыш с аппетитными складочками на пухлых ножках, который весело сосет грудь, теребит ее своими розовыми лапками и улыбается, как светлая заря, – это гораздо лучше, чем торчать у вечерни с церковной свечой и распевать Turris eburnea.
Дедушка сделал пируэт на своих девяностолетних ногах и зачастил с быстротой развертывающейся пружины:
– Да, кстати!
– Что, отец?
– У тебя был, кажется, закадычный друг?
– Да, Курфейрак.
– Что с ним сталось?
– Он умер.
– Это хорошо.
Он уселся рядом с влюбленными, усадил Козетту и соединил их руки в своих морщинистых старческих руках.
– Она восхитительна, прелестна. Она просто совершенство, эта самая Козетта! Настоящий ребенок и настоящая знатная дама. Жаль, что она будет всего только баронессой, это недостойно ее: она рождена маркизой. Одни ресницы чего стоят! Дети мои, зарубите себе на носу, что вы на правильном пути. Любите друг друга. Глупейте от любви. Любовь – это глупость человеческая и мудрость божия. Обожайте друг друга. Но какое несчастье! – добавил он, вдруг помрачнев. – Я вот о чем думаю. Ведь большая часть моего состояния в ренте; пока я жив, на нас хватит, но после моей смерти, лет эдак через двадцать, у вас не будет ни гроша, бедные детки. Вашим прелестным беленьким зубкам, госпожа баронесса, придется оказать честь сухой корочке.
В эту минуту раздался чей-то спокойный, серьезный голос:
– У мадемуазель Эфрази Фошлеван имеется шестьсот тысяч франков.
Это был голос Жана Вальжана.
До сих пор он не произнес ни слова; никто, казалось, даже не замечал его присутствия, и он стоял молча и неподвижно, держась поодаль от всех этих счастливых людей.
– О какой это мадемуазель Эфрави идет речь? – спросил озадаченный дед.
– Это я, – сказала Козетта.
– Шестьсот тысяч франков? – переспросил г-н Жильнорман.
– На четырнадцать или пятнадцать тысяч меньше, быть может, – уточнил Жан Вальжан.
И он выложил на стол пакет, который тетушка Жильнорман приняла было за книгу.
Жан Вальжан собственноручно вскрыл пакет. Это была пачка банковых билетов. Их просмотрели и пересчитали. Там было пятьсот билетов по тысяче франков и сто шестьдесят восемь по пятьсот. Итого пятьсот восемьдесят четыре тысячи франков.
– Ай да книга! – воскликнул г-н Жильнорман.
– Пятьсот восемьдесят четыре тысячи франков! – прошептала тетушка.
– Это улаживает многие затруднения, не так ли, мадемуазель Жильнорман-старшая? – заговорил дед. – Этот чертов плут Мариус изловил на древе мечтаний пташку-миллионершу! Верьте после этого любовным увлечениям молодых людей! Студенты находят возлюбленных с приданым в шестьсот тысяч франков. Керубино работает лучше Ротшильда.
– Пятьсот восемьдесят четыре тысячи франков! – бормотала вполголоса мадемуазель Жильнорман. – Пятьсот восемьдесят четыре! Почти что шестьсот тысяч, каково!
А Мариус и Козетта в это время глядели друг на друга и едва обратили внимание на такую мелочь.
Глава 5. Лучше поместить капитал в любом лесу, чем у любого нотариуса.
Читатель, разумеется, догадался, и нам нет нужды пускаться в пространные объяснения, что Жану Вальжану, бежавшему после дела Шанматье, за несколько дней удалось добраться до Парижа и вовремя вынуть из банкирского дома Лафита капитал, нажитый им под именем господина Мадлена в Монрейле Приморском, и что затем, боясь быть пойманным, – а это действительно и случилось вскоре, – он спрятал и закопал эти деньги в Монфермейльском лесу, на так называемой прогалине Бларю. Вся сумма – шестьсот тридцать тысяч франков, целиком в банковых билетах, – была невелика по объему и легко умещалась в шкатулке; однако, чтобы предохранить шкатулку от сырости, он заключил ее в дубовый сундучок, наполненный древесными стружками. В том же сундучке он спрятал и другое свое сокровище – подсвечники епископа! Как мы помним, он захватил с собой подсвечники, совершая побег из Монрейля Приморского. Человек, которого как-то вечером впервые заметил Башка, был Жан Вальжан. Позднее, всякий раз как Жану Вальжану требовались деньги, он отправлялся за ними на прогалину Бларю. Этим объяснялись его отлучки, о которых мы уже упоминали. У него хранился там заступ, спрятанный где-то в зарослях вереска, в одном ему известном тайнике. Видя, что Мариус выздоравливает, и чувствуя, что приближается час, когда деньги могут понадобиться, он отправился за ними; и это опять-таки его видел в лесу Башка, но на сей раз не вечером, а под утро. Башке достался в наследство один заступ.
На самом деле сумма составляла пятьсот восемьдесят четыре тысячи пятьсот франков. Жан Вальжан отложил пятьсот франков для себя. «Там видно будет», – подумал он.
Разница между этой суммой и шестьюстами тридцатью тысячами франков, вынутыми из банка Лафит, объяснялась расходами за десять лет, с 1823 по 1833 год. За пятилетнее пребывание в монастыре было истрачено только пять тысяч франков.
Жан Вальжан поставил серебряные подсвечники на камин, где они ярко заблестели, к величайшему восхищению Тусен.
Заметим, кстати, что Жан Вальжан в то время уже знал, что навсегда избавился от преследований Жавера. Кто-то рассказал при нем, и он нашел тому подтверждение в газете «Монитер», опубликовавшей это происшествие, что полицейский надзиратель по имени Жавер был найден утонувшим под плотом прачек между мостами Менял и Новым и что записка, которую оставил этот человек, до тех пор безукоризненный и весьма уважаемый начальством служака, заставляла предположить припадок умопомешательства и самоубийство. «В самом деле, – подумал Жан Вальжан, – если могло случиться, что, поймав меня, он отпустил меня на волю, то, надо полагать, он уже был не в своем уме».
Глава 6. Оба старика, каждый на свой лад, прилагают все старания, чтобы Козетта была счастлива.
Все было приготовлено для свадьбы. По мнению врача, с которым посоветовались, она могла состояться в феврале. Стоял декабрь. Протекло несколько восхитительных недель безмятежного счастья.
Дедушка был едва ли не самым счастливым из всех. Целые часы он проводил, любуясь Козеттой.
– Очаровательница! Красотка! – восклицал он. – И такая нежная, такая кроткая! Спору нет, клянусь честью, это самая прелестная девушка, какую я видел в жизни. В этой благоуханной фиалочке таятся все женские добродетели. Это сама Грация, право! С таким созданием надо жить по-княжески. Мариус, мой мальчик, ты барон, ты богат, умоляю тебя, брось сутяжничать!
Козетта и Мариус вдруг попали из могилы прямо в рай. Переход был слишком внезапным и потряс бы их, если бы они не были опьянены счастьем.
– Ты что-нибудь тут понимаешь? – спрашивал Мариус у Козетты.
– Нет, – отвечала Козетта. – Но мне кажется, что сам господь смотрит на нас с высоты.
Жан Вальжан все сделал, все уладил, обо всем договорился, устранил все препятствия. Он торопился навстречу счастью Козетты с тем же нетерпением и, казалось, с тою же радостью, как сама Козетта.
Как бывший мэр, он сумел разрешить один щекотливый вопрос, тайна которого была известна ему одному, – вопрос о гражданском состоянии Козетты. Открыть правду о ее происхождении? Как знать, это могло бы расстроить свадьбу. Он избавил Козетту от всех трудностей. Он изобрел ей родню из покойников – верный способ избежать всяких разоблачений. Козетта оказалась последним отпрыском угасшего рода; Козетта не его дочь, а дочь другого Фошлевана, его брата. Оба Фошлевана служили садовниками в монастыре Малый Пикпюс. Съездили в этот монастырь; оттуда были получены наилучшие сведения и множество самых лестных рекомендаций. Добрые монахини, мало смыслящие и мало склонные разбираться в вопросах отцовства, не подозревали обмана; они никогда хорошенько не знали, кому именно из двух Фошлеванов приходилась дочерью маленькая Козетта. Они подтвердили, и очень охотно, то, что от них требовалось. Был составлен нотариальный акт. Козетта стала законно называться мадемуазель Эфрази Фошлеван. Она была объявлена круглой сиротой. Жан Вальжан устроил так, что под именем Фошлевана стал опекуном Козетты, а г-н Жильнорман был назначен ее вторым опекуном.
Что касается пятисот восьмидесяти четырех тысяч франков, они были якобы отказаны Козетте по завещанию лицом, которое пожелало остаться неизвестным. Первоначально наследство составляло пятьсот девяносто четыре тысячи франков; но десять тысяч франков были истрачены на воспитание мадемуазель Эфрази, из коих пять тысяч франков уплачены в упомянутый монастырь. Это наследство, врученное третьему лицу, должно было быть передано Козетте по достижении совершеннолетия или при вступлении в брак. Все в целом было, как мы видим, вполне приемлемо, в особенности учитывая приложение в виде полумиллиона с лишком. Правда, здесь имелись кое-какие странности, но на них никто не обратил внимания; одному из заинтересованных лиц застилала глаза любовь, другим – шестьсот тысяч франков.
Козетта узнала, что она неродная дочь старику, которого так долго называла отцом. Это только родственник, а настоящий ее отец – другой Фошлеван. Во всякое другое время это открытие причинило бы ей глубокое горе, но в те несказанно счастливые минуты оно лишь ненадолго, мимолетной тенью омрачило ее душу; вокруг было столько радости, что это облачко скоро рассеялось. У нее был Мариус. Приходит юноша, и старика забывают, – такова жизнь.
Кроме того, Козетта привыкла с давних лет к окружавшим ее загадкам; всякое существо, чье детство окутано тайной, всегда в известной мере готово к разочарованиям.
Однако она по-прежнему называла Жана Вальжана отцом. Козетта, на седьмом небе от счастья, была в восторге от старого Жильнормана. И действительно, тот осыпал ее подарками и мадригалами. Пока Жан Вальжан старался создать Козетте прочное общественное положение и закрепить за ней ее состояние, г-н Жильнорман хлопотал о ее свадебной корзинке. Ничто так не забавляло старика, как одарять ее щедрой рукой. Он подарил Козетте платье из бельгийского гипюра, доставшееся ему еще от его собственной бабки. «Моды возрождаются, – говорил он, – теперь все помешаны на старинных вещах, и я вижу на старости лет, что молодые дамы одеваются так же, как одевались старушки во времена моего детства».
Он опустошал почтенные толстобокие комоды лакированного коромандельского дерева, которые не отпирались много лет. «Ну-ка, поисповедуем этих вдовушек, – приговаривал он, – посмотрим-ка, чем они полны». Он с треском выдвигал пузатые ящики, набитые нарядами всех его жен, всех его любовниц и бабушек. Китайские шелка, штофы, камка, цветной муар, платья из тяжелого сверкающего турского шелка, индийские платки, вышитые золотом, не тускнеющим от стирки, штуки шерстяной ткани, одинаковые и с лица, и с изнанки, генуэзские и алансонские кружева, старинные золотые уборы, бонбоньерки слоновой кости, украшенные изображением батальных сцен тончайшей работы, наряды, ленты – всем этим он задаривал Козетту. Восхищенная Козетта, в упоении любви к Мариусу, растроганная и смущенная щедростью старого Жильнормана, грезила о безграничном счастье среди бархата и атласа. Козетте чудилось, что свадебную корзинку подносят ей серафимы. Душа ее воспаряла в небеса на крыльях из тончайших кружев.
Как мы сказали, блаженство влюбленных могло сравниться только с ликованием деда. Казалось, на улице Сестер страстей господних неумолчно звенели трубы.
Каждое утро дедушка подносил Козетте старинные безделушки. Всевозможные украшения сыпались на нее, как из рога изобилия.
Однажды Мариус, который и в эти счастливые дни охотно вел серьезные беседы, сказал по какому-то поводу:
– Деятели революции настолько велики, что уже в наши дни овеяны обаянием древности, подобно Катону или Фокиону; они приводят на память мемуары античных времен.
– Мемуары антич… Муар-антик! – воскликнул дедушка. – Вот спасибо, Мариус, надоумил; это как раз то, что мне нужно.
И наутро к свадебным подаркам Козетты прибавилось роскошное муаровое платье цвета чайной розы.
Дед извлекал из своих тряпок целую философию:
– Любовь – само собой, но нужно еще что-то. Для счастья нужно и бесполезное. Просто счастье – это лишь самое необходимое. Сдобрите же его излишним не скупясь. С милым рай и во дворце. Мне нужно ее сердце и Лувр вдобавок. Ее сердце и фонтаны Версаля. Дайте мне мою пастушку, но, если можно, обратите ее в герцогиню. Приведите ко мне Филиду в васильковом венке и с рентой в сто тысяч франков в придачу. Предложите мне пастушеский шалаш, с мраморной колоннадой до горизонта. Я согласен на шалаш, я не прочь и от волшебных палат из мрамора и золота. Счастье всухомятку похоже на черствый хлеб. Им можно закусить, но нельзя пообедать. Я жажду избытка, жажду бесполезного, безрассудного, чрезмерного, всего, что ни на что не нужно. Помню, мне довелось видеть на Страсбургском соборе башенные часы вышиной с трехэтажный дом, которые отбивали время, вернее, удостаивали обозначать время, но казались созданными совсем не для этого; отзвонив полдень или полночь, полдень – час солнца, полночь – час любви, или любой другой час суток на выбор, они показывали вам месяц и звезды, море и сушу, рыб и птиц, Феба и Фебу, и уйму разных разностей, которые появлялись из ниши; тут были и двенадцать апостолов, и император Карл Пятый, и Эпонина, и Сабин, а сверх всего прочего целая орава золоченых человечков, игравших на трубах. Я уже не говорю о чудесном перезвоне, которым то и дело они оглашали воздух неизвестно по какому поводу. Можно ли сравнить с ними жалкий голый циферблат, который просто-напросто отсчитывает минуты? Я стою за огромные страсбургские часы, я предпочитаю их швейцарским часам.
Господин Жильнорман особенно любил разглагольствовать по поводу самой свадьбы, и в его славословиях возникали, словно в зеркале, все тени восемнадцатого века вперемешку.
– Вы и понятия не имеете об искусстве устраивать празднества! – восклицал он. – Теперь и повеселиться-то не умеют в день торжества. Ваш девятнадцатый век какой-то дохлый. Ему недостает размаха. Ему недоступна роскошь, недоступно благородство. Он все стрижет под гребенку. Ваше любезное третье сословие безвкусно, бесцветно, безуханно, безобразно. Вот они, мечты ваших буржуазок, когда они, по их выражению, «пристраиваются»: хорошенький будуар, заново обставленный, палисандровая мебель и коленкор. Дорогу им, дорогу! Достопочтенный Скаред женится на девице Сквалыге. Блеск и великолепие! К свечке прилепили настоящую золотую монету! Вот так эпоха! Я охотно удрал бы от нее к сарматам. Ах, уже в тысяча семьсот восемьдесят седьмом году я предсказывал, что все погибло, в тот самый день как увидел, что герцог Роган, принц Леонский, герцог Шабо, герцог Монбазон, маркиз Субиз, виконт Туарский, пэр Франции, ехал на скачки в Лоншан в двуколке! И это принесло свои плоды. В нынешнем веке люди ведут крупные дела, играют на бирже, наживают деньги – и все до одного скряги. Они холят, и лелеют себя, и наводят на себя блеск: они одеты с иголочки, вымыты, выстираны, выскоблены, выбриты, причесаны, вылощены, прилизаны, навощены, начищены, безукоризненны, отполированы, как камешек, этакие разумники, этакие чистюли, и в то же время, – ей-же-ей! – в глубине их совести такой навоз, такая клоака, что от них шарахнется любая коровница, сморкающаяся в руку. «Нечистоплотная опрятность» – вот какой девиз я жалую вашей эпохе. Не сердись, Мариус, позволь мне отвести душу; как видишь, о народе я не сказал ничего дурного, хоть и сыт им по горло, но разреши мне задать трепку буржуазии. Я и сам из этой породы. Кого люблю, того и бью. Засим скажем прямо: хоть нынче и женятся, но жениться-то не умеют. Ах, право же, я грущу о милых старых нравах! Я грущу обо всем. Ах, где прежнее изящество, рыцарство, это милое учтивое обхождение, всем доступная, веселящая душу роскошь, эта музыка – непременная участница всякой свадьбы: оркестр у знати, трескотня барабанов у народа, – танцы, веселые лица за столом, изысканные мадригалы, песенки, потешные огни, чистосердечный смех, дым коромыслом, пышные банты из лент? Я грущу о подвязке новобрачной. Подвязка новобрачной – двоюродная сестра пояса Венеры. Из-за чего разыгралась Троянская война? Из-за подвязки Елены, черт возьми! Почему идет бой, почему Диомед богоравный раскокал на голове Мериюнея громадный медный шлем о десяти остриях, почему Ахилл и Гектор угощают друг друга могучими ударами копья? Потому что Елена дала свою подвязку Парису. Гомер бы создал целую «Илиаду» из подвязки Козетты. Он воспел бы в поэме старого болтуна вроде меня и назвал бы его Нестором. Друзья мои, в старое время, в наше доброе старое время люди женились с толком: сначала заключали контракт по всей форме, потом закатывали пир на весь мир. Как только удалялся Кюжас, на сцену выступал Камачо. Какого черта! Желудок, славная скотина, требует своего, он тоже хочет покутить на свадьбе! Пировали на славу, и у каждого за столом была прелестная соседка, без всяких там шемизеток, с весьма умеренно прикрытой грудью! Ах, как громко смеялись, ах, как веселились в старину! Молодежь казалась букетом цветов, каждый юноша украшал себя веткой сирени или пучком роз; будь он даже храбрым воякой, он все равно глядел пастушком, и если, скажем, это был драгунский капитан, он ухитрялся носить имя Флориана. Всем хотелось быть красивыми. Наряжались в вышитое платье, в яркие материи. Буржуа походил на цветок, маркиз походил на драгоценный камень. Тогда не носили ни штрипок, ни сапог. Молодые люди были щегольски одеты, блестящи, вылощенны, ослепительны, воздушны, грациозны, кокетливы – и это не мешало им носить шпагу на боку. Настоящие колибри с коготками и клювом. То была эпоха «Галантной Индии». Одной из черт нашего века было изящество, другой – великолепие; ну и забавлялись же мы, разрази меня бог! Зато нынче вы чопорны до невозможности. Буржуа скуп, буржуазка жеманна. Экий злосчастный век! Сейчас изгнали бы самих Граций за то, что они слишком декольтированы. Увы! теперь скрывают красоту, словно какое-то уродство. После революции все обзавелись панталончиками, даже танцовщицы; любая уличная плясунья корчит недотрогу; ваши танцы скучны, как проповеди. Вы желаете быть величественными. Вам было бы не по себе, если бы ваш подбородок не утопал в галстуке. Всякий двадцатилетний молокосос, который женится, мечтает, женясь, походить на господина Руайе-Коллара. А знаете, к чему приводит вас такого рода величие? К ничтожеству. Запомните – радость не только радостное, но и великое чувство. Да веселитесь же, если вы влюблены, черт вас дери! Коли жениться, так уж жениться очертя голову, в упоении счастья, с треском и блеском! Храните серьезность в церкви – согласен. Но как только месса кончилась, пусть все летит к чертям! Надо закружить новобрачную в волшебном вихре. Свадьба должна быть царственной и сказочной. Пусть тянется свадебный поезд от Реймского собора до пагоды Шантлу. Мне противны будничные свадьбы. Клянусь дьяволом, вознеситесь на Олимп, ну хоть на один-то день! Будьте как боги. Ах, вы могли бы быть сильфами, гениями Игр и Смеха, аргираспидами, а вы просто сопляки! Друзья мои, каждый новобрачный должен стать принцем Альдобрандини. Воспользуйтесь этой единственной в жизни минутой, чтобы унестись на седьмое небо вместе с лебедями и орлами, хотя бы наутро вам пришлось шлепнуться в мещанское лягушечье болото. Не скаредничайте на празднике Гименея, не подрезайте его роскошных крыльев, не крохоборствуйте в этот лучезарный день. Расходы на свадьбу – это ведь не расходы на хозяйство. О, если бы я мог устроить все по своему вкусу, как это было бы изысканно!.. Среди деревьев звенели бы скрипки. Лазурь и серебро – вот моя программа. Я созвал бы на праздник сельские божества, я кликнул бы дриад и нереид. Свадьба Амфитриты, розовая дымка, изящно причесанные и совершенно обнаженные нимфы, ученый академик, подносящий богине четверостишие, морские чудовища, впряженные в колесницу.
Вот это программа празднества! Ай да программа, или я ни черта не понимаю, провалиться мне на этом месте!
Пока дед, изливаясь в лирическом вдохновении, заслушивался сам себя, Козетта и Мариус упивались счастьем, любуясь друг другом без помехи.
Тетушка Жильнорман наблюдала все это с присущим ей невозмутимым спокойствием. За последние пять-шесть месяцев на ее долю пришлось немало волнений: Мариус вернулся, Мариуса принесли окровавленным, Мариуса принесли с баррикады, Мариус умер, нет, жив, Мариус примирился с дедом, Мариус помолвлен, Мариус женится на бесприданнице, Мариус женится на миллионерше. Шестьсот тысяч франков доконали ее. После этого к ней вернулось вялое безразличие времен ее первого причастия. Она аккуратно посещала богослужения, перебирала четки, шептала Ave[155] в одном углу дома, в то время как в другом углу шептали I love you[156], и Мариус с Козеттой казались ей какими-то смутными тенями. На самом же деле тенью была она сама.
Существует особый род бездеятельного аскетизма, когда, за исключением землетрясений и прочих катастроф, душа, застывшая и оцепенелая, чуждая всему, что можно назвать жизненной деятельностью, не воспринимает никаких впечатлений, ни радостных, ни горестных. «Такое благочестие, – говаривал дочери старый Жильнорман, – все равно что насморк. Ты не чувствуешь запаха жизни. Ни ее зловония, ни аромата».
Впрочем, шестьсот тысяч франков положили конец давнишним колебаниям старой девы. Отец ее так мало привык с нею считаться, что даже не посоветовался с ней, давая согласие на брак Мариуса. По своему обыкновению, он весь отдался порыву и, став из деспота рабом, руководился одной только мыслью: угодить Мариусу. И он даже не вспомнил ни о существовании тетки, ни о том, что у нее может быть свое мнение; несмотря на всю овечью покорность, она была этим задета. Внешне равнодушная, но возмущенная в глубине души, она сказала себе: «Отец решает вопрос о браке без меня; ну что ж, зато я разрешу вопрос о наследстве без него». В самом деле, она была богата, а отец нет. И свое решение на этот счет она хранила про себя. Вполне возможно, что, если бы жених и невеста были бедны, она так и оставила бы их в бедности. Мой любезный племянник изволит жениться на нищей – тем хуже для него! Пусть остается нищим. Но полмиллиона Козетты понравились тетке и изменили ее позицию по отношению к влюбленной паре. Шестьсот тысяч франков бесспорно заслуживают уважения, и ей стало ясно, что она не может не оставить свое состояние молодым людям именно потому, что они в нем больше не нуждались.
Было решено, что юная чета поселится у деда. Г-н Жильнорман непременно хотел уступить им свою спальню, лучшую комнату в доме. «Я стану от этого моложе, – заявил он. – Это мое давнишнее намерение. Я всегда мечтал сыграть свадьбу в моей комнате». Он убрал эту спальню множеством старинных изящных безделушек. Он велел расписать потолок и обить стены изумительной материей, штуку которой давно хранил у себя и считал утрехтской, с бархатистыми первоцветами по золотому атласному полю. «Этой самой материей, – говорил он, – была задрапирована кровать герцогини Анвильской во дворце Ларош-Гийон». На камине он поставил статуэтку саксонского фарфора – женскую фигурку, прикрывающую муфтой свою наготу.
Библиотека г-на Жильнормана была обращена в приемный кабинет, необходимый Мариусу; чтобы вступить в адвокатское сословие, требовался, как мы помним, приемный кабинет.
Глава 7. Обрывки страшных снов вперемежку со счастливой явью.
Влюбленные встречались ежедневно. Козетта приходила в сопровождении г-на Фошлевана. «Где это видано, – ворчала девица Жильнорман, – чтобы нареченная сама являлась в дом жениха и сама напрашивалась на ухаживание?» Но обычай этот, вызванный медленным выздоровлением Мариуса, укоренился окончательно еще и потому, что кресла в доме на улице Сестер страстей господних были гораздо удобнее для бесед с глазу на глаз, чем соломенные стулья на улице Вооруженного человека. Мариус и Фошлеван виделись, но друг с другом не разговаривали. Казалось, так было между ними условлено. Каждая девушка нуждается в провожатом. Козетта не могла бы приходить без г-на Фошлевана. Для Мариуса присутствие г-на Фошлевана являлось необходимым условием свиданий с Козеттой. И он мирился с ним. Рассуждая об улучшении жизни всего человечества и затрагивая в разговоре, слегка и в общих чертах, политические вопросы, им случалось перекинуться несколькими словами, помимо обычных «да» и «нет». Однажды по поводу народного образования, которое Мариус мыслил бесплатным и обязательным, широко распространенным, щедро предоставленным всем, как воздух и солнце, словом, доступным для всего народа, они сошлись во мнениях и почти разговорились. Мариус заметил при этом, что г-н Фошлеван выражает свои мысли хорошо и даже несколько высоким слогом. Однако чего-то ему не хватало. В чем-то г-н Фошлеван стоял ниже светского человека, а в чем-то выше его.
В глубине души Мариус обращал множество немых вопросов к этому г-ну Фошлевану, который был к нему достаточно благожелателен, но холоден. Порою он сомневался в собственных воспоминаниях. В его памяти образовался провал, черное пятно, пропасть, вырытая четырехмесячной агонией. Многое кануло туда безвозвратно. Доходило до того, что он спрашивал себя, мог ли он действительно видеть г-на Фошлевана, такого серьезного и спокойного человека, на баррикаде.
Это была, впрочем, не единственная загадка, которую видения прошлого, появляясь и исчезая, оставили в его памяти. Не следует думать, что он был избавлен от тех навязчивых воспоминаний, которые принуждают нас, даже среди счастья и благополучия, с печалью оглядываться назад. Тот, кто никогда не обращает взора к исчезнувшим горизонтам минувшего, не способен ни мыслить, ни любить. По временам Мариус закрывал лицо руками, и смутные тревожные призраки былого прорезали сумеречный туман, окутавший его мозг. Он снова видел, как падает мертвым Мабеф, он слышал, как распевает Гаврош под градом картечи, он ощущал на губах смертный холод лба Эпонины. Анжольрас, Курфейрак, Жан Прувер, Комбефер, Боссюэ, Грантэр, все его друзья вставали перед ним, как живые, и затем исчезали. Только ли сон все эти дорогие его сердцу существа, страдающие, мужественные, трогательные или трагические? Или они существовали в действительности? Прошлое заволокло дымом мятежа. Грозные потрясения вызывают грозные сны. Он спрашивал себя, проверял себя; голова его кружилась от сознания, что эти жизни угасли бесследно. Где же они? Правда ли, что все это умерло? Обвал все увлек за собой в черную тьму, кроме него одного. Все, казалось, исчезло, словно за театральным занавесом. Порою над жизнью опускаются подобные завесы. И бог переходит к следующему акту.
Да и сам он, Мариус, остался ли прежним? Он, бедняк, стал богатым; он, одинокий, обрел семью; он, отчаявшийся во всем, женится на Козетте. Ему казалось, что он прошел через могилу, что он опустился туда осужденным, а вышел на свет оправданным. Другие же остались там, в глубине могилы. В иные минуты все эти тени прошлого, возвращаясь и оживая, обступали его кругом и омрачали его дух; тогда он думал о Козетте и снова успокаивался; только это высочайшее счастье и могло изгладить следы катастрофы.
Господин Фошлеван занимал какое-то место в ряду этих погибших. Мариус не решался верить, что Фошлеван с баррикады был тем же Фошлеваном из плоти и крови, который так спокойно сидел рядом с Козеттой. Тот был, вероятно, одним из кошмарных образов, возникавших и таявших в часы бреда. Помимо всего оба они были необщительны по природе; поэтому Мариус не мог и подумать обратиться к г-ну Фошлевану с каким-нибудь вопросом. Ему и в голову это не приходило. Мы уже отмечали раньше эту черту его характера.
Два человека, связанные общей тайной, которые, как бы по молчаливому соглашению, не перемолвятся о ней ни словом, совсем не такая редкость, как может показаться.
Только однажды Мариус решился сделать попытку. Он навел разговор на улицу Шанврери и, повернувшись к г-ну Фошлевану, спросил его:
– Ведь вы хорошо знаете эту улицу?
– Какую?
– Улицу Шанврери.
– Не имею понятия о таком названии, – отвечал Фошлеван самым естественным тоном.
Ответ, который относился, собственно, к названию улицы, а не к самой улице, показался Мариусу более убедительным, чем был на самом деле.
«Положительно, мне это приснилось, – подумал он. – У меня была галлюцинация. Это просто кто-нибудь похожий на него. Господина Фошлевана там не было».
Глава 8. Два человека, которых невозможно разыскать.
Как ни сильны были любовные чары, они не могли изгладить из мыслей Мариуса все его заботы.
Пока шли приготовления к свадьбе, он, в ожидании назначенного срока, предпринял трудные и тщательные розыски, посвященные прошлому.
Он обязан был двойной признательностью: прежде всего – за отца, затем – за самого себя.
Был где-то Тенардье; был где-то незнакомец, который принес его, Мариуса, в дом г-на Жильнормана.
Мариусу во что бы то ни стало надо было найти этих двух людей. Он не допускал и мысли, что, наслаждаясь счастьем, может забыть о них, и боялся, как бы этот неоплаченный долг чести не омрачил его жизни, отныне такой лучезарной. Он не мог откладывать платеж по этим давним обязательствам и, прежде чем ступить в радостное будущее, хотел расквитаться с прошедшим.
Пускай Тенардье был негодяем, это нисколько не умаляло того факта, что он спас полковника Понмерси. Тенардье мог быть бандитом в глазах всего света, но не в глазах Мариуса.
Не зная о том, что произошло в действительности на поле битвы при Ватерлоо, Мариус не знал, какие странные обстоятельства связывали с Тенардье его отца, который был обязан мародеру жизнью, но не благодарностью.
Ни одному из многочисленных агентов, нанятых Мариусом, не удалось напасть на след Тенардье. С этой стороны, казалось, все было утеряно безвозвратно. Жена Тенардье умерла в тюрьме во время следствия. Сам Тенардье и его дочь Азельма, последние, кто остался от злополучной семьи, снова канули во тьму. Пучина социального Неведомого беззвучно сомкнулась над этими существами. Не осталось на поверхности ни зыби, ни ряби, ни темных концентрических кругов, которые указывали бы, что туда что-то упало и что можно опустить туда лот.
Жена Тенардье умерла, Башка был признан непричастным к делу, Звенигрош исчез, главные обвиняемые бежали из тюрьмы, и громкий судебный процесс о засаде в лачуге Горбо почти ни к чему не привел. Дело так и осталось довольно темным. Суд присяжных вынужден был удовольствоваться двумя второстепенными обвиняемыми: один из них был Крючок, он же Весенний, он же Гнус, другой – Пол-Лиарда, он же Два Миллиарда; обоих приговорили к десяти годам галер. Их скрывшиеся сообщники были заочно присуждены к пожизненным каторжным работам. Тенардье как зачинщику и вожаку был вынесен, также заочно, смертный приговор. Приговор – вот единственное, что оставалось от Тенардье и бросало зловещий свет на это исчезнувшее имя, подобно свече, горящей у гроба.
Однако это осуждение, заставляя Тенардье, из страха быть пойманным, отступать все дальше, на самое дно, еще сильнее сгущало мрак, который окутывал этого человека.
Розыски же второго незнакомца, того, что спас Мариуса, дали сперва кое-какие результаты, но затем зашли в тупик. Удалось найти фиакр, который привез Мариуса вечером 6 июня на улицу Сестер страстей господних. Извозчик показал, что 6 июня по приказу полицейского агента он «проторчал» с трех часов пополудни до темноты на набережной Елисейских полей, над отверстием Главного водостока; что часам к девяти вечера решетка клоаки, выходящая на берег реки, отворилась; что оттуда показался человек, неся на плечах другого, по всей видимости, мертвого; что полицейский, который караулил это место, арестовал живого и захватил мертвеца; что по приказу агента он, извозчик, погрузил «всю эту публику» в свой фиакр; что они направились сперва на улицу Сестер страстей господних и высадили там покойника; что этот покойник и есть господин Мариус и что он, извозчик, отлично узнает его, хотя «нынче, спору нет, барин живехонек»; что после этого седоки снова влезли в карету, а он погнал лошадей дальше; что, немного не доезжая ворот Архива, они велели ему остановиться; что там, прямо на улице, с ним расплатились и ушли и что полицейский увел с собой второго человека; а больше он, извозчик, ничего не знает, к тому же ночь была очень темная.
Сам Мариус, как мы уже говорили, ничего не мог восстановить в памяти. Он помнил только, что сильная рука подхватила его сзади в ту минуту, как он падал навзничь на баррикаде; после этого все угасло в его сознании. Он пришел в себя только в доме г-на Жильнормана.
Он терялся в догадках.
Не мог же он сомневаться в своем собственном тождестве. Как могло случиться, однако, что, упав без чувств на улице Шанврери, он был подобран полицейским на берегу Сены, возле моста Инвалидов? Кто-то, очевидно, донес его от квартала Центрального рынка до самых Елисейских полей. Каким путем? Через водосток. Неслыханное самопожертвование!
Кто это был? Кто же он?
Тот, кого разыскивал Мариус.
От этого человека, от его спасителя, не осталось ровно ничего – никакого следа, ни малейших примет.
Хотя Мариус вынужден был действовать здесь особенно осторожно, все же он дошел в своих попытках вплоть до полицейской префектуры. Но там, как и повсюду, наведенные справки не привели ни к какому прояснению. Префектура знала еще меньше, чем извозчик. Ни о каком аресте, произведенном 6 июня у решетки Главного водостока, сведений не поступало; не было никакого полицейского донесения об этом факте, который в префектуре склонны были считать за басню. Авторство такой басни приписывали извозчику. Чтобы получить на водку, извозчик способен на все, даже на игру воображения. Однако факт был неоспорим, и, повторяем, Мариус не мог в нем сомневаться, иначе как усомнившись в своем собственном тождестве.
Все казалось необъяснимым в этой странной загадке.
Куда делся неизвестный, тот таинственный человек, который вышел, по словам кучера, открыв решетку Главного водостока, неся на спине бездыханного Мариуса, и был арестован караулившим его полицейским на месте преступления, когда он спасал бунтовщика? И что сталось с самим полицейским? Почему он молчал? Может быть, незнакомцу удалось бежать? Или он подкупил полицейского? Почему этот человек не давал ничего знать о себе Мариусу, который был ему всем обязан? Его бескорыстие казалось не менее поразительным, чем его самоотверженность. Почему он не появлялся? Пусть он не нуждается в вознаграждении, но кто же отвергнет признательность? Не умер ли он? Что это был за человек? Каков он был с виду? Никто не мог сказать точно. Извозчик говорил: «Ночь была темная». А перепуганные Баск и Николетта только и смотрели, что на своего молодого барина, залитого кровью. Один лишь привратник, чей фонарь освещал трагическое прибытие Мариуса, заметил выше означенного человека, и вот что он сказал: «Страшно было глядеть на него».
В надежде, что это поможет при поисках, Мариус велел сохранить окровавленную одежду, в которой его привезли к деду. Осматривая сюртук, кто-то заметил, что одна пола была как-то странно разорвана. В ней недоставало куска.
Однажды вечером, в присутствии Козетты и Жана Вальжана, Мариус рассказывал об этом странном происшествии, о бесчисленных наведенных им справках и о бесплодности своих усилий. Каменное лицо «господина Фошлевана» вывело его из терпения. И с горячностью, в которой чувствовался сдерживаемый гнев, он воскликнул:
– О да, кто бы он ни был, это человек высокого благородства! Знаете ли вы, сударь, что он сделал? Он явился мне на помощь, словно архангел с неба. Ему пришлось броситься в самую гущу битвы, унести меня, открыть вход в водосток, втащить меня туда и нести на себе! Ему пришлось пройти более полутора лье по ужасным подземным коридорам, согнувшись, сгорбившись, во тьме, в трясине клоаки, больше полутора лье, сударь, с мертвецом на спине! И с какой целью? С единственной целью спасти мертвеца! А этим мертвецом был я. Он говорил себе: «Здесь, может быть, еще теплится огонек жизни; я рискну своею собственной жизнью ради этой слабой искорки». И он рисковал жизнью не один раз, а двадцать раз! И каждый шаг грозил ему гибелью. Доказательством служит то, что при выходе из клоаки он был арестован. Знаете ли вы, милостивый государь, что тот человек действительно все это сделал? И притом, не ожидая никакого вознаграждения. Кем я был? Повстанцем. Кем я был? Побежденным. О, если бы шестьсот тысяч франков Козетты принадлежали мне…
– Они ваши, – перебил его Жан Вальжан.
– Так вот, – продолжал Мариус, – я отдал бы их все, чтобы разыскать этого человека!
Жан Вальжан не промолвил ни слова.
Книга шестая. Бессонная ночь.
Глава 1. 16 Февраля 1833 года.
Ночь с 16 на 17 февраля 1833 года была благословенной ночью. Над ее мраком сияло небо рая. То была брачная ночь Мариуса и Козетты.
День прошел восхитительно.
Это был не тот лазурный праздник, о каком мечтал дедушка, не волшебная феерия, с херувимами и купидонами, порхающими вперемежку над головами новобрачных, не свадебный пир, достойный быть запечатленным в росписи над дверью, но все же это был радостный и пленительный день.
Свадебные обычаи 1833 года отличались от нынешних. В то время французы еще не заимствовали у Англии в высшей степени утонченной моды похищать свою жену, бежать с ней, едва выйдя из церкви, прятаться, как бы стыдясь своего счастья, и сочетать уловки скрывающегося банкрота с восторгами «Песни песней». В наше время считается почему-то целомудренным, изысканным и благопристойным трясти свой рай по ухабам в почтовой карете, прерывать таинство щелканьем кнута, нанимать для брачного ложа кровать в трактире и оставлять за собой в этой пошлой спальне, сдающейся за столько-то в ночь, самое священное воспоминание своей жизни, вместе с воспоминанием о шашнях трактирной служанки с кучером дилижанса.
Во второй половине девятнадцатого века, где мы обретаемся, нам уже недостаточно мэра с его шарфом, священника с его епитрахилью, закона и бога; нам необходимо дополнить их кучером из Лонжюмо, его синей курткой с красными отворотами и пуговицами в виде бубенчиков, бляхой на рукаве, кожаными зелеными штанами, его покрикиванием на нормандских лошадок с завязанными узлом хвостами, его фальшивыми галунами, лоснящейся шляпой, пыльными космами, огромным кнутом и ботфортами. Франция еще не достигла той степени изящества, чтобы, подобно английской знати, осыпать карету новобрачных целым градом стоптанных туфель и рваных башмаков, в память о Черчилле, впоследствии герцоге Мальборо, – Мальбруке тож, который подвергся в день свадьбы нападению разгневанной тетки, что якобы принесло ему счастье. Туфли и башмаки не являются еще у нас непременным условием свадебного празднества; но наберитесь терпения, хороший тон продолжает распространяться, скоро мы дойдем и до этого.
В 1833 году, как и сто лет назад, не было в обычае венчаться галопом.
В те времена люди воображали, как это ни странно, что венчание – праздник семейный и общественный, что патриархальный пир нисколько не испортит домашнего торжества, что веселье, пускай даже чрезмерное, зато искреннее, не причинит счастью никакого вреда, что, наконец, добропорядочно и достойно, чтобы слияние двух судеб, дающее начало семье, произошло под домашним кровом и чтобы супруги не имели отныне иных свидетелей своей жизни, кроме собственной спальни.
Словом, люди имели бесстыдство жениться дома.
Итак, согласно этому уже устарелому обычаю, свадьбу отпраздновали в доме г-на Жильнормана.
Как ни естественно и обычно такое событие, как брак, все же оглашение, подписание брачного контракта, мэрия и церковь всегда связаны с известными хлопотами. Со всем этим удалось управиться только к 16 февраля.
Между тем случилось так, – мы отмечаем это обстоятельство из чистого пристрастия к точности, – что 16-е число пришлось на последний день Масленицы. Это вызвало разные сомнения и колебания, главным образом со стороны тетушки Жильнорман.
– Прощеный день, тем лучше! – воскликнул дед. – Ведь есть даже поговорка:
Станем выше предрассудков. Назначим на шестнадцатое! Разве ты согласен ждать, скажи-ка, Мариус?
– Разумеется, нет, – отвечал влюбленный.
– Стало быть, повенчаемся! – заключил дед.
Итак, свадьба состоялась 16-го, несмотря на уличное гулянье. В этот день шел дождь, но в небе всегда найдется кусочек лазури, которого довольно для счастья влюбленных, – он виден им одним даже тогда, когда все прочие смертные прячутся под зонтом.
Накануне Жан Вальжан, в присутствии г-на Жильнормана, передал Мариусу пятьсот восемьдесят четыре тысячи франков.
Брачный договор предполагал общность имущества, и потому не требовалось никаких формальностей.
Тусен с этого дня уже не нужна была Жану Вальжану, и Козетта, получив ее в наследство, возвела в ранг горничной.
Что касается Жана Вальжана, то в доме Жильнорманов была выделена и обставлена для него прекрасная комната; Козетта с такой очаровательной настойчивостью сказала ему: «Отец, я прошу вас», что он почти обещал переселиться туда.
Незадолго до дня свадьбы с Жаном Вальжаном случилась небольшая неприятность: он порезал себе большой палец на правой руке. В этом не было ничего серьезного; он никому не позволил ухаживать за собой – ни перевязать, ни осмотреть свою рану, даже Козетте. Однако это заставило его забинтовать руку и держать ее на перевязи, а также мешало ему что-либо подписывать. Г-н Жильнорман в качестве второго опекуна исполнил за него эту обязанность.
Мы не поведем читателей ни в мэрию, ни в церковь. Влюбленных не принято сопровождать так далеко; обычно к любовной драме поворачиваются спиной, как только на сцене появляется букет новобрачной. Мы ограничимся тем, что укажем на одно происшествие, кстати сказать, не замеченное никем из свадебного кортежа, случившееся на пути от улицы Сестер страстей господних к церкви Сен-Поль.
В те дни заново мостили камнем северный конец улицы Сен-Луи, и, начиная от улицы Королевский парк, она была загорожена для проезда. Ввиду этого свадебные кареты не могли следовать к церкви Сен-Поль прямым путем. Приходилось изменить маршрут, и проще всего было объехать бульваром. Один из приглашенных заметил, что в канун поста там, несомненно, будет большое скопление экипажей. «Почему?» – спросил г-н Жильнорман. «Из-за масок». – «Чудесно, – заявил дед, – поедем по бульвару! Наши молодые люди женятся, они вступают в серьезную эпоху жизни. Пусть напоследок полюбуются на маскарад».
Поехали бульваром. В первой свадебной карете сидели: Козетта с тетушкой Жильнорман и г-н Жильнорман с Жаном Вальжаном. Мариус, согласно обычаю еще разлученный со своей невестой, ехал в следующей. Свадебный поезд, свернув с улицы Сестер страстей господних, включился в длинную вереницу экипажей, тянувшихся нескончаемой цепью от улицы Мадлен к Бастилии и от Бастилии к улице Мадлен.
Ряженые наводняли бульвар. Время от времени начинал моросить дождь, но паяцы, арлекины и шуты не унывали. В эту зиму 1833 года всеми владело веселое настроение, и Париж перерядился в Венецию. В наши дни уже не увидишь такой Масленицы. Вся жизнь превратилась в карнавал, потому-то и нет больше настоящего карнавала.
Боковые аллеи были переполнены прохожими, а окна – любопытными. На площадках, венчавших колоннады театров, теснились зрители. Помимо масок, внимание привлекал обычный в канун поста, как и в день бегов в Лоншане, церемониальный марш всевозможных экипажей. Тут были коляски, крытые повозки, одноколки, кабриолеты, следовавшие по распоряжению полиции в строгом порядке, гуськом друг за дружкой, словно катясь по рельсам. Тот, кто едет в таком экипаже, – одновременно и зритель, и зрелище. Полицейские направляли по обеим сторонам бульвара две бесконечные параллельные вереницы, движущиеся навстречу друг другу, и следили, чтобы ничто не нарушало этого двойного течения, этого двойного потока экипажей, стремящихся одни вверх, другие вниз, – одни к Шоссе д’Антен, другие к Сент-Антуанскому предместью. Украшенные гербами экипажи пэров Франции и иностранных послов занимали середину проезда, свободно передвигаясь в обоих направлениях. Некоторые великолепные и шумные процессии, в особенности Масленичного Быка, пользовались тем же преимуществом. Среди всенародного парижского веселья проследовала, пощелкивая кнутом, и Англия: с оглушительным грохотом прокатила почтовая карета лорда Сеймура, осыпаемая язвительными насмешками толпы.
В двойной цепи экипажей, вдоль которой, точно овчарки, скакали конные стражники, из дверец солидных семейных рыдванов, набитых тетушками и бабушками, то и дело высовывались свежие личики ряженых детей, семилетних Пьерро, шестилетних Пьеретт, очаровательных малышей, гордившихся, что и они принимают участие во всеобщем ликовании, преисполненных сознания важности этой шутовской игры и степенных, как чиновники.
Время от времени где-нибудь в процессии экипажей происходил затор, и тогда та или другая из параллельных цепей останавливалась, пока узел не распутывался; достаточно было замешкаться одной коляске, чтобы задержать всю вереницу. Затем движение восстанавливалось.
Свадебный поезд двигался в потоке, направлявшемся к Бастилии, вдоль правой стороны бульвара. Напротив улицы Капустный мост произошла небольшая задержка. Почти в ту же минуту остановился и второй поток, с другой стороны бульвара, направляющийся к улице Мадлен. Свадебная карета очутилась как раз напротив коляски с ряжеными.
Такие коляски, или, лучше сказать, телеги с масками, хорошо знакомы парижанам. Если бы во вторник на масленой или в четверг в середине поста их не оказалось, в этом заподозрили бы неладное и пошли бы толки: «Тут что-то нечисто. Верно, ожидается смена министерства». Целая орава Кассандр, Арлекинов, Коломбин, колыхающихся над головами прохожих, всевозможные смешные фигуры, начиная с турка и кончая дикарем, маркизы в обнимку с Геркулесами, рыночные торговки, которые заставили бы заткнуть уши самого Рабле, как некогда менады заставляли опускать глаза Аристофана, парики из пакли, розовые трико, франтовские шляпы, шутовские очки, дурацкие колпаки с прицепленной бабочкой, задорная перебранка с пешеходами, руки в боки, вызывающие позы, голые плечи, лица в масках, разнузданная непристойность, разгул бесстыдства на колесах, с кучером в цветочном венке, – вот что такое телега с ряжеными.
Греции нужна была повозка Феспида. Франции нужен фургон Вадэ.
Все можно пародировать, даже пародию. Сатурналия, эта озорная гримаса античной красоты, все более искажаясь и грубея, обратилась в масленичное гулянье; а вакханалия, некогда увенчанная гроздьями винограда, залитая солнцем, смело открывавшая мраморную грудь в божественной своей полунаготе, у нас, под суровым дыханием севера, поникнув в мокрых лохмотьях, стала называться в конце концов карнавальной харей.
Обычай возить ряженых по городу восходит к древнейшим временам монархии. В приходо-расходных книгах Людовика XI значилось, что дворцовому казначею было отпущено «двадцать су турской чеканки на три машкерадных рыдвана для простонародья». В наши дни эти шумные ватаги тащатся всегда в каком-нибудь древнем дилижансе, громоздясь на империале, или же вваливаются скопом в казенное ландо с откинутым верхом. В один шестиместный экипаж их набивается человек двадцать. Они пристраиваются на сиденьях, на откидных скамейках, на краях откинутого верха, на дышле. Некоторые даже сидят верхом на экипажных фонарях. Едут стоя, лежа, сидя, согнувшись в три погибели, свесив ноги. Женщины сидят на коленях у мужчин. Эти живые пирамиды из беснующихся людей видны издалека над колыхающимся морем голов. Битком набитые повозки возвышаются среди общей толчеи, точно горы, струящие веселье. Оттуда сыплются словечки Коле, Панара и Пирона, обогащенные уличным жаргоном. Оттуда изрыгают на толпу площадной катехизис. У перегруженного и несуразно разросшегося экипажа вид самый победоносный. Впереди шум и гам, позади – дым коромыслом. Там вопят, поют, галдят, гогочут, корчатся от хохота; там грохочет веселье, искрятся насмешки, пышет румянцем благодушие; две клячи тащат этот шутовской фарс, развернувшийся в апофеоз; это триумфальная колесница Смеха.
Но смеха слишком циничного, чтобы быть искренним. И в самом деле, смех звучит здесь подозрительно. У него есть своя цель. На него возложена обязанность доказать парижанам, что карнавал состоялся.
Эти разудалые коляски, в глубине которых чудятся бог весть какие мрачные тайны, наводят философа на размышления. За этим притаилась правящая власть. Вы живо ощущаете таинственную связь между уличными агентами и уличными девками.
Разумеется, очень прискорбно, что мерзость, выставляемая напоказ, способна вызывать безудержное веселье, что нагромождение бесчестья и позора может разлакомить толпу, что полицейский сыск, служа проституции пьедесталом, забавляет улицу, оскорбляя ее, что улице любо глазеть, как тащится на четырех колесах чудовищная груда живых тел, в мишуре и лохмотьях, в грязи и блеске, горланя и распевая, что зеваки рукоплещут этому торжеству всех пороков, что для простонародья праздник не в праздник, если в толпе не прогуливаются эти выпущенные полицией двадцатиглавые гидры веселья. Но что поделаешь? Эти телеги с человеческим отребьем, в лентах и в цветах, осуждены и помилованы всенародным смехом. Всеобщий смех – соучастник всеобщего падения нравов. Иные нездоровые увеселения разлагают народ и превращают его в чернь, а черни, как и тиранам, необходимы шуты. У короля есть Роклор, а у народа Паяц. Париж – город великих безумств, кроме тех случаев, когда он бывает столицей великих идей. Там карнавал неразрывно связан с политикой. Надо признать, что Париж охотно смотрит комедию, которую разыгрывает перед ним гнусность. Он требует от своих властителей – когда у него есть властители – только одного: «Размалюйте мне грязь». Рим отличался тем же нравом. Рим любил Нерона. А Нерон был великий скоморох.
Как мы уже сказали, случилось, что одна из таких огромных колясок, тащившая безобразную ораву замаскированных женщин и мужчин, остановилась по левую сторону бульвара в то самое время, когда свадебный кортеж остановился по правую. Ряженые в коляске увидели на той стороне бульвара, как раз напротив, коляску с невестой.
– Гляди-ка, – воскликнула одна из масок, – свадьба!
– Похороны, а не свадьба, – возразила другая маска. – Вот у нас так настоящая свадьба.
И, лишенные удовольствия на таком далеком расстоянии подразнить свадебный поезд, опасаясь к тому же полицейского окрика, обе маски отвернулись в другую сторону.
Впрочем, через минуту у всех ряженых, набившихся в коляску, оказалось дела по горло, так как толпа принялась задирать их и зубоскалить, выражая этим, как принято на карнавале, свое одобрение; обе маски, завязавшие разговор, принуждены были наравне с товарищами смело вступить в битву со всей улицей, и им едва хватало боевых снарядов из их площадного репертуара, чтобы отражать град непристойных шуток черни. Между масками и толпой завязалась отчаянная перебранка чудовищными метафорами.
Тем временем двое других ряженых из той же коляски – старообразного вида испанец с непомерно длинным носом и громадными черными усами и тощая, совсем молоденькая рыночная торговка в полумаске – тоже заметили свадебный поезд и, пока их спутники переругивались с прохожими, начали меж собой тихую беседу.
Их перешептывание заглушалось общим гвалтом и тонуло в нем. Открытая коляска с ряжеными вся вымокла под дождем; февральский ветер неласков; сильно декольтированная девица, с усмешкой отвечая испанцу, стучала зубами от холода и кашляла.
Вот их диалог:
– Слушай-ка!
– Что, папаша?
– Видишь того старика?
– Какого старика?
– Вон там, в передней свадебной тарахтелке, с нашей стороны.
– У которого рука болтается на черной тряпке?
– Да.
– Вижу, ну и что?
– Мне сдается, я его знаю.
– Ну и что ж?
– Пускай мне наденут на шею удавку, пускай у меня язык отсохнет, коли я не знаю этого парижского плясуна.
– Нынче весь Париж плясун.
– Можешь ты увидеть невесту, если нагнешься?
– Нет.
– А жениха?
– В этой тарахтелке нет жениха.
– Да ну?
– Разве только второй старикан.
– Нагнись хорошенько и постарайся все-таки разглядеть невесту.
– Не могу.
– Ладно, все равно, а этого старика с обмотанной клешней я знаю, разрази меня гром!
– А на кой тебе его знать?
– Мало ли что! Иной раз пригодится.
– Ну, а мне наплевать на стариков.
– Я его знаю!
– Ну и знай себе на здоровье.
– Какого дьявола он попал на свадьбу?
– Да мы-то ведь попали?
– Откуда едет эта свадьба?
– А я почем знаю?
– Слушай-ка.
– Чего еще?
– Тебе бы надо обделать одно дельце.
– Чего еще?
– Соскочи на мостовую да последи за этой свадьбой.
– Это зачем?
– Чтобы узнать, куда они едут и что это за птицы. Ну, прыгай живее, беги, дочка, ты у меня шустрая.
– Я не могу сойти с коляски.
– Почему?
– Меня наняли.
– Тьфу, пропасть!
– Нынче мне весь день работать на полицию в этом самом наряде.
– Что правда, то правда!
– Сойди я с коляски, меня первый же легавый застукает. Сам знаешь.
– Как не знать!
– На сегодня меня сторговали фараоны.
– Мне все равно, кто тебя сторговал. Мне надоел этот старик.
– Тебе надоели старики? Полно, ты же не девчонка!
– Он едет в первой коляске.
– Ну и что же?
– В тарахтелке невесты.
– А дальше?
– Стало быть, это отец.
– А мне какое дело?
– Говорят тебе, это отец.
– Отец так отец, эка невидаль!
– Слушай.
– Ну что?
– Я могу выходить только в маске. Так я хорошо укрыт, никто не знает, что я здесь. Но завтра уже не будет масок. Завтра покаянная среда. Я могу засыпаться. Придется уползти в свою дыру. А ты свободна.
– Не так, чтобы очень.
– Все же больше, чем я.
– Ладно, ну а дальше?
– Постарайся узнать, куда поехала эта свадьба.
– Куда она поехала?
– Да.
– Я и так знаю.
– Куда же она едет?
– На улицу Синий циферблат.
– Во-первых, она вовсе не в той стороне.
– Ну тогда к Винной пристани.
– А может, и еще куда?
– Это их дело. Свадьбы едут, куда хотят.
– Не в том суть. Говорят тебе, постарайся узнать, что это за свадьба со стариком в пристяжке и где они живут.
– Как бы не так! Вот потеха! Поди попробуй через неделю найти свадьбу, которая проехала по Парижу во вторник на Масленой. Ищи иголку в сене. Да разве это возможно?
– Мало ли что, надо постараться. Слышишь, Азельма?
В эту минуту обе вереницы экипажей по обеим сторонам бульвара тронулись в путь в противоположных направлениях, и карета с масками потеряла из виду «тарахтелку» с новобрачной.
Глава 2. У Жана Вальжана рука все еще на перевязи.
Осуществить свою мечту! Кому дано такое счастье? Должно быть, в небесах намечают и избирают достойных; мы все, без нашего ведома, являемся кандидатами; ангелы подают голоса. Козетта и Мариус попали в число избранников.
В мэрии и в церкви Козетта была ослепительно хороша и трогательна. Ее наряжала Тусен с помощью Николетты.
Поверх чехла из белой тафты на ней было надето платье бельгийского гипюра, фата из английских кружев, жемчужное ожерелье, венок из померанцевых цветов; все было белое, и в этой белизне она блистала, как заря. Ее тонкая прелесть, излучаясь, преображалась в сияние; чудилось, будто земная дева на ваших глазах превращается в богиню.
Прекрасные волосы Мариуса были напомажены и надушены; кое-где под густыми кудрями виднелись бледные шрамы – это были рубцы от ран, полученных на баррикаде.
Дед, более чем когда-либо воплощая в своем наряде и манерах все изящество и щегольство времен Барраса, величественно, с гордо поднятой головой, вел Козетту к венцу. Он заменял Жана Вальжана, который из-за перевязанной руки не мог сам вести новобрачную.
Жан Вальжан, весь в черном, следовал за ними и улыбался.
– Ах, господин Фошлеван, – говорил дед, – не правда ли, какой чудесный день? Я голосую за отмену всех огорчений и скорбей. Надо, чтобы нигде отныне не было места печали. Я предписываю всеобщее веселье, черт возьми! Зло не имеет права на существование. Неужели есть еще на свете несчастные люди? Честное слово, это позор для голубых небес. Зло не исходит от человека, человек по существу добр. Главный центр управления всех людских бедствий находится в преисподней, иными словами, в тюильрийской резиденции самого сатаны. Скажите на милость, я заговорил, как заправский демагог! Что ж, у меня нет больше политических убеждений; пускай все люди будут богаты, пускай радуются жизни – вот и все, чего я хочу.
Когда по выполнении всех церемоний, – произнеся перед лицом мэра и перед лицом священника все полагающиеся «да», подписав свое имя под брачным контрактом в муниципалитете и в ризнице, обменявшись кольцами, постояв рядом на коленях под белым муаровым венчальным покровом в облаках кадильного дыма, – новобрачные, Мариус весь в черном, Козетта вся в белом, предшествуемые швейцаром в полковничьих эполетах, который громко стучал по плитам своей алебардой, прошли рука об руку, вызывая всеобщее восхищение и зависть, меж двумя рядами умиленных зрителей, к церковным дверям, распахнутым настежь, и направились к карете, даже тогда Козетта не поверила, что все уже кончено. Она смотрела на Мариуса, смотрела на толпу, смотрела на небо; она словно боялась пробудиться от сна. Ее изумленный, неуверенный вид придавал ей какое-то особенное очарование. На обратном пути они сели в одну карету, Мариус рядом с Козеттой; г-н Жильнорман и Жан Вальжан поместились против них. Тетушка Жильнорман отступила на задний план и ехала в следующей карете. «Ну вот, дети мои, – говорил дед, – теперь вы господин барон и госпожа баронесса и у вас тридцать тысяч франков ренты». Близко наклонившись к Мариусу, Козетта нежно прошептала ему на ухо своим ангельским голоском: «Значит, это правда? Я ношу твое имя. Я – госпожа Ты».
Эти юные существа сияли радостью. Для них наступило неповторимое, невозвратимое мгновение: они достигли вершины, где их расцветшая юность обрела всю полноту счастья. Как говорилось в стихах Жана Прувера, обоим вместе им не было и сорока лет. То был чистейший союз: эти двое детей напоминали две лилии. Они не видели, а созерцали друг друга. Мариус являлся Козетте в нимбе; Козетта являлась Мариусу на пьедестале. И на этом пьедестале, и в этом нимбе, как в двойном апофеозе, где-то в непостижимой дали, для Козетты – в неясной дымке, для Мариуса – в блеске и пламени, брезжило нечто идеальное, нечто реальное, место свидания грезы и поцелуя – брачное ложе.
Они с умилением вспоминали о своих муках. Им казалось, что страдания, бессонные ночи, слезы, тревоги, ужас, отчаяние, обернувшись лаской и светом, усиливали очарование грядущего блаженного часа и что их горести были лишь служанками, которые убирали к венцу их лучезарную радость. Выстрадать столько – как это хорошо! Былое горе окружало их счастье ореолом. Долгая агония любви вознесла их на небеса.
Эти юные души были в одинаковом упоении, с оттенком страсти у Мариуса и стыдливости у Козетты. Они говорили шепотом: «Мы снова навестим наш садик на улице Плюме». Складки платья Козетты лежали на коленях Мариуса.
Этот день – неизъяснимое сплетение мечты и уверенности, обладания и грезы. Еще есть время, чтобы угадывать будущее. Какое невыразимое чувство – в сиянии полдня мечтать о полуночи. Блаженство двух сердец передавалось толпе и вызывало в прохожих радостное чувство.
Люди останавливались на Сент-Антуанской улице, против церкви Сен-Поль, чтобы сквозь стекла экипажа полюбоваться померанцевыми цветами, трепетавшими на головке Козетты.
Наконец они вернулись к себе, на улицу Сестер страстей господних. Рука об руку с Козеттой, торжествующий и счастливый, Мариус взошел по той самой лестнице, по которой его несли умирающим. Бедняки, столпившиеся у дверей, деля меж собою щедрое подаяние, благословляли молодых. Всюду были цветы. Дом благоухал не меньше, чем церковь; после ладана – аромат роз. Влюбленным слышались голоса, поющие в бесконечной вышине, в их сердцах пребывал бог, будущее представлялось им небесным сводом, полным звезд, они видели над головой сияние восходящего солнца. Вдруг раздался бой часов. Мариус взглянул на прелестную обнаженную руку Козетты, на плечи, розовевшие сквозь кружева корсажа, и Козетта, уловив его взгляд, покраснела до корней волос.
На свадьбу было приглашено много старых друзей семейства Жильнорман; все теснились вокруг Козетты, наперебой осыпая ее любезностями; каждый оспаривал честь первым назвать ее госпожой баронессой.
Офицер Теодюль Жильнорман, уже в чине капитана, прибыл из Шартра, где стоял его эскадрон, чтобы присутствовать на венчании кузена Понмерси. Козетта не узнала его.
Да и он, избалованный успехом у женщин, запомнил Козетту не больше, чем любую другую.
– Как я был прав, что не поверил этой сплетне про улана, – сказал себе старый Жильнорман.
Никогда еще Козетта не была так нежна с Жаном Вальжаном. Она вторила дедушке Жильнорману: в то время как тот изливал свою радость в афоризмах и изречениях, она источала любовь и ласку, как благоухание. Счастливый желает счастья всему миру.
В ее голосе звучали для Жана Вальжана давние детские интонации. Ее улыбка ласкала его.
Свадебный стол был накрыт в столовой.
Яркое освещение – необходимая приправа к большому празднику. Мгла и сумрак не по сердцу счастливым. Они отвергают черный цвет. Ночь привлекает их, тьма – никогда. Если нет солнца, надо создать его.
Столовая весело играла огнями. Посредине, над столом, покрытым белой ослепительной скатертью, висела венецианская люстра с серебряными подвесками и разноцветными птичками, синими, фиолетовыми, красными, зелеными, сидевшими между свечей; на столе – жирандоли, по стенам – трехсвечные и пятисвечные бра; стекло, хрусталь, бокалы, всевозможная посуда, фарфор, фаянс, глазурь, золото, серебро – все сверкало и веселило глаз. Промежутки между канделябрами были заполнены букетами, – там, где не было огней, пестрели цветы.
Три скрипки и флейта играли в прихожей под сурдинку квартеты Гайдна.
Жан Вальжан сидел на стуле в гостиной, у самой двери, так что ее широкая створка почти закрывала его. За несколько минут до того, как пойти к столу, Козетта, словно по наитию, подбежала к нему и, с глубоким реверансом расправляя обеими руками подвенечное платье, спросила с шаловливой нежностью:
– Отец, вы рады?
– Да, – отвечал Жан Вальжан, – я рад.
– Если так, то улыбнитесь.
Жан Вальжан улыбнулся.
Через несколько секунд Баск доложил, что обед подан.
Вслед за г-ном Жильнорманом, который вел под руку Козетту, приглашенные проследовали в столовую и разместились вокруг стола согласно установленному порядку.
По правую и по левую руку новобрачной стояли два больших кресла: одно – для г-на Жильнормана, другое – для Жана Вальжана. Г-н Жильнорман занял свое место. Второе кресло осталось пустым.
Все искали глазами «господина Фошлевана».
Его не было.
Господин Жильнорман обратился к Баску:
– Ты знаешь, где господин Фошлеван?
– Так точно, сударь, – отвечал Баск. – Господин Фошлеван велел мне передать вашей милости, что у него разболелась рука и он не может отобедать с господином бароном и госпожой баронессой. Он просил извинить его и сказал, что придет завтра утром. Он только сию минуту вышел.
Пустое кресло на миг омрачило веселье свадебного пира. Но если здесь не хватало г-на Фошлевана, зато г-н Жильнорман был налицо, и дед сиял за двоих. Он объявил, что, вероятно, г-ну Фошлевану нездоровится и он поступает благоразумно, ложась спать пораньше, но что рана у него пустячная. Все были успокоены таким объяснением. Да и что значил один темный уголек в таком море веселья? Козетта и Мариус переживали одну из тех блаженных эгоистических минут, когда человек не способен испытывать ничего, кроме счастья. К тому же г-на Жильнормана осенила блестящая мысль. «Черт возьми, зачем креслу пустовать? Пересядь сюда, Мариус. Твоя тетушка разрешит тебе это, хоть и имеет на тебя право. Это кресло как раз для тебя. Это вполне законно и очень мило. Счастливец рядом со счастливицей». Весь стол разразился рукоплесканиями. Мариус занял место Жана Вальжана, рядом с новобрачной, и дело обернулось так, что Козетта, опечаленная было уходом Жана Вальжана, в конце концов оказалась довольна. Козетта не пожалела бы о самом господе боге, если бы его место занял Мариус. Она поставила свою хорошенькую ножку в белой атласной туфельке на ногу Мариуса.
Лишь только кресло было занято, все позабыли о г-не Фошлеване; его отсутствия уже никто не замечал. Не прошло и пяти минут, как весь стол шумел и смеялся, позабыв обо всем.
За десертом г-н Жильнорман встал и, подняв бокал шампанского, который он налил до половины, чтобы не расплескать его своими дрожащими старческими руками, провозгласил тост за здоровье молодых.
– Вам не отвертеться нынче от двух проповедей! – воскликнул он. – Утром вы слушали священника, вечером вам придется выслушать старого деда. Внимание! Я хочу дать вам совет: обожайте друг друга. Я не стану ходить вокруг да около, я перейду прямо к цели – будьте счастливы. Нет в природе никого мудрее, чем влюбленные голубки. Философы учат: «Будьте умеренны в удовольствиях». А я говорю: «Дайте себе волю, бросьте поводья!» Влюбляйтесь, как черти. Будьте безумцами. Философы порют чушь. Я бы заткнул им обратно в глотку всю их философию. Разве может быть в жизни слишком много благоухания, слишком много распустившихся роз, соловьиного пения, зеленых листьев, алой зари? Разве можно любить чрезмерно? Разве можно нравиться друг другу чересчур? Берегись, Эстелла, ты слишком прелестна; берегись, Неморин, ты слишком красив! Что за чепуха! Разве можно знать меру восторгам, очарованиям, ласкам? Разве можно быть слишком живым? Разве можно быть слишком счастливым? «Будьте умеренны в удовольствиях». Благодарю покорно! Долой философов! Ликовать – вот в чем мудрость. Ликуйте же, возликуем же! Счастливы ли мы оттого, что добры, или добры оттого, что счастливы? Почему знаменитый брильянт называется Санси – потому ли, что принадлежал Арле де Санси, или потому, что весит сто шесть каратов?[157] Почем я знаю? Жизнь полным-полна таких проблем; самое важное – это владеть Санси и наслаждаться счастьем. Будем же счастливы, не мудрствуя лукаво. Будем же слепо повиноваться солнцу. Что такое солнце? Это любовь. Кто говорит «любовь», говорит «женщина». Ага, вы хотите знать, что такое всемогущество? Извольте – это женщина. Спросите у нашего демагога Мариуса, не стал ли он рабом маленькой тиранки Козетты. И ведь по собственной охоте, трус эдакий! О женщина! Ни одному Робеспьеру не удержать власти, а женщина царит от века. Я роялист, но признаю отныне только эту королеву. Что такое Адам? Это царство, которым управляла Ева. Для Евы не существует никакого восемьдесят девятого года. Был королевский скипетр, увенчанный лилией, была императорская держава, был железный скипетр Карла Великого, был золотой скипетр Людовика Великого; и революция всех их согнула меж пальцев, как грошовую безделушку; с ними покончено, они сломаны, они валяются на полу, нет больше скипетров. Но попробуйте устроить революцию против кружевного платочка, надушенного пачулями! Хотел бы я посмотреть на это. Ну-ка попытайтесь. Почему он так прочен? Потому что это просто тряпочка. Ах, вы из девятнадцатого века? Ну что ж, а мы из восемнадцатого! И мы были не глупее вас. Не воображайте, будто вы перевернули вселенную, если стали называть наше моровое поветрие холерой, а наш танец бурре – качучей. Что бы там ни было, во все времена придется любить женщин. Бьюсь об заклад, что и вам не уйти от них. Эти бесовки для нас – ангелы. Да, любовь, женщина, поцелуй – это заколдованный круг, откуда, держу пари, не выбраться и вам; что касается меня, я охотно бы туда вернулся. Кто из вас видел, как, смиряя все бури, глядясь в волны, подобно женщине, подымается в бесконечную высь звезда Венера, великая кокетка небесной бездны, Селимена океана? Океан – это суровый Альцест. Ну что же, пусть он брюзжит, сколько хочет, – когда восходит Венера, ему приходится улыбаться. Эта грубая скотина покоряется. Все мы таковы. Гнев, буря, гром и молнии, брызги пены до облаков. Но стоит женщине появиться, стоит звезде взойти – падайте ниц! Полгода назад Мариус сражался; теперь он женится. И хорошо делает. Да, Мариус, да, Козетта, вы правы. Смело живите друг для друга, целуйтесь, милуйтесь, пускай все мы лопнем от зависти, глядя на вас, боготворите друг друга. Подбирайте клювом все соломинки счастья, какие только есть на земле, и свейте из них себе гнездышко на всю жизнь. Любить, быть любимым – ей-ей, это не диво, когда вы молоды! Не воображайте, пожалуйста, будто вы первые все это выдумали. И я тоже грезил, мечтал, вздыхал; и мою душу заливал лунный свет. Любовь – это младенец, которому от роду шесть тысяч лет. Любовь вполне имеет право на длинную седую бороду. Мафусаил молокосос в сравнении с Купидоном. Вот уже шестьдесят веков, как мужчина и женщина выпутываются из беды, любя друг друга. Дьявол лукав, он возненавидел человека; человек еще лукавее – он возлюбил женщину. Это принесло ему больше добра, чем дьявол причинил ему зла. Такая хитрость изобретена еще во времена земного рая. Друзья мои, это старая выдумка, но она вечно нова. Воспользуйтесь ею. Будьте Дафнисом и Хлоей, пока не придет пора стать Филемоном и Бавкидой. Живите так, чтобы, когда вы вдвоем, вам ничего бы не требовалось больше, чтобы Козетта была солнцем для Мариуса, чтобы Мариус был вселенной для Козетты. Козетта, пусть улыбка мужа станет для вас ясным днем; Мариус, пусть ненастьем для тебя станут слезы жены. И пускай никогда в вашей жизни не будет непогоды. Вы ухитрились выудить в жизненной лотерее счастливый билет – любовь, увенчанную браком; вам достался главный выигрыш, берегите же его, как зеницу ока, заприте его на ключ, не транжирьте его, обожайте друг друга и – пошлите к черту все остальное! Верьте моим словам. Это вещает сам здравый смысл. Здравый смысл не может лгать. Молитесь друг на друга. Каждый по-своему поклоняется богу. Разрази меня гром, если не лучший способ чтить бога – это любить свою жену! Я люблю тебя – вот мой катехизис. Кто любит, тот благочестив. В своем любимом ругательстве Генрих Четвертый сочетает святость с кутежом и пьянством. «Свято-пьяное-брюхо!» Я не поклонник такой религии. Здесь забыта женщина. От кого угодно, а уж от Генриха Четвертого я этого не ожидал. Друзья мои, да здравствует женщина! Я старик, если верить людям; но вот что удивительно, я чувствую, что молодею. Я охотно гулял бы по лесам и слушал пастушью свирель. Красота и счастье этих детей опьяняют меня. Я и сам бы не прочь жениться, если бы кто-нибудь пошел за меня. Немыслимо представить себе, что бог сотворил нас для чего-нибудь другого; обожать, наряжаться, ворковать голубком, петь петухом, целоваться и обниматься с утра до ночи, охорашиваться перед своей женкой, гордиться, ликовать, распускать хвост – вот цель жизни. Угодно вам или нет, а вот что мы думали в наше время, когда были молоды. Ух ты, сколько было восхитительных женщин в старину, сколько прелестниц, сколько чудесниц! Я немало произвел опустошений в их сердцах. Итак, любите друг друга. Если не любить друг друга, то я, право, не понимаю, зачем, собственно, наступала бы весна; ну, а что до меня, то я просил бы всемогущего бога забрать назад и запереть в кладовую все прекрасные творения, которыми он нас дразнит: и цветы, и птичек, и хорошеньких девушек. Дети мои, примите благословение старика.
Вечер прошел оживленно, весело, очаровательно. Превосходное настроение деда задавало тон всему празднику; каждый невольно заражался этим почти столетним благодушием. Немножко танцевали, много смеялись; это была благонравная свадьба. На нее смело можно было пригласить Доброе старое время. Впрочем, оно и так присутствовало здесь в лице г-на Жильнормана.
После шума наступила тишина.
Новобрачные скрылись.
Вскоре после полуночи дом Жильнормана обратился в храм.
Здесь мы остановимся. У порога брачной ночи стоит ангел, он улыбается, приложив палец к губам.
Душа предается размышлениям перед святилищем, где свершается торжественное таинство любви.
Над такими домами должно появляться сияние. Сокрытое в них счастье должно проникать сквозь камни стен в виде слабых лучей и пронизывать ночной мрак. Не может быть, чтобы это священное, предопределенное судьбою празднество не излучало бы в бесконечность дивного света. Любовь – это божественный горн, где происходит слияние мужчины и женщины; единое, тройственное, совершенное существо, человеческое триединство выходит из этого горна. Рождение единой души из двух должно вызывать волнение в неведомом. Любовник – это жрец; непорочную деву объемлет сладостный страх. Какая-то доля этой радости воспаряет к богу. Где истинный брак, где любовь, там свет идеала. Брачное ложе во тьме – как луч зари. Если бы смертному взору было дано лицезреть чудесные и грозные видения горнего мира, мы увидели бы, вероятно, как сонмы ночных духов, крылатых незнакомцев, голубых пришельцев из невидимых сфер склоняются над этим светлым домом, умиленные, благословляющие, с отблеском земного блаженства на божественных ликах, указывая один другому на робкую и смущенную девственную супругу. Если бы в этот несравненный час упоенные страстью новобрачные, уверенные, что они наедине, прислушались, они различили бы смутный шелест крыл в своей опочивальне. Истинному блаженству сопричастны ангелы. Вся ширь небес служит сводом этому маленькому темному алькову. Когда уста, освященные любовью, сближаются в животворящем лобзании, не может быть, чтобы этот неизъяснимый поцелуй не отозвался трепетом там, высоко, в таинственных звездных пространствах.
Только такое блаженство истинно. Нет других радостей, кроме этих. Любовь – вот единственное счастье на земле. Все остальное – юдоль слез.
Любить, испытать любовь – этого достаточно. Не требуйте ничего больше. Вам не найти другой жемчужины в темных тайниках жизни. Любовь – это свершение.
Глава 3. Неразлучный.
Куда исчез Жан Вальжан?
Вскоре после того, как он, по ласковому настоянию Козетты, заставил себя улыбнуться, Жан Вальжан поднялся с места и, пользуясь тем, что никто не обращал на него внимания, незаметно вышел в прихожую. Это была та самая комната, в которой он появился восемь месяцев тому назад, весь черный от грязи, крови и пороха, когда принес деду его внука. Старинные стенные панели были увешаны гирляндами листьев и цветов; на диване, куда в тот вечер положили Мариуса, сидели теперь музыканты. Разряженный Баск, во фраке, в коротких штанах, в белых чулках и белых перчатках, украшал каждое блюдо, перед тем как нести к столу, венками из роз. Жан Вальжан, показав ему на свою перевязанную руку, поручил объяснить причину своего ухода и покинул дом.
Несколько минут Жан Вальжан стоял неподвижно в темноте под ярко освещенными окнами столовой, выходившими на улицу. Он прислушивался. До него доносился приглушенный шум свадебного пира. Он различал громкую уверенную речь деда, звуки скрипок, звон тарелок и бокалов, взрывы смеха и среди всего этого веселого гула – нежный, радостный голосок Козетты.
Покинув улицу Сестер страстей господних, он вернулся к себе, на улицу Вооруженного человека.
Он шел туда окольным путем, через улицы Сен-Луи Нива св. Екатерины и Белых мантий; ему пришлось сделать довольно большой крюк, но этой самой дорогой ежедневно, вот уже три месяца, чтобы миновать грязную и многолюдную Старую Тампльскую улицу, он провожал Козетту с улицы Вооруженного человека на улицу Сестер страстей господних.
Этой дорогой ходила Козетта, другого пути он не хотел для себя.
Жан Вальжан возвратился домой. Он зажег свечу и поднялся к себе. Квартира опустела. Там даже не было Тусен. Шаги Жана Вальжана гулко раздавались в пустых комнатах. Все шкафы были распахнуты настежь. Он прошел в спальню Козетты. На кровати не было простынь. Тиковая подушка, без наволочки и кружев, лежала на куче свернутых одеял в ногах ничем не накрытого тюфяка, на котором некому уже было спать. Все милые женские безделушки, которыми так дорожила Козетта, были унесены; оставались лишь тяжелая мебель да голые стены. С кровати Тусен все было снято. Только одна кровать была застлана и, казалось, ждала кого-то: кровать Жана Вальжана.
Жан Вальжан окинул взглядом стены, затворил дверцы шкафов, обошел пустые комнаты.
Наконец он очутился в своей спальне и поставил свечу на стол.
Он давно уже сбросил повязку и свободно двигал правой рукой, как будто она вовсе не болела.
Он подошел к кровати, и глаза его, случайно или намеренно, остановились на «неразлучном», давно вызывавшем ревность Козетты, на маленьком сундучке, который всюду ему сопутствовал. Четвертого июня, переехав на улицу Вооруженного человека, он поставил его на столик у изголовья кровати. Приблизившись к нему с какой-то странной поспешностью, он нащупал в кармане ключ и отпер сундучок.
Медленно стал он вынимать оттуда детские вещи Козетты, в которых десять лет тому назад она уходила из Монфермейля: сначала черное платьице, потом черную косынку, затем славные неуклюжие детские башмачки, которые, пожалуй, и теперь пришлись бы впору Козетте, так мала была ее ножка, потом лифчик из плотной бумазеи, затем вязаную юбку, фартук с кармашками и шерстяные чулки. Чулки, еще хранящие очертания стройной детской ножки, были ничуть не длиннее ладони Жана Вальжана. Все было черного цвета. Он сам принес для нее в Монфермейль эти вещицы. Вынимая из сундучка, он их раскладывал одну за другой на постели. Он думал, он припоминал. Это происходило зимой, в декабре месяце, в жестокую стужу; она озябла и вся дрожала, едва прикрытая лохмотьями, ее бедные ножки в деревянных башмаках покраснели от холода. Он, Жан Вальжан, заставил малютку сбросить рубище и заменить его этим траурным платьем. Ее мать, должно быть, радовалась в могиле, что дочка носит по ней траур и, главное, что она одета, что ей тепло. Он вспомнил Монфермейльский лес; они прошли по нему вместе, Козетта и он; он вспомнил зимнюю непогоду, деревья без листьев, рощи без птиц, небеса без солнца – все равно это было чудесно. Он разложил на кровати эти детские одежды, косынку около юбки, чулки возле башмачков, лифчик рядом с платьем и разглядывал их по очереди. Она была тогда вот такого роста, она прижимала к груди свою большую куклу, она спрятала дареную золотую монету в карман этого самого фартучка, она смеялась; они шли вдвоем, держась за руки, кроме него, у нее не было никого на свете.
И вдруг его седая голова склонилась на постель, старое мужественнее сердце дрогнуло, он зарылся лицом в платьице Козетты, и если бы кто-нибудь проходил по лестнице в эту минуту, он услышал бы ужасные рыдания.
Глава 4. Immortale jecur[158].
[158].Давнишняя жестокая борьба, которую мы уже наблюдали на различных этапах, возобновилась.
Иаков сражался с ангелом одну только ночь. Увы, сколько раз видели мы Жана Вальжана во мраке, один на один против своей совести, изнемогающего в отчаянной борьбе!
Неслыханное единоборство! В иные минуты у него скользила нога, в иные – под ним рушилась земля. Сколько раз в своем ожесточенном стремлении к добру совесть душила его и повергала наземь! Сколько раз безжалостная истина становилась ему коленом на грудь! Сколько раз, сраженный светом познания, он молил о пощаде! Сколько раз этот неумолимый свет, зажженный епископом в нем и вокруг него, озарял его против воли, когда он жаждал остаться слепым! Сколько раз в этом бою он выпрямлялся, удерживаясь за скалу, хватаясь за софизм, попирая ногами свою совесть, сколько раз влачился во прахе, сам поверженный ею наземь! Сколько раз, после какой-нибудь хитрой уловки, после вероломного и лицемерного довода, подсказанного эгоизмом, он слышал над ухом голос разгневанной совести: «Это нечестный прием, негодяй!» Сколько раз его непокорная мысль хрипела в судорогах под пятой непререкаемого долга! То было сопротивление богу! То был предсмертный пот! Как много тайных ран, известных ему одному, все еще кровоточило! Как много шрамов и рубцов в его страдальческой жизни! Как часто поднимался он, весь окровавленный, изнемогающий, разбитый и просветленный, с отчаянием в сердце, но с ясным духом. И, побежденный, он сознавал себя победителем. Свалив его с ног, растерзав и сломив, стоявшая над ним совесть, грозная, лучезарная, удовлетворенная, говорила: «Теперь иди с миром!».
Но увы! Какой унылый мир наступал после такой смертельной борьбы!
Жан Вальжан чувствовал, однако, что этой ночью ему предстоит выдержать последний бой.
Перед ним вставал мучительный вопрос.
Предопределения судьбы не всегда ведут человека прямой дорогой; они не простираются ровной, никуда не отклоняющейся стезей перед тем, кому предназначены; там встречаются тупики, закоулки, темные повороты, зловещие перекрестки, откуда разбегается много тропинок. Жан Вальжан стоял теперь на самом опасном из этих перекрестков.
Он стоял у последнего рубежа, у пересечения путей добра и зла. Его глазам открывалось роковое перепутье. И вновь, как уже бывало с ним при иных тягостных обстоятельствах, впереди расстилались две дороги: одна искушала его, другая пугала. Какую же избрать?
На ту, что пугала, посылал его таинственный указующий перст, который является нам всякий раз, когда мы устремляем глаза в неведомое.
Жану Вальжану снова предстоял выбор между страшной гаванью и манящей ловушкой.
Значит, это правда: исцелить душу можно, изменить судьбу – никогда. Ужасная вещь – неотвратимость судьбы!
Вопрос, возникший перед ним, заключался в следующем:
Как отнесется он, Жан Вальжан, к счастью Козетты и Мариуса? Он сам хотел для них этого счастья, он сам его добился; он сам добровольно пронзил себе сердце этим счастьем и теперь, созерцая дело рук своих, мог испытывать некое удовлетворение, подобно оружейнику, который узнал бы свое клеймо на кинжале, вынимая его, еще дымящимся кровью, из своей груди.
У Козетты был Мариус, Мариус обладал Козеттой. У них было все, даже богатство. И все это создано им одним.
Но что делать с этим счастьем ему, Жану Вальжану, теперь, когда оно достигнуто, когда оно осуществилось? Наложит ли он руку на это счастье? Распорядится ли им, как своею собственностью? Разумеется, Козетта принадлежала другому; но удержит ли за собой он, Жан Вальжан, все, что мог бы удержать? Останется ли он чем-то вроде отца, посещаемого изредка, но чтимого, каким он был до сих пор? Или он спокойно поселится в доме у Козетты? Сложит ли он молча свое прошлое к ногам их будущего? Войдет ли он туда как имеющий на это право и осмелится ли сесть, не снимая маски, у их яркого очага? Будет ли сжимать, улыбаясь, их невинные руки в своих руках обреченного? Поставит ли на решетку у огня в мирной гостиной Жильнормана свои ноги, за которыми тянется позорная тень кандалов? Разделит ли он счастливую судьбу Мариуса и Козетты? Не сгустится ли мрак над его челом, не нависнет ли тень над их головами? Добавит ли он, как третью часть к их счастливой доле, свой горький удел? Станет ли молчать, как прежде? Словом, будет ли играть возле этих счастливцев зловещую, немую роль судьбы?
Надо привыкнуть к злому року, к его превратностям, чтобы не потупить глаза, когда иные вопросы являются нам в своей страшной наготе. Добро или зло скрывается за суровым вопросительным знаком? «Как ты поступишь?» – спрашивает сфинкс.
Такой привычкой к испытаниям Жан Вальжан обладал. Он смотрел сфинксу прямо в глаза.
Он изучал со всех сторон неразрешимую загадку.
Козетта, это прелестное существо, была спасательным кругом для потерпевшего крушение. Что делать? Ухватиться за него или выпустить из рук?
Ухватившись, он избежал бы гибели, он всплыл бы из пучины наверх, к солнцу, с его одежды и с волос стекла бы горькая морская вода. Он был бы спасен, он остался бы жить.
Выпустить из рук?
Тогда – бездна.
Так, в страданиях и муках, держал он совет со своей совестью. Вернее сказать, боролся сам с собой; он яростно ополчался то на свою волю к жизни, то на свои убеждения.
Для Жана Вальжана было счастьем, что он мог плакать. Это, быть может, прояснило его душу. Однако начало было нечеловечески трудным. Буря, гораздо свирепее той, что когда-то гнала его к Аррасу, разразилась в нем. Рядом с настоящим вставало прошлое; он сравнивал и горько плакал. Дав волю слезам и отчаянию, он изнемогал от рыданий.
Он чувствовал, что дошел до предела.
Увы, в смертельной схватке между эгоизмом и долгом, когда мы отступаем шаг за шагом перед нашим нерушимым идеалом, растерянные, ожесточенные, с бешенством сдавая позиции, отстаивая каждый клочок земли, надеясь на возможность бегства, ища выхода, – какой внезапной и зловещей преградой вырастает позади нас стена!
Чувствовать, что вам отрезала отступление священная тень!
Нечто невидимое, но неумолимое – какое наваждение!
Итак, совесть не усмирить. Решайся же, Брут! Решайся, Катон! Она бездонна, ибо она – бог. Мы бросаем в этот колодезь труды целой жизни, бросаем карьеру, богатство, славу, бросаем свободу или родину, бросаем здоровье, бросаем покой, бросаем счастье. Еще, еще, еще! Выливайте сосуд! Наклоняйте урну! В конце концов мы кидаем туда свое сердце.
Где-то во мгле древней преисподней существует такая же бездонная бочка.
Разве не простительно отказаться, наконец, от жертв? Разве неисчерпаемое может предъявлять права? Разве неизбывное бремя не превышает сил человеческих? Кто осмелится осудить Сизифа и Жана Вальжана, если они скажут: «Довольно!».
Покорность материи ограничена трением; неужели покорность души не имеет границ? Если невозможно вечное движение, разве можно требовать вечного самоотвержения?
Сделать первый шаг ничего не стоит: лишь последний шаг труден. Что значило дело Шанматье в сравнении с замужеством Козетты и с тем, что оно влекло за собой? Что значила угроза идти на каторгу в сравнении с нынешней – уйти в небытие?
О первая ступень, ведущая вниз, – какая серая мгла! О вторая ступень – какой черный мрак! Как не отпрянуть назад?
Мученичество возвышает душу, разъедая ее. Это пытка, это помазание на царство. Человек может согласиться на нее в первую минуту; он восходит на трон каленого железа, он надевает венец каленого железа, принимает державу каленого железа, берет в руки скипетр каленого железа, но ему предстоит еще облачиться в огненную мантию, – и неужели в этот миг не взбунтуется немощная плоть и он не отречется от мученического венца?
Наконец Жан Вальжан обрел покой крайнего изнеможения.
Он взвесил, обсудил, обдумал все возможности равновесия на таинственных весах света и тени.
Возложить бремя каторжника на плечи этих двух цветущих детей или завершить самому свою неминуемую гибель? В одном случае он принесет в жертву Козетту, в другом – самого себя.
На каком решении он остановился? К какому выводу пришел? Каков был его внутренний окончательный ответ на беспристрастном допросе судьбы? Какую дверь он решился отворить? Какую половину своей жизни отвергнуть и запереть за ключ? На какой из обступавших его головокружительных круч он остановил свой выбор? Какую крайность избрал? Перед которой из этих бездн склонил голову?
Его мучительное раздумье продолжалось всю ночь.
Он оставался так до утра, в том же положении, на коленях, упав ничком на кровать, сломленный непомерной тяжестью судьбы, – увы, раздавленный, быть может! – судорожно сжав кулаки, широко раскинув руки, точно распятый, которого сняли с креста и бросили наземь лицом вниз. Двенадцать часов, двенадцать часов долгой зимней ночи пролежал он, окоченевший, не подымая головы, не произнося ни слова. Он был недвижим, словно труп, пока его мысль то змеей влачилась по земле, то взлетала в небо, подобно орлу. Видя это неподвижное тело, можно было принять его за мертвого; но вдруг по нему пробегала дрожь, и, припав к платьицам Козетты, он начинал покрывать их поцелуями; тогда было видно, что он жив.
Кто это видел? Кто? Если Жан Вальжан оставался один в комнате и рядом никого не было?
Тот, кто не дремлет во мраке.
Книга седьмая. Последний глоток из чаши страданий.
Глава 1. Седьмой круг и восьмое небо.
День, следующий за свадьбой, овеян тишиной. Люди уважают покой упоенных друг другом счастливцев так же, как позднее их пробуждение. Шумные поздравления и визиты начинаются позже. Было уже за полдень, когда Баск, в утро 17 февраля, с пыльной тряпкой и метелкой под мышкой, занятый тем, что «убирался в своей прихожей», вдруг услышал тихий стук в дверь. Звонком, видимо, воспользоваться не пожелали, и эта скромность была вполне уместной в подобный день. Баск отпер дверь и увидел г-на Фошлевана. Он проводил его в гостиную, где еще царил беспорядок и все было вверх дном; она казалась полем битвы вчерашних радостей и веселья.
– Сами понимаете, сударь, мы нынче проснулись поздно, – заметил Баск.
– Ваш хозяин уже встал? – спросил Жан Вальжан.
– Как ваша рука, сударь? – вместо ответа спросил Баск.
– Лучше. Ваш хозяин встал?
– Который? Старый или молодой?
– Господин Понмерси.
– Господин барон? – переспросил Баск, приосанившись.
Титул барона имеет особенный вес в глазах его слуг. От него словно что-то перепадает и им; философ сказал бы: «брызги его величия», и это им лестно. Заметим мимоходом, что Мариус, воинствующий республиканец, как он это доказал на деле, теперь против своей воли стал бароном. Этот титул послужил причиной небольшой революции в доме. Именно г-н Жильнорман настаивал теперь на титуле, и не кто иной, как Мариус, отказывался от него. Но полковник Понмерси написал: «Мой сын наследует мой титул». И Мариус повиновался. Кроме того, Козетта, в которой начала пробуждаться женщина, была в восторге от того, что стала баронессой.
– Господин барон? – повторил Баск. – Я сейчас посмотрю. Я скажу, что господин Фошлеван желает видеть его.
– Нет, не говорите ему, что это я. Скажите, что кто-то хочет поговорить с ним с глазу на глаз, но не называйте имени.
– А! – протянул Баск.
– Я хочу сделать ему сюрприз.
– А! – повторил Баск, произнеся это второе «а!» так, словно объявил самому себе первое.
И он вышел.
Жан Вальжан остался один.
В гостиной, как мы только что упомянули, был страшный беспорядок. Казалось, если внимательно прислушаться, еще можно было уловить смутный шум свадебного празднества. На паркете валялись всевозможные цветы, выпавшие из гирлянд и дамских причесок. Догоревшие почти до конца свечи разукрасили сталактитами оплывшего воска подвески люстр. Ни один стул не стоял на своем месте. По углам, сдвинутые в кружок, три-четыре кресла словно продолжали непринужденную беседу. Все здесь дышало весельем. В отшумевшем празднике еще сохраняется какое-то очарование. Здесь гостило счастье. На этих стульях, разбросанных как попало, среди увядающих цветов, среди угасших огней думали только о радости. Солнце заступило место люстры и заливало гостиную веселым светом.
Прошло несколько минут. Жан Вальжан стоял неподвижно на том же месте, где его оставил Баск. Он был очень бледен. Его потускневшие глаза так глубоко запали от бессонницы, что почти исчезали в орбитах. Складки измятого черного сюртука указывали на то, что его не снимали на ночь. Локти побелели от пушка, который оставляет на сукне прикосновение полотна. Жан Вальжан смотрел на лежавший у его ног рисунок окна, отброшенный солнцем.
У дверей послышался шум; он поднял глаза.
Вошел гордый, улыбающийся Мариус, с радостным лицом, озаренным сиянием, с торжествующим взором. Он тоже не спал эту ночь.
– Ах, это вы, отец! – воскликнул он, увидев Жана Вальжана. – А дурачина Баск напустил на себя такой таинственный вид! Но вы пришли слишком рано. Сейчас только половина первого. Козетта спит.
Слово «отец», обращенное Мариусом к г-ну Фошлевану, обозначало высочайшее блаженство. Между ними, как известно, всегда стояла стеной какая-то холодность и принужденность; этот лед надо было или сломать, или растопить. Мариус был до такой степени опьянен счастьем, что стена между ними рухнула сама собой, лед растаял, и г-н Фошлеван стал ему таким же отцом, как Козетте.
Он снова заговорил; слова хлынули потоком из его уст, как это свойственно человеку, охваченному божественным порывом радости.
– Как я рад вас видеть! Если бы знали, как нам недоставало вас вчера! Добрый день, отец! Как ваша рука? Лучше, не правда ли?
И, удовлетворившись своим благоприятным ответом на свой же вопрос, он продолжал:
– Как много мы с Козеттой о вас говорили. Козетта так любит вас! Не забудьте, что вам приготовлена комната. Мы больше знать не хотим об улице Вооруженного человека. Мы и слышать о ней не желаем. Как могли вы поселиться на этой улице, она такая неприветливая, некрасивая, холодная, вредная для здоровья, вся загороженная, туда и не пройдешь. Переезжайте к нам. И сегодня же. Иначе вам придется иметь дело с Козеттой. Она намерена командовать всеми нами, предупреждаю вас. Вы уже видели вашу комнату, она почти рядом с нашей, и ее окна выходят в сад; дверной замок там починили, постель приготовили, вам остается только перебраться. Козетта поставила возле вашей кровати большое старинное кресло, обитое утрехтским бархатом, и приказала этому креслу: «Раскрой ему объятия». В чащу акаций, против ваших окон, каждую весну прилетает соловей. Через два месяца вы его услышите. Его гнездышко будет налево от вас, а наше – направо. Ночью будет петь соловей, а днем будет щебетать Козетта. Ваша комната выходит прямо на юг. Козетта расставит в ней ваши книги, путешествия капитана Кука и путешествия Ванкувера, все ваши вещи. Есть у вас, кажется, маленький сундучок, которым вы особенно дорожите, я наметил там для него почетное место. Вы покорили моего деда, вы очень ему подходите. Мы будем жить все вместе. Вы умеете играть в вист? Если умеете, вы доставите моему деду огромное удовольствие. Вы будете гулять с Козеттой в дни моих судебных заседаний, будете водить ее под руку, как в былое время в Люксембургском саду, помните? Мы твердо решили быть очень счастливыми. И вы тоже, отец, будете счастливы нашим счастьем. Да, ведь вы завтракаете с нами сегодня?
– Сударь, – сказал Жан Вальжан, – мне надо сообщить вам кое-что. Я – бывший каторжник.
Для звуков существует предел резкости, за которым их не воспринимает не только слух, но и разум. Эти слова: «Я – бывший каторжник», слетевшие с губ г-на Фошлевана и коснувшиеся уха Мариуса, выходили за границы возможного. Мариус не расслышал их. Ему показалось, будто ему что-то сказали, но что именно, он не знал. Он был в сильнейшем недоумении.
Тут только он увидел, что говоривший с ним человек был страшен. Поглощенный своим счастьем, он до этой минуты не замечал его ужасающей бледности.
Жан Вальжан снял черную повязку с правого локтя, размотал полотняный лоскут, обернутый вокруг руки, высвободил большой палец и показал его Мариусу.
– С моей рукой ничего не случилось, – сказал он.
Мариус взглянул на его палец.
– И никогда не случалось, – добавил Жан Вальжан. Действительно, на пальце не было ни малейшей царапины.
Жан Вальжан продолжал:
– Мне не следовало присутствовать на вашей свадьбе. Я, как сумел, постарался избежать этого. Я выдумал эту рану, чтобы не быть вынужденным совершить подлог, чтобы не дать повода объявить недействительным свадебный контракт, чтобы его не подписывать.
Мариус спросил запинаясь:
– Что это значит?
– Это значит, – ответил Жан Вальжан, – что я был на каторге.
– Вы сводите меня с ума! – в испуге вскричал Мариус.
– Господин Понмерси, – сказал Жан Вальжан, – я провел на каторге девятнадцать лет. За воровство. Затем я был приговорен к ней пожизненно. За повторное воровство. В настоящее время я укрываюсь от полиции.
Напрасно Мариус пытался отступить перед действительностью, не поверить факту, воспротивиться очевидности, – он вынужден был сложить оружие. Он начал понимать, и, как всегда бывает в подобных случаях, он понял и то, чего сказано не было. Он вздрогнул от внезапно озарившей его страшной догадки; его мозг пронзила мысль, заставившая его содрогнуться. Он словно проник взором в будущее и узрел там свою безотрадную участь.
– Говорите все! Говорите все! – крикнул он. – Вы отец Козетты?
И, полный невыразимого ужаса, он отшатнулся.
Жан Вальжан выпрямился с таким величественным видом, что, казалось, стал выше на голову.
– Необходимо, чтобы вы мне поверили, сударь; и хотя нашу клятву, – клятву таких, как я, – правосудие не признает…
Он помолчал, потом добавил медленно, с какою-то властной мрачной силой, подчеркивая каждый слог:
– …Вы мне поверите. Я не отец Козетты! Видит бог, нет! Господин Понмерси, я крестьянин из Фавероля. Я зарабатывал на жизнь подрезкой деревьев. Меня зовут не Фошлеван, а Жан Вальжан. Я для Козетты – никто. Успокойтесь.
Мариус пробормотал:
– Кто мне докажет?
– Я. Мое слово.
Мариус взглянул на этого человека. Тот был мрачен и спокоен. Подобное спокойствие не совместимо ни с какой ложью. То, что обратилось в лед, – правдиво. В этом могильном холоде чувствовалась истина.
– Я вам верю, – сказал Мариус.
Жан Вальжан наклонил голову, как бы принимая это к сведению, и продолжал:
– Что я для Козетты? Прохожий. Десять лет тому назад я не знал, что она живет на свете. Я люблю ее, это верно. Как не любить дитя, которое знал с малых его лет, в годы, когда сам уже был стариком? Когда стар, чувствуешь себя дедушкой всех малышей. Мне думается, вы можете допустить, что есть и у меня что-то похожее на сердце. Она была сироткой. Без отца, без матери. Она нуждалась во мне. Вот почему я полюбил ее. Они так беспомощны, маленькие дети, что первый встречный, даже такой человек, как я, может стать их покровителем. И я взял на себя эту обязанность в отношении Козетты. Не думаю, чтобы такую малость можно было всерьез назвать добрым делом, но если это действительно доброе дело, так и быть, считайте, что я его совершил. Отметьте это как смягчающее обстоятельство. Сегодня Козетта уходит из моей жизни; наши пути разошлись. Отныне я бессилен что-либо для нее сделать. Она – баронесса Понмерси. У нее теперь другой ангел-хранитель. И Козетта выиграла от этой перемены. Все к лучшему. А эти шестьсот тысяч франков, – хоть вы не говорите о них, но я предвижу ваш вопрос, – были мне отданы только на хранение. Каким образом очутились они в моих руках, спросите вы? Не все ли равно? Я отдаю то, что было мне поручено сохранить. А больше не о чем меня спрашивать. Я выполнил свой долг до конца, открыв вам мое настоящее имя. Но это уже касается лишь меня одного. Мне очень важно, чтобы вы знали, кто я такой.
И Жан Вальжан взглянул прямо в лицо Мариусу. Чувства, испытываемые Мариусом, были смутны и беспорядочны.
Удары судьбы, подобно порывам ветра, вздымающим водяные валы, порождают в нашей душе бурное волнение.
У каждого из нас бывают минуты глубокой тревоги, когда нами владеет полная растерянность; мы говорим первое, что приходит на ум, и часто совсем не то, что нужно сказать. Существуют внезапные откровения, невыносимые для человека и одурманивающие, словно отравленное вино. Мариус настолько был ошеломлен, что стал говорить с Жаном Вальжаном так, будто был раздосадован его признанием.
– Не понимаю, – воскликнул он, – зачем вы мне говорите все это? Кто вас принуждает? Вы могли бы хранить вашу тайну. Вас никто не выдает, не преследует, не травит. Чтобы добровольно сделать такое признание, у вас должна быть причина. Говорите до конца. Здесь кроется что-то другое. С какой целью вы разоблачаете себя? По какой причине?
– По какой причине? – проговорил Жан Вальжан таким тихим и глухим голосом, словно обращался к самому себе, а не к Мариусу. – В самом деле, по какой причине каторжнику вздумалось вдруг сказать: «Я каторжник»? Так и быть, отвечу. Да, причина есть, и странная. Я сделал это из честности. Послушайте, вот в чем несчастье: я на прочном поводу у своего сердца. Когда человек стар, эти узы особенно крепки. Все живое вокруг разрушается, а они не поддаются. Если бы я мог разорвать их, уничтожить, развязать этот узел или разрезать его и уйти далеко-далеко, я был бы спасен, мне оставалось бы только уехать, – в любом дилижансе с улицы Блуа; вы счастливы, и я могу уйти. Но я пытался оборвать эти узы, я тянул как только мог; они держались крепко, они не поддавались, вместе с ними я вырвал бы свое сердце. Тогда я сказал себе: «Я не могу жить в ином месте. Я должен остаться здесь». Вы правы, конечно. Да, я глупец. Почему бы мне не остаться просто так, без объяснений? Вы предлагаете мне комнату в вашем доме, госпожа Понмерси очень меня любит, она даже сказала тому креслу: «Раскрой ему объятия», ваш дед охотно примет меня, мое общество подходит ему, мы будем жить все вместе, обедать вместе, я буду водить под руку Козетту… госпожу Понмерси, – простите, я оговорился по привычке, – мы будем жить под одной кровлей, сидеть за одним столом, под одной лампой, греться у одного камина зимой, гулять вместе летом. Это такая радость, такое счастье, выше всего! Мы жили бы семьей. Одной семьей!
При этих словах Жан Вальжан стал страшен. Скрестив на груди руки, он устремил глаза вниз с таким видом, словно желал вырыть у своих ног бездну; голос его стал вдруг громовым.
– Одной семьей! – вскричал он. – Нет! У меня нет никакой семьи. Я не принадлежу и к вашей. Ни к одной человеческой семье. В домах, где живут люди, близкие меж собой, я лишний. Есть на свете семьи, но не для меня. Я несчастливец, я выброшен за борт. Были у меня отец и мать? Я почти сомневаюсь в этом. В тот день, когда я выдал замуж эту девочку, для меня все было кончено. Я видел, что она счастлива, что она с человеком, которого любит, что есть при них добрый дед, есть дом, полный радости, приют двух ангелов, что все хорошо. И я сказал себе: «Не смей входить туда». Я мог солгать, это верно, я мог обмануть всех вас и остаться господином Фошлеваном. Пока это нужно было для нее, я лгал; но сейчас, ради самого себя, я не должен этого делать. Правда, мне достаточно было лишь промолчать, и все шло бы по-прежнему. Вы спрашиваете, что же принуждает меня говорить? Сущая безделица – моя совесть. Ведь промолчать было бы так просто. Я всю ночь старался убедить себя в этом; вы требуете от меня исповеди, и вы имеете на это право, настолько необычно то, что я сказал вам сейчас; ну да, я всю ночь приводил себе всякие доводы, самые веские доводы; поистине я сделал все, что было в моих силах. Но вот чего я преодолеть не мог: я не сумел разорвать ту нить, которая держит мое сердце привязанным, прикованным, припаянным к этому месту, и я не мог заставить молчать того, кто тихо беседует со мною, когда я один. Вот почему сегодня утром я пришел к вам сознаться во всем. Во всем или почти во всем. О том, что касается лишь одного меня, говорить не стоит: это я оставляю про себя. Основное вы знаете. Так вот, я взял свою тайну и принес ее вам. Я вскрыл ее на ваших глазах. Нелегко было принять это решение. Я боролся всю ночь. Ах, вы думаете, я не убеждал себя, что здесь положение другое, чем в деле Шанматье, что теперь, скрывая свое имя, я никому не приношу зла, что имя Фошлевана дано было мне самим Фошлеваном в благодарность за оказанную услугу, и я вполне мог бы оставить его за собой, что я буду счастлив в комнатке, которую вы мне предлагаете, что я никого не стесню, что буду жить в своем уголке и что, хотя Козетта и принадлежит вам, мне все же будет утешением жить в одном доме с нею. У каждого из нас была бы своя доля счастья. По-прежнему называться господином Фошлеваном – и все было бы в порядке. Все, но не моя душа. Отовсюду на меня изливалась бы радость, а в глубине моей души царила бы черная ночь. Недостаточно быть счастливым, надо быть в мире с самим собой. Теперь вообразите, что я остался господином Фошлеваном, стало быть, скрыл истинное свое лицо, стало быть, рядом с вашим расцветшим счастьем я хранил бы тайну, среди бела дня носил бы в себе тьму; стало быть, не предупреждая вас, я просто-напросто привел бы каторгу к вашему очагу и уселся за ваш стол с мыслью, что, знай вы, кто я такой, вы прогнали бы меня прочь; я позволил бы прислуживать себе вашим людям, которые, знай они все, вскрикнули бы: «Какой ужас!» Мне случалось бы коснуться вас локтем, что по праву должно вызвать в вас брезгливость, я воровал бы ваши рукопожатия! В вашем доме пришлось бы делить уважение между почтенными сединами и сединами опозоренными; в часы, когда все сердца, казалось бы, открыты друг для друга, в часы сердечной близости, когда мы будем вместе все четверо, ваш дед, вы, Козетта и я, – здесь бы присутствовал неизвестный! И единственной моей заботой в этой жизни бок о бок с вами было бы не давать никогда сдвинуться крышке этого страшного колодца. Так я, мертвец, навязал бы себя вам, живым. А ее, Козетту, приковал бы к себе навеки. Вы, она и я представляли бы собою три головы под зеленым колпаком каторжника! И вы не содрогаетесь? Сейчас я только несчастнейший из людей, а тогда был бы самым гнусным из них. И это преступление я совершал бы всякий день! И эту ложь я повторял бы всякий день! И этой черной маской скрывал бы мое лицо всякий день! И я делал бы вас участниками моего позора всякий день! Всякий день! Вас, моих любимых, вас, моих детей, моих невинных ангелов! Молчать легко? Таиться просто? Нет, не просто. Есть молчание, которое лжет. И мою ложь, и мой обман, низость, трусость, вероломство, преступление я испил бы каплю за каплей, я выплюнул бы их и снова пил, кончал бы в полночь и вновь начинал в полдень, и я лгал бы, говоря: «С добрым утром», и говоря: «Спокойной ночи», и этой ложью я накрывался бы вместо одеяла, ложась спать, и ел бы с нею свой хлеб, и смотрел бы Козетте в лицо, и отвечал бы улыбкой дьявола на улыбку ангела, – я был бы низким негодяем! И ради чего? Чтобы быть счастливым. Мне быть счастливым! Разве имею я право на это? Я выброшен из жизни, сударь!
Жан Вальжан остановился. Мариус молчал. Подобные излияния, где мысли дышат сердечной мукой, прервать невозможно. Жан Вальжан снова понизил голос, но он звучал теперь уже не глухо, а зловеще.
– Вы спрашиваете, зачем я говорю? Меня никто не выдает, не преследует, не травит, сказали вы. Напротив! Меня выдают, меня преследуют, меня травят! Кто? Я сам. Я сам преграждаю себе дорогу, я сам тащу себя, толкаю, арестую, казню; а когда попадешь самому себе в руки, из них нелегко вырваться.
И, крепко схватив себя за воротник, он продолжал, обернувшись к Мариусу:
– Поглядите-ка на этот кулак. Не находите ли вы, что он держит воротник так крепко, как будто впился в него навеки? Ну вот, у совести такая же мертвая хватка. Если желаете быть счастливым, сударь, никогда не пытайтесь уразуметь, что такое долг, ибо стоит лишь понять это, как он становится неумолимым. Он словно карает вас за то, что вы постигли его. Но нет, он же и вознаграждает вас, ибо в аду, куда он вас ввергает, вы чувствуете рядом с собой бога. Пока не истерзаешь всю свою душу, не будешь в мире с самим собой.
И с мучительным, скорбным выражением он добавил:
– Господин Понмерси, хотя это и противоречит здравому смыслу, но я – честный человек. Именно потому, что я падаю в ваших глазах, я возвышаюсь в своих собственных. Это случилось уже со мною однажды, но тогда мне не было так больно; тогда это были пустяки. Да, я честный человек. Я не был бы им, если бы по моей вине вы продолжали меня уважать; теперь же, когда вы презираете меня, я остаюсь честным. Надо мной тяготеет рок: я могу пользоваться лишь незаконно присвоенным уважением, которое меня внутренне унижает и тяготит, а для того чтобы я мог уважать себя, надо, чтобы другие презирали меня. Тогда я держу голову высоко. Я – каторжник, но я повинуюсь своей совести. Я отлично знаю, что это кажется мало правдоподобным. Но что поделать, если это так? Я заключил с собою договор, и я выполняю его. Есть встречи, которые ко многому обязывают, есть случайности, которые призывают нас к исполнению долга. Видите ли, господин Понмерси, мне многое пришлось испытать в жизни.
Жан Вальжан снова помолчал и, с усилием проглотив слюну, словно в ней оставался горький привкус его слов, продолжал:
– Если человек отмечен клеймом позора, он не вправе принуждать других делить его с ним без их ведома, он не вправе заражать их чумой, он не вправе незаметно увлекать их в пропасть, куда упал сам, он не вправе накидывать на них свою арестантскую куртку, он не вправе омрачать счастье ближнего своим несчастьем. Приблизиться к тем, кто цветет здоровьем, коснуться их во мраке тайной своей язвой – это гнусно. Пусть Фошлеван ссудил меня своим именем, я не имею права им воспользоваться; он мог мне его дать, но я не смею носить его. Имя – это человеческое «я». Видите ли, сударь, хоть я и крестьянин, я кое о чем размышлял, кое-что читал; как видите, я умею приличным образом выражать свои мысли. Я отдаю себе отчет во всем. Я сам воспитал себя. Так вот, похитить имя и укрыться под ним – бесчестно. Ведь буквы алфавита могут быть присвоены таким же мошенническим способом, как кошелек или часы. Быть подложной подписью из плоти и крови, быть отмычкой к дверям честных людей, обманом войти в их жизнь, не смотреть прямо в лицо, вечно отводить глаза в сторону, чувствовать себя подлецом, нет, нет, нет, нет! Лучше страдать, истекать кровью, рыдать, раздирать лицо ногтями, по ночам не находить себе места в смертельной тоске, терзать свое тело и душу! Вот почему я рассказал вам все это. Добровольно, как выразились вы.
Он тяжело вздохнул и закончил:
– Когда-то, чтобы жить, я украл хлеб; теперь, чтобы жить, я не желаю красть имя.
– Чтобы жить? – прервал Мариус. – Вам не нужно это имя, чтобы жить.
– Ах, я знаю, что говорю! – ответил Жан Вальжан, медленно покачивая головой.
Наступила тишина. Оба молчали, погрузившись каждый в глубокое, тяжкое раздумье. Мариус сидел у стола, подперев голову рукой и приложив согнутый палец к уголку рта. Жан Вальжан ходил по комнате. Задержавшись перед зеркалом, он постоял неподвижно, затем, как бы отвечая на собственное безмолвное возражение, сказал, вперив в зеркало невидящий взгляд:
– Зато теперь я облегчил свое сердце!
Он снова стал ходить и направился в другой конец комнаты. В ту минуту, как он поворачивал обратно, он заметил, что Мариус провожает его взглядом. Тогда он произнес с каким-то особенным выражением:
– Я немного волочу ногу. Теперь вам понятно почему.
И, обернувшись лицом к Мариусу, продолжал:
– А теперь, сударь, вообразите себе вот что: я ничего не сказал, я остался господином Фошлеваном, я занял место среди вас, стал своим, я живу в моей комнате, выхожу к завтраку в домашних туфлях, вечером мы втроем идем в театр, я провожаю госпожу Понмерси в Тюильри или в сквер на Королевской площади, мы постоянно вместе, вы считаете меня человеком вашего круга; и в один прекрасный день мы беседуем, мы смеемся, я здесь, вы – вон там, и вдруг вы слышите голос, громко произносящий: «Жан Вальжан!» И вот тянется из мрака страшная рука, рука полиции, и внезапно срывает с меня маску.
Он снова замолчал. Мариус, вздрогнув от ужаса, поднялся с места. Жан Вальжан спросил:
– Что вы на это скажете?
Молчание Мариуса было ответом. Жан Вальжан продолжал:
– Вы отлично видите, что я прав, не пожелав молчать. Послушайте, будьте счастливы, возноситесь в небеса, будьте ангелом-хранителем для другого ангела, купайтесь в солнечном сиянии и довольствуйтесь этим. Что вам до того, каким именно способом бедный грешник вскрывает себе грудь, чтобы выполнить свой долг; пред вами несчастный человек, сударь.
Мариус медленно пересек гостиную и, очутившись возле Жана Вальжана, протянул ему руку.
Но Мариусу пришлось самому взять его руку – она не поднялась ему навстречу. Жан Вальжан не противился, и Мариусу показалось, что он пожал каменную десницу.
– У моего деда есть друзья, – сказал Мариус, – я добьюсь для вас помилования.
– Поздно, – возразил Жан Вальжан. – Меня считают умершим, этого достаточно. Мертвецы не подвластны полицейскому надзору. Им предоставляют мирно гнить в могиле. Смерть – это то же, что помилование.
И, высвободив свою руку из пальцев Мариуса, он присовокупил с каким-то непоколебимым достоинством:
– К тому же и у меня есть друг, к чьей помощи я прибегаю, – это выполнение долга; и лишь в одном помиловании я нуждаюсь, – в том, какое может даровать мне моя совесть.
В это время на другом конце гостиной тихонько приотворилась дверь, и между ее полуоткрытых створок показалась головка Козетты. Видно было только ее милое лицо; волосы ее рассыпались в очаровательном беспорядке, веки слегка припухли от сна. Словно птичка, высунувшая головку из гнезда, она окинула взглядом мужа, потом Жана Вальжана и крикнула, смеясь, – казалось, роза расцвела улыбкой:
– Держу пари, что вы говорите о политике. Как глупо этим заниматься, вместо того чтобы быть со мной!
Жан Вальжан вздрогнул.
– Козетта!.. – пролепетал Мариус. И замолк.
Могло показаться, что оба они в чем-то виноваты. Козетта, сияя от удовольствия, продолжала глядеть на обоих. В глазах ее словно играли отсветы рая.
– Я поймала вас на месте преступления, – заявила Козетта. – Я только что слышала за дверью, как отец мой Фошлеван говорил: «Совесть… Выполнить свой долг», – это о политике, ведь так? Я не хочу. Нельзя говорить о политике сразу, на другой же день. Это несправедливо.
– Ты ошибаешься, Козетта, – возразил Мариус. – У нас деловой разговор. Мы говорим о том, как выгоднее поместить твои шестьсот тысяч франков…
– Не в этом дело, – перебила его Козетта. – Я пришла. Хотят меня здесь видеть?
И, решительно шагнув вперед, она вошла в гостиную. На ней был широкий белый пеньюар с длинными рукавами, спадающий множеством складок от шеи до пят. На золотых небесах старинных средневековых картин можно увидеть эти восхитительные хламиды, окутывающие ангелов.
Она оглядела себя с головы до ног в большом зеркале и воскликнула в порыве невыразимого восторга:
– Жили на свете король и королева! О, как я рада! – Вслед за тем она сделала реверанс Мариусу и Жану Вальжану.
– Ну вот, – сказала она, – теперь я пристроюсь возле вас в кресле, завтрак через полчаса, вы будете разговаривать о чем хотите; я ведь знаю, мужчинам надо поговорить, и я буду сидеть смирно.
Мариус взял ее за руку и сказал влюбленным голосом:
– У нас деловой разговор.
– Знаете, – заметила Козетта, – я растворила окно, сейчас в наш сад налетела туча смешных крикунов. Не карнавальных, а просто воробьев. Сегодня уже покаянная среда, а у них все еще Масленица.
– Говорю тебе, малютка моя, Козетта, что мы беседуем о делах, оставь нас ненадолго. Мы говорим о цифрах. Тебе это наскучит.
– Ты сегодня надел прелестный галстук, Мариус. Вы большой франт, милостивый государь. Нет, мне это не наскучит.
– Уверяю тебя, что ты соскучишься.
– Нет. Потому что это вы. Я не пойму вас, но я буду вас слушать. Когда слышишь любимые голоса, нет нужды понимать слова. Быть здесь, с вами – мне больше ничего не надо. Я остаюсь, вот и все.
– Козетта, любимая моя, это невозможно.
– Невозможно?
– Да.
– Ну что ж, – сказала Козетта. – А я было хотела рассказать вам, что дедушка еще спит, что тетушка ушла к обедне, что в комнате отца моего, Фошлевана, дымит камин, что Николетта позвала трубочиста, что Тусен и Николетта уже успели повздорить, что Николетта насмехается над заиканием Тусен. Так и быть, вы ничего не узнаете. Ага, это невозможно? Ну погодите, придет и мой черед, вот увидите, сударь, я тоже скажу: «Это невозможно». Кто тогда останется с носом? Мариус, миленький, прошу тебя, позволь мне посидеть с вами.
– Клянусь тебе, нам надо поговорить без посторонних.
– Ну, а разве я посторонняя?
Жан Вальжан не произносил ни слова. Козетта обернулась к нему:
– А вы, отец? Прежде всего я хочу, чтобы вы меня поцеловали. А потом, на что это похоже – не говорить ни слова, вместо того чтобы вступиться за меня? Кто ж это наградил меня таким отцом? Вы отлично видите, как я несчастна в семейной жизни. Мой муж меня бьет. Говорят вам, поцелуйте меня сию же минуту.
Жан Вальжан приблизился к ней.
Козетта обернулась к Мариусу:
– А вам гримаса, – вот получайте.
Потом подставила лоб Жану Вальжану. Он сделал шаг ей навстречу. Козетта отшатнулась:
– Как вы бледны, отец. У вас так сильно болит рука?
– Она прошла, – сказал Жан Вальжан.
– Вы плохо спали?
– Нет.
– Вам грустно?
– Нет.
– Тогда поцелуйте меня. Если вы здоровы, если вы спали хорошо, если вы довольны, я не буду вас бранить.
И она снова подставила ему лоб.
Жан Вальжан запечатлел поцелуй на ее сиявшем небесной чистотой челе.
– Улыбнитесь.
Жан Вальжан повиновался. Это была улыбка призрака.
– А теперь защитите меня от моего мужа.
– Козетта!.. – начал Мариус.
– Выбраните его, отец. Скажите ему, что мне необходимо остаться. Можно отлично разговаривать и при мне. Вы, видно, считаете меня совсем дурочкой. Разве то, что вы говорите, так уж удивительно? Дела, поместить деньги в банке, – подумаешь, какая важность! Мужчины вечно напускают на себя таинственность по пустякам. Я хочу остаться. Я сегодня очень хорошенькая. Посмотри на меня, Мариус.
Она повела плечами и, очаровательно надув губки, подняла глаза на Мариуса. Словно молния сверкнула между этими двумя существами. То, что здесь присутствовало третье лицо, не имело значения.
– Люблю тебя! – сказал Мариус.
– Обожаю тебя! – сказала Козетта.
И, повинуясь неодолимой силе, они упали друг к другу в объятия.
– А теперь, – снова заговорила Козетта, с забавным, торжествующим видом оправляя складки своего пеньюара, – я остаюсь.
– Нет, нельзя, – сказал Мариус умоляющим тоном. – Нам надо кое-что закончить.
– Опять нет?
Мариус постарался придать голосу строгое выражение:
– Уверяю тебя, Козетта, что это невозможно.
– А, вы заговорили голосом властелина, сударь! Хорошо же. Мы уйдем. А вы, отец, так и не заступились за меня. Господин супруг мой, господин отец мой, вы – тираны. Сейчас я все расскажу дедушке. Если вы думаете, что я вернусь и стану просить, унижаться, вы ошибаетесь. Я горда. Теперь я подожду, пока вы сами придете. Вы увидите, как вам будет скучно без меня. Я ухожу, так вам и надо.
И она вышла из комнаты.
Через секунду дверь снова отворилась, снова меж двух створок показалось ее свежее, румяное личико, и она крикнула:
– Я очень сердита!
Дверь затворилась, и вновь наступил мрак.
Словно заблудившийся солнечный луч, неведомо для себя, неожиданно прорезал тьму и скрылся. Мариус проверил, плотно ли затворена дверь.
– Бедная Козетта! – прошептал он. – Когда она узнает…
При этих словах Жан Вальжан весь задрожал. Устремив на Мариуса растерянный взгляд, он заговорил:
– Козетта! Да, правда, вы все скажете Козетте. Это справедливо. Ах, я не подумал об этом. На одно у человека хватает сил, на другое нет. Сударь, заклинаю вас, молю вас, сударь, поклянитесь мне всем святым, что не скажете ей ничего. Разве не достаточно того, что вы сами знаете все? Я мог бы, никем не принуждаемый, по собственной воле сказать об этом кому угодно, целой вселенной, мне это все равно. Но она, она не должна знать, что это такое. Это ужаснет ее. Каторжник, подумайте! Пришлось бы объяснить ей, сказать: «Это человек, который был на галерах». Она видела однажды, как проходила партия каторжников. Боже мой, боже!
Он тяжело опустился в кресло и спрятал лицо в ладонях. Не слышно было ни звука, но плечи его вздрагивали, и видно было, что он плакал. Безмолвные слезы – страшные слезы.
Сильные рыдания вызывают у человека удушье. По телу Жана Вальжана словно пробежала судорога, он откинулся назад, на спинку кресла, как бы для того, чтобы перевести дыхание, руки его повисли, и Мариус увидел его залитое слезами лицо, услышал шепот, такой тихий, что казалось, он исходил из бездонной глубины: «О, если б умереть».
– Успокойтесь, – сказал Мариус, – я буду свято хранить вашу тайну.
Мариус, возможно, был менее растроган, чем следовало. Ему трудно было за этот час свыкнуться с ужасной новостью, постепенно поверить в эту истину, видеть, как мало-помалу каторжник заслоняет от него г-на Фошлевана, и наконец прийти к сознанию пропасти, которая внезапно разверзлась между ним и этим человеком. Но он добавил:
– Я должен сказать хотя бы несколько слов по поводу вверенного вам имущества, которое вы так честно и в такой неприкосновенности возвратили. Это свидетельствует о высокой порядочности. Было бы вполне справедливо, чтобы за это вы получили вознаграждение. Назначьте сами нужную сумму, она будет вам выплачена. Не бойтесь, что она покажется слишком высокой.
– Благодарю вас, сударь, – кротко ответил Жан Вальжан.
Он задумался на мгновение, машинально поглаживая кончиком указательного пальца ноготь большого, затем, повысив голос, произнес:
– Все почти сказано. Остается последнее…
– Что именно?
Жаном Вальжаном, казалось, овладела величайшая нерешительность, и беззвучно, почти не дыша, он сказал, вернее, пролепетал:
– Теперь, когда вам известно все, не считаете ли вы, сударь, – вы, муж Козетты, – что я больше не должен ее видеть?
– Я считаю, что так было бы лучше, – холодно ответил Мариус.
– Я не увижу ее больше, – прошептал Жан Вальжан.
И он направился к выходу.
Он тронул дверную ручку, она повернулась, дверь полуоткрылась. Жан Вальжан распахнул ее шире, чтобы пройти, постоял неподвижно с минуту, потом снова затворил дверь и обернулся к Мариусу.
Лицо его уже не было бледным, оно приняло свинцовый оттенок. Глаза были сухи, и в них пылал какой-то скорбный огонь. Голос его стал до странности спокоен:
– Послушайте, сударь, если вы позволите, я буду навещать ее. Уверяю вас, мне это необходимо. Если бы для меня не было так важно видеть Козетту, я не сделал бы вам того признания, которое вы слышали, я просто уехал бы. Но я хотел остаться там, где Козетта, хотел ее видеть, вот почему я должен был честно вам все рассказать. Вы следите за моей мыслью? Это ведь так понятно. Видите ли, уже девять лет, как она со мною. Сначала мы жили в той лачуге на бульваре, потом в монастыре, потом возле Люксембургского сада. Там, где вы увидели ее впервые. Помните ее синюю бархатную шляпку? Затем мы переехали в квартал Инвалидов, на улицу Плюме, у нас был сад за решеткой. Я жил на заднем дворике, откуда мне слышно было ее фортепьяно. Вот и вся моя жизнь. Мы никогда не разлучались. Это длилось девять лет и несколько месяцев. Я заменял ей отца, она была мое дитя. Не знаю, понимаете ли вы меня, господин Понмерси, но уйти сейчас, не видеть ее больше, не говорить с нею больше, лишиться всего – это было бы слишком тяжко. Если вы не найдете в том ничего дурного, я буду приходить иногда к Козетте. Я не приходил бы часто. Не оставался бы надолго. Вы распорядились бы, чтобы меня принимали в маленькой нижней зале. В первом этаже. Я входил бы, конечно, с черного крыльца, которым ходят ваши слуги, хотя, быть может, это вызвало бы толки. Лучше, пожалуй, проходить через парадное. Право же, сударь, мне очень хотелось бы время от времени видеться с Козеттой. Так редко, как только вы пожелаете. Вообразите себя на моем месте, кроме нее, у меня ничего нет в жизни. А потом, надо быть осторожным. Если бы я перестал приходить совсем, это произвело бы дурное впечатление, это сочли бы странным. Вот что: я мог бы, например, приходить по вечерам, когда совсем стемнеет.
– Вы будете приходить каждый вечер, – сказал Мариус, – и Козетта будет вас ждать.
– Вы очень добры, сударь, – проговорил Жан Вальжан.
Мариус поклонился Жану Вальжану, счастливец проводил несчастного до дверей, и эти два человека расстались.
Глава 2. Какие неясности могут таиться в разоблачении.
Мариус был потрясен.
Странное чувство отчуждения, всегда испытываемое им к человеку, возле которого он видел Козетту, отныне стало ему понятным. В этой личности было нечто загадочное, о чем давно предупреждал его инстинкт. Загадка эта оказалась последней ступенью позора – каторгой. Господин Фошлеван оказался каторжником Жаном Вальжаном.
Открыть внезапно такую тайну в самом расцвете своего счастья – все равно что обнаружить скорпиона в гнезде горлицы.
Было ли счастье Мариуса и Козетты обречено отныне на такое соседство? Считать ли это свершившимся фактом? Был ли обязан Мариус, вступив в брак, признать этого человека? Неужели тут ничего нельзя поделать?
Неужели Мариус связал свою жизнь с каторжником?
Пусть венок, сплетенный из света и веселья, венчает голову счастливца, пусть наслаждается он великим, блаженнейшим часом своей жизни – разделенной любовью, такой удар заставил бы содрогнуться даже архангела, погруженного в экстаз, даже героя в ореоле его славы.
Как всегда бывает с тем, у кого на глазах происходят подобные превращения, Мариус стал раздумывать – не следует ли ему упрекнуть в этом себя самого? Не изменило ли ему внутреннее чутье? Не проявил ли он невольного легкомыслия? До некоторой степени, пожалуй. Не пустился ли он слишком опрометчиво в это любовное приключение, закончившееся браком с Козеттой, даже не наведя справок о ее родных? Именно таким путем, заставляя нас последовательно уяснять наши же поступки, жизнь мало-помалу исправляет нас. Он видел теперь склонную к мечтательности и фантазиям сторону своего характера, подобную скрытому от глаз облаку, которое у многих натур, при пароксизмах страсти и боли, меняет температуру души, сгущается и, заполняя человека целиком, помрачает его сознание. Мы не раз уже указывали на эту характерную особенность личности Мариуса. Он вспоминал, что на улице Плюме, в течение упоительных шести или семи недель, опьяненный любовью, он даже ни разу не говорил Козетте о драме в лачуге Горбо и о странном поведении потерпевшего, который упорно молчал во время борьбы и тотчас бежал по ее окончании. Как случилось, что он ничего не рассказал Козетте? Это ведь произошло так недавно и было так ужасно! Как случилось, что он даже не упомянул о семье Тенардье, в особенности в тот день, когда встретил Эпонину? Сейчас он лишь с трудом мог объяснить себе свое тогдашнее молчание. Тем не менее он отдавал себе в этом отчет. Он вспоминал себя, свое безумие, свое опьянение Козеттой, всепоглощающую любовь – это вознесение влюбленных на высоты идеала; и быть может, как неприметную крупицу рассудка в том бурном и восхитительном порыве души, он припоминал также смутную и затаенную мысль скрыть и изгладить из памяти опасное приключение, которого он боялся касаться, где не желал играть никакой роли, от которого бежал и где не мог быть ни рассказчиком, ни свидетелем, не будучи в то же время обвинителем. К тому же эти несколько недель промелькнули, словно молния; не хватало времени ни на что другое, как только любить друг друга. Наконец, если бы даже, все взвесив, все пересмотрев, все обсудив, он и рассказал Козетте о засаде в лачуге Горбо, если бы и назвал Тенардье, – какое это могло иметь значение? Даже если бы он открыл, что Жан Вальжан – каторжник, изменило бы это что-нибудь в нем, в Мариусе? Изменило бы это что-нибудь в ней, в Козетте? Разве он отступился бы от нее? Разве перестал бы обожать? Разве отказался бы взять в жены? Нет. Изменило бы это хоть сколько-нибудь то, что совершилось? Нет. Значит, не о чем жалеть, не в чем упрекать себя. Все было хорошо. Есть еще бог в небесах и для этих пьяниц, которые зовутся влюбленными. Слепой Мариус следовал тем же путем, который избрал бы зрячим. Любовь завязала ему глаза, чтобы повести его – куда? В рай.
Но этот рай отныне омрачало соседство с адом.
Давнее нерасположение Мариуса к этому человеку, к Фошлевану, превратившемуся в Жана Вальжана, сменилось теперь ужасом.
Заметим, однако, что в этом ужасе была доля жалости и даже некоторого восхищения.
Этот вор, вор неисправимый, вернул отданную ему на хранение сумму. И какую! Шестьсот тысяч франков. Он один знал тайну этих денег. Он мог все оставить себе и, однако, все возвратил.
Кроме того, он сам выдал свое истинное общественное положение. Ничто его к тому не принуждало. Если и открылось, кто он такой, то лишь благодаря ему самому. Его признание означало нечто большее, чем готовность к унижению, – оно означало готовность к опасности. Для осужденного маска – это не маска, а прибежище. Он отказался от этого прибежища. Чужое имя для него – безопасность; он отверг это чужое имя. Он, каторжник, мог навсегда укрыться в достойной семье, и он устоял перед таким искушением. По какой же причине? Этого требовала его совесть. Он сам объяснил это с неотразимой убедительностью истины. Словом, каков бы ни был этот Жан Вальжан, неоспоримо одно – в нем пробуждалась совесть. В нем чувствовалось начало некоего таинственного возрождения; по всей видимости, душевное беспокойство уже с давних лет владело этим человеком. Подобное стремление к добру и справедливости несвойственно натурам заурядным. Пробуждение совести – признак величия души.
Жан Вальжан говорил искренне. Судя хотя бы по той боли, какую причиняла ему эта искренность, видимая, осязаемая, неопровержимая, подлинная, она делала ненужными иные доказательства и придавала значительность словам этого человека. Положение дел для Мариуса странным образом изменилось. Какое чувство внушал к себе господин Фошлеван? Недоверие. Что вызывал в нем Жан Вальжан? Доверие.
Мысленно оценивая поступки Жана Вальжана, Мариус устанавливал актив и пассив и старался свести баланс. Но вокруг него и в нем самом словно бушевала буря. Пытаясь составить себе ясное представление об этом человеке, вызывая образ Жана Вальжана из самых глубин своей памяти, он то терял, то вновь обретал его в каком-то роковом тумане.
Честно возвращенная сумма денег, которую доверили ему, правдивость признания – все это хорошо. Это напоминало просвет в туче, но потом туча снова становилась черной.
Как ни смутны были воспоминания Мариуса, но и они говорили о тайне.
Что же, собственно, происходило на чердаке Жондрета? Почему при появлении полиции этот человек, вместо того чтобы обратиться к ней за помощью, исчез? Здесь ответ стал ясен для Мариуса. Потому, что человек этот бежал из места заключения и скрывался от полиции.
Другой вопрос: почему этот человек появился на баррикаде? Ибо сейчас перед Мариусом, в его взволнованной душе, вновь отчетливо всплыло это воспоминание, подобно симпатическим чернилам, которые выступают под действием огня. Этот человек был на баррикаде. Но он не сражался. Зачем же он туда пришел? Перед этим вопросом вставал призрак и отвечал на него: то был Жавер. Мариус теперь ясно вспоминал зловещее появление Жана Вальжана, увлекающего за собой с баррикады связанного Жавера, и ему еще слышался страшный звук пистолетного выстрела, донесшийся из-за угла переулка Мондетур. Между шпионом и каторжником, надо полагать, существовала давнишняя вражда. Они мешали друг другу. Жан Вальжан явился на баррикаду, чтобы отомстить. И пришел позднее других. По-видимому, он знал, что Жавер был захвачен в плен. Корсиканская вендетта, проникнув в низшие слои общества, стала там законом; она так вошла в обычай, что не удивляет даже тех, кто наполовину обратился к добру; эти натуры таковы, что злодея, вступившего на путь раскаяния, может смутить мысль о воровстве, но не мысль о мести. Жан Вальжан убил Жавера. По крайней мере это казалось Мариусу бесспорным.
Наконец последний вопрос. Но на него ответа не было. И этот вопрос терзал Мариуса, словно раскаленные клещи. Как могло случиться, чтобы жизнь Жана Вальжана так долго шла бок о бок с жизнью Козетты? Что означала темная игра провидения, столкнувшего ребенка с этим человеком? Значит, и там, наверху, существуют оковы, значит, и богу бывает угодно сковать одной цепью ангела с демоном? Значит, грех и невинность могут оказаться товарищами по камере на таинственной каторге бедствий? И в этом шествии осужденных, что зовется судьбой человеческой, могут очутиться рядом два чела – одно ясное и чистое, другое страшное, одно озаренное сиянием утра, другое навеки опаленное молнией божьего гнева. Кто мог предопределить столь необъяснимый союз? Каким образом, каким чудом могла слиться судьба небесного юного создания с судьбой закоренелого грешника? Кто мог соединить ягненка с волком и – нечто еще более непостижимое – привязать волка к ягненку? Ибо волк любил ягненка, ибо свирепое существо боготворило существо слабое, ибо целых девять лет исчадие ада служило поддержкой ангелу. Детство и юность Козетты, ее девственный расцвет – этот порыв навстречу жизни и познанию преданно охранялись этим чудовищем. Здесь вопросы как бы распадались на бесчисленные загадки, в глубине одной пропасти разверзалась другая, и Мариус, думая о Жане Вальжане, испытывал головокружение. Кто же был этот человек-бездна?
Древние символы Книги Бытия вечны: человеческое общество, такое, как оно есть, пока не преобразит его более высокое откровение, всегда порождало и будет порождать два типа людей: человека возвышенного и человека низкого; того, кто исповедует добро, – Авеля, и того, кто исповедует зло, – Каина. Кто же был этот Каин с нежным сердцем? Кто же был этот разбойник, который, как перед святыней, преклонялся перед девственницей, охранял ее, растил, оберегал, укреплял в добродетели и, сам порочный, окружал ее ореолом непорочности? Что же это за грешник, который благоговел перед невинностью и не запятнал ее ничем? Кто же был этот Жан Вальжан, воспитавший Козетту? Что представлял собою этот выходец из мрака, поглощенный одной-единственной заботой – предохранить от малейшей тени, от малейшего облачка восход звезды?
Это было тайной Жана Вальжана; это было и божьей тайной.
Маркус отступал перед двойной этой тайной. Одна из них до известной степени успокаивала его относительно другой. Во всем этом столь же явно, как и Жан Вальжан, присутствовал бог. У бога свои орудия. Он пользуется тем средством, каким пожелает. Он не обязан давать отчет человеку. Ведомо ли нам, как господь вершит свои деяния? Жану Вальжану стоило больших трудов воспитать Козетту. До некоторой степени он был создателем ее души. Это неоспоримо. Ну и что же? Работник был ужасающе безобразен, но работа его оказалась восхитительной. Бог волен творить чудеса, как хочет. Он создал очаровательную Козетту, а воспитателем приставил к ней Жана Вальжана. Ему угодно было избрать себе такого странного помощника. Какой счет мы можем предъявить ему? Разве впервые навоз помогает весне взрастить розу?
Мариус сам отвечал на свои вопросы и убеждал себя, что ответы правильны. Допрашивать Жана Вальжана по поводу всех указанных нами сомнений он не осмеливался, сам себе в том не сознаваясь. Он обожал Козетту, он обладал Козеттой, Козетта сияла невинностью. Этого было ему довольно. В каких разъяснениях нуждался он еще? Его возлюбленная была светом. Нуждается ли свет в разъяснении? У него было все; чего еще мог он желать? Все – разве этого не достаточно? Что ему до личных дел Жана Вальжана! И, наклоняясь мысленно над роковой тенью, он цеплялся за торжественное заявление, сделанное этим отверженным: «Я – никто для Козетты. Десять лет тому назад я не знал о ее существовании».
Жан Вальжан был случайным прохожим. Он сам это сказал. Ну вот, он и прошел мимо. Кто бы он ни был, его роль окончена. Отныне оставался Мариус, чтобы заступить место провидения Козетты. В лазурной вышине Козетта разыскала существо себе подобное, возлюбленного, мужа, посланного небом супруга. Улетая ввысь, Козетта, окрыленная и преображенная, подобно бабочке, вышедшей из куколки, оставляла на земле свою пустую и отвратительную оболочку – Жана Вальжана.
Какие бы мысли ни кружились в голове Мариуса, он снова и снова испытывал некий ужас перед Жаном Вальжаном. Ужас священный, быть может, ибо, как мы только что отметили, он чувствовал quid divinum в этом человеке. Но что бы он ни делал, какие бы смягчающие обстоятельства ни отыскивал, неизбежно приходилось возвращаться к одному: это был каторжник, иначе говоря, существо, которое даже не имело места на общественной лестнице, опустившись ниже последней ее ступеньки. За самым последним из людей идет каторжник. Каторжник, собственно говоря, уже не принадлежит к числу живых. Закон лишил его всего человеческого – всего, что только он в силах отнять у человека. Хотя Мариус и был демократом, он тем не менее в вопросах, касающихся судебных наказаний, все еще стоял за систему беспощадной кары и всех тех, кого карал закон, рассматривал с точки зрения этого закона. Заметим, что духовное развитие Мариуса еще не было завершено. Он еще не умел отличить то, что начертано человеком, от того, что начертано богом, отличить закон от права. Он еще не обдумал и не взвесил присвоенного себе человеком права распоряжаться тем, что невозвратимо и непоправимо. Его не возмущало слово vindicte[159]. Он считал справедливым, чтобы некоторые посягательства на писаный закон имели последствием пожизненное наказание, и признавал социальное проклятие как способ воздействия, найденный цивилизацией. Он еще стоял на этой ступени, но с тем, чтобы позже неминуемо подняться выше, так как по натуре был добр и бессознательно вступил уже на путь прогресса.
В свете таких идей Жан Вальжан казался ему существом уродливым и отталкивающим. Это был отверженный. Это был каторжник. Последнее слово звучало в его ушах трубным гласом правосудия, и после долгого размышления над Жаном Вальжаном он кончил тем, что отвратился от него. Vade retro[160].
Следует отметить и даже подчеркнуть, что, расспрашивая Жана Вальжана, – тот даже сказал ему: «Вы исповедуете меня», – Мариус, однако, не задал ему двух-трех вопросов, имеющих решающее значение. И не потому, чтобы они не вставали перед ним, – он боялся их. Чердак Жондрета? Баррикада? Жавер? Кто знает, к чему привели бы эти разоблачения? Жан Вальжан не казался человеком, способным отступить, и, кто знает, не пожелал ли бы Мариус, толкнув его на признание, сам остановить его? Не случалось ли нам всем, мучаясь страшными подозрениями, задать вопрос и тут же затыкать уши, чтобы не слышать ответа? Особенно тем, кто любит, свойственно подобное малодушие. Неблагоразумно исследовать до дна обстоятельства, таящие угрозу против нас самих да еще связанные роковым образом с тем, что неотторжимо от собственной нашей жизни. Кто знает, какой ужасный свет могли пролить на всё безрассудные признания Жана Вальжана, кто знает, не может ли дотянуться этот омерзительный луч и до Козетты? Кто знает, не останется ли на челе этого ангела мерцающий отсвет адского пламени? И самая короткая вспышка молнии сопровождается громовым ударом. Воля рока такова, что даже сама невинность обречена нести на себе клеймо греха, став жертвой таинственного закона отражения. Случается, что на самых чистых созданиях навеки остается след отвратительного соседства. Справедливо или нет, но Мариус боялся этого. Он и так слишком много узнал. Ему скорее хотелось все забыть, нежели все понять. Полный смятения, он словно спешил унести Козетту в своих объятиях, отвращая глаза от Жана Вальжана.
Тот человек был сродни ночи, ночи одушевленной и страшной. Как отважиться углубиться в нее? Нет ничего ужаснее, чем допрашивать тьму. Кто знает, что она ответит? Заря могла быть омраченной навеки.
В таком душевном состоянии Мариус не мог думать без мучительного беспокойства, что этот человек и дальше будет иметь какое-то отношение к Козетте. Он почти упрекал себя за то, что отступил, что не задал тех роковых вопросов, за которыми могло последовать неумолимое, бесповоротное решение. Он считал, что был слишком добр, слишком мягок и, скажем прямо, слишком слаб. Эта слабость толкнула его на неосторожную уступку. Он позволил себе растрогаться. И напрасно. Он должен был просто-напросто оттолкнуть Жана Вальжана. Жан Вальжан был искупительной жертвой; следовало принести эту жертву и избавить свой дом от этого человека. Он досадовал на себя, он негодовал против внезапно налетевшего бурного вихря, который оглушил, ослепил и увлек его против его желания. Он был недоволен собой.
Что делать теперь? Мысль о том, что Жан Вальжан будет навещать Козетту, вызывала в нем глубочайшее отвращение. Зачем ему этот человек? Что делать? Здесь он становился в тупик, он не хотел доискиваться, не хотел углубляться, не хотел разбираться в самом себе. Он обещал, – он позволил себе увлечься до такой степени, что дал обещание; и Жан Вальжан это обещание получил; а слово, данное даже каторжнику, в особенности каторжнику, следует держать. Тем не менее он обязан был прежде всего подумать о Козетте. Словом, сильнейшее отвращение вытесняло в нем все другие чувства.
Мариус перебирал в уме этот клубок путаных мыслей, бросаясь от одной к другой и терзаясь всеми вместе. Его охватила глубокая тревога. Скрыть эту тревогу от Козетты было нелегко, но любовь – великий талант, и Мариус справился с собой.
Впрочем, не обнаруживая истинной своей цели, он задал несколько вопросов ни о чем не подозревавшей Козетте, невинной, как белая голубка; слушая ее рассказы о детстве ее и юности, он все больше убеждался, что отношение этого каторжника к Козетте было исполнено такой доброты, отеческой заботы и достоинства, на какие только способен человек. То, что Мариус чувствовал и предполагал, оказалось правдой. Этот зловещий чертополох любил и оберегал эту лилию.
Книга восьмая. Сумерки сгущаются.
Глава 1. Комната в нижнем этаже.
На другой день, с наступлением сумерек, Жан Вальжан постучался в ворота дома Жильнормана. Его встретил Баск. Баск находился во дворе в назначенное время, словно выполняя чье-то распоряжение. Бывает иногда, что слуге говорят: «Посторожи, когда придет господин такой-то».
Не дожидаясь, чтобы Жан Вальжан подошел ближе, Баск обратился к нему первый:
– Господин барон поручил мне спросить у вашей милости, угодно ли вам подняться наверх или остаться внизу.
– Я останусь внизу, – отвечал Жан Вальжан.
Баск, храня свой безукоризненно почтительный вид, растворил двери залы в нижнем этаже и сказал:
– Пойду доложить молодой хозяйке.
Комната, куда вошел Жан Вальжан, была сводчатая и сырая, с красным кафельным полом, служившая по мере надобности кладовой; она выходила на улицу и слабо освещалась единственным окном с железной решеткой.
Это помещение было не из тех, куда часто заглядывают метелка, веник и щетка. Пыль лежала здесь нетронутой. Борьбы с пауками здесь не вели. Пышная, черная, украшенная мертвыми мухами паутина огромным веером раскинулась по одной из створок окна. Единственным убранством этой небольшой низкой комнаты служили пустые бутылки, наваленные грудой в углу. Окрашенная желтой охрой штукатурка облупилась со стен широкими пластами. В глубине был камин с узенькой каминной доской, крашенный под черное дерево. В камине горел огонь; это означало, что тут заранее рассчитывали на ответ Жана Вальжана: «Я останусь внизу».
У камина стояли два кресла. Между креслами был постелен вместо ковра потертый половик, в котором осталось больше веревок, чем шерсти.
Комната освещалась лишь огнем камина и тусклым светом из окна.
Жан Вальжан был утомлен. Уже несколько дней он не ел и не спал. Он тяжело опустился в кресло.
Баск вернулся, поставил на камин зажженную свечу и вышел. Жан Вальжан забылся, склонив голову на грудь, и не заметил ни Баска, ни свечи.
Вдруг он выпрямился, как будто его внезапно разбудили. За его спиной стояла Козетта.
Он не видел, но почувствовал, как она вошла.
Он обернулся, посмотрел на нее. Она была обворожительно хороша. Но его глубокий взгляд искал в ней не красоту ее, а душу.
– Ну, отец, – вскричала Козетта, – я знала, что вы странный человек, но такой причуды уж никак не ожидала! Что за дикая фантазия! Мариус сказал, будто вы сами захотели, чтобы я принимала вас здесь.
– Да, я сам.
– Я так и знала. Ну, теперь держитесь! Предупреждаю, что сейчас устрою вам сцену. Начнем с самого начала. Поцелуйте меня, отец.
И она подставила ему щеку.
Жан Вальжан хранил неподвижность.
– Вы даже не шевельнулись. Отметим это. Вы ведете себя как виноватый. Но все равно, я прощаю вам. Иисус Христос сказал: «Подставьте другую щеку». Вот она.
И она подставила другую.
Жан Вальжан не тронулся с места. Казалось, ноги его были пригвождены к полу.
– Дело становится серьезным, – сказала Козетта. – В чем я провинилась? Объявляю, что я с вами в ссоре. Вы должны заслужить прощение. Вы пообедаете с нами.
– Я уже обедал.
– Это неправда. Я попрошу господина Жильнормана пожурить вас хорошенько. Деды созданы для того, чтобы допекать отцов. Ну! Идемте со мной в гостиную. Сию же минуту.
– Это невозможно.
Тут Козетта немного растерялась. Она перестала приказывать и перешла к расспросам.
– Но почему же? И зачем вы выбрали для нашей встречи самую ужасную комнату во всем доме? Здесь отвратительно.
– Ты ведь знаешь…
Жан Вальжан поправился:
– Вы ведь знаете, баронесса, что я чудак, у меня свои прихоти.
Козетта всплеснула маленькими ручками:
– Баронесса?.. Вы?.. Вот новости! Что все это значит?
Жан Вальжан посмотрел на нее с той раздирающей душу вымученной улыбкой, которая иногда появлялась у него на губах.
– Вы сами пожелали быть баронессой. И стали ею.
– Но не для вас же, отец.
– Не называйте меня больше отцом.
– Что?
– Зовите меня господин Жан. Просто Жан, если хотите.
– Вы мне больше не отец? Я больше не Козетта? Господин Жан? Да что же это такое? Но ведь это настоящий переворот! Что случилось? Посмотрите-ка мне в лицо. И вы не хотите с нами жить! И вы отказываетесь от своей комнаты! Что я вам сделала? Что я вам сделала? Значит, что-нибудь произошло?
– Ничего.
– Тогда в чем же дело?
– Все осталось по-прежнему.
– Почему вы меняете имя?
– Вы ведь тоже переменили свое.
Он снова улыбнулся той же улыбкой и прибавил:
– Раз вы стали госпожой Понмерси, почему бы мне не стать господином Жаном?
– Я решительно ничего не понимаю. Все это нелепо. Погодите, я еще спрошу у мужа разрешения называть вас господином Жаном. Надеюсь, что он не согласится. Вы меня страшно огорчаете. Можно иметь причуды, но нельзя так обижать свою маленькую Козетту. Это очень нехорошо. Вы не смеете быть злым, ведь вы такой добрый.
Он не отвечал.
Она живо схватила его за обе руки и, подняв их к своему лицу, в неудержимом порыве прижала их к шее под подбородком, с выражением глубочайшей нежности.
– О, – проговорила она, – будьте добрым, как прежде!
И продолжала:
– Вот что я называю быть добрым: быть милым, переехать к нам – здесь тоже есть птички, как на улице Плюме, – жить с нами вместе, бросить эту ужасную дыру на улице Вооруженного человека; не загадывать нам головоломок, быть как все, обедать с нами, завтракать с нами, словом, быть моим дорогим отцом.
Он высвободил свои руки.
– Вам не нужен отец, у вас теперь есть муж.
Козетта вспылила:
– Мне не нужен отец? Когда слышишь такую бессмыслицу, право, не знаешь, что и сказать.
– Если бы тут была Тусен, – продолжал Жан Вальжан, как человек, ищущий опоры в авторитетах и цепляющийся за любую веточку, – она первая подтвердила бы, что такой уж у меня нрав. В этом нет ничего нового. Я всегда любил свой темный угол.
– Но здесь же холодно. Здесь плохо видно. И что за гадкая выдумка называться господином Жаном. Я не желаю, чтобы вы говорили мне «вы»!
– Нынче, по дороге сюда, – перевел разговор Жан Вальжан, – я видел на улице Сен-Луи одну вещицу. У столяра-краснодеревщика. Будь я хорошенькой женщиной, я приобрел бы это. Очень милый туалет в современном вкусе. У вас это называется, кажется, розовым деревом. С инкрустацией. С довольно большим зеркалом. И с ящичками. Очень красивая вещица.
– У! Противный медведь! – отвечала Козетта. И с очаровательной гримаской она фыркнула на Жана Вальжана сквозь сжатые зубки. То была сама Грация, изображавшая сердитую кошечку.
– Я просто в бешенстве, – заявила она. – Со вчерашнего дня все вы меня изводите. Я очень сердита. Я ничего не понимаю. Вы не защищаете меня от Мариуса. Мариус не хочет поддержать меня против вас. Я совсем одна. Я так славно убрала вашу комнату. Если бы я могла достать луну с неба, я бы там ее повесила. И что же? Что теперь прикажете делать с этой комнатой? Мой жилец оставляет меня с носом. Я заказываю Николетте превкусный обед. «Ваш обед никому не нужен, сударыня!» И мой отец Фошлеван требует ни с того ни с сего, чтобы я называла его господином Жаном и принимала бы его в старом, дрянном, безобразном, затхлом погребе, где стены обросли бородой, где вместо хрусталя валяются пустые бутылки, а вместо занавесок – паутина! Вы человек с причудами, согласна, все это в вашем духе, но надо же дать передышку людям, которые женятся. Вы не имели права сразу же браться за прежние причуды. Неужели вам так хорошо на этой отвратительной улице Вооруженного человека? А я была там очень несчастна. Что я вам сделала? Вы ужасно меня огорчаете! Фи!
И вдруг, пристально взглянув на Жана Вальжана, она добавила серьезным тоном:
– Вы сердитесь на меня за то, что я счастлива?
Наивность, сама того не зная, бывает порою очень проницательна. Этот вопрос, такой простой для Козетты, имел для Жана Вальжана глубокий смысл, Козетта хотела царапнуть его, а ранила до крови.
Жан Вальжан побледнел. С минуту он ничего не отвечал, потом с неизъяснимым выражением, словно обращаясь к самому себе, прошептал:
– Ее счастье – вот что было целью моей жизни. Теперь господь может отпустить меня с миром. Козетта, ты счастлива; мое время истекло.
– Ах! Вы сказали мне «ты»! – воскликнула Козетта. И кинулась ему на шею.
Жан Вальжан, забывшись, порывисто прижал ее к груди. Он почти поверил, что снова вернул ее себе.
– Спасибо, отец! – шепнула ему Козетта.
Поддавшись этому порыву, Жан Вальжан испытывал мучительное чувство. Он тихонько высвободился из объятий Козетты и взялся за шляпу.
– Что такое? – спросила Козетта.
Жан Вальжан отвечал:
– Я ухожу, сударыня, вас ждут.
И, стоя уже в дверях, прибавил:
– Я назвал вас на «ты». Скажите вашему мужу, что больше этого не случится. Простите меня.
И Жан Вальжан вышел, оставив Козетту ошеломленной этим загадочным прощанием.
Глава 2. Еще несколько шагов назад.
Жан Вальжан пришел на следующий день, в тот же час.
Козетта уже не задавала ему вопросов, не удивлялась, не жаловалась на холод, не приглашала больше в гостиную; она равно избегала называть его отцом и господином Жаном. Она позволяла говорить себе «вы». Позволяла называть себя сударыней. В ней только несколько убавилось веселости. Ее можно было бы счесть грустной, если б она способна была грустить.
Должно быть, у нее с Мариусом произошел один из тех разговоров, когда любимый человек говорит все, что вздумается, ничего не объясняет и все же умеет успокоить любимую женщину. Любопытство влюбленных не простирается за пределы их любви.
Нижнюю залу несколько привели в порядок. Баск убрал бутылки, а Николетта смела паутину.
Во все последующие дни Жан Вальжан являлся неизменно в тот же час. Он приходил ежедневно, не имея сил принудить себя понять слова Мариуса иначе, как буквально. Мариус устраивался так, чтобы уходить из дому в те часы, когда приходил Жан Вальжан. Домашние скоро привыкли к новым порядкам, которые завел г-н Фошлеван. Тусен помогла этому. «Хозяин всегда был таким», – твердила она. Дед вынес следующий приговор: «Он просто оригинал». Этим все было сказано. По правде говоря, в девяносто лет уже тяжелы новые связи; все кажется лишним бременем, новый знакомец только стесняет, для него нет уже места в привычном укладе жизни. Звался ли он Фошлеваном или Шпаклеваном, – для старика Жильнормана было облегчением избавиться от «этого господина». Он пояснил: «Нет ничего обыкновеннее подобных оригиналов. Они выкидывают всевозможные чудачества. Так просто, без всяких причин. Маркиз де Канапль был еще хуже. Он купил дворец, а жил там на чердаке. Напускают же на себя люди этакую блажь».
Никто не подозревал мрачной подоплеки этой «блажи». Кто же, впрочем, мог бы угадать причину? В Индии встречаются такие болота: вода в них кажется необычной, непонятной; вдруг она всколыхнется без ветра, вдруг забурлит там, где должна быть спокойной. Мы замечаем на поверхности беспричинную зыбь и не видим змеи, которая ползет по дну.
Так и у многих людей есть тайное чудовище, скрытая мука, которую они вскармливают, дракон, который терзает их, отчаяние, которым исполнены их ночи. Такой человек на вид не отличается от других, он ходит, двигается. Никто не знает, что он носит в себе страшный разрушительный недуг, который живет в этом несчастном и как червь гложет его, причиняя тысячи мук. Никто не знает, что такой человек – омут. Стоячий, но глубокий омут. Время от времени на поверхности начинается какое-то волнение, ни для кого не понятное. Пробегает загадочная рябь, потом исчезает, потом появляется снова: всплывает пузырь и лопается. Это почти что ничего, и вместе с тем это ужасно. То дыхание неведомого зверя.
Иные странные привычки – являться в часы, когда другие уходят, держаться в тени, когда другие выставляют себя напоказ, надевать во всех случаях, так сказать, плащ защитной окраски, избирать пустынные аллеи, предпочитать безлюдные улицы, не вмешиваться в разговор, избегать толпы и многолюдных праздников, казаться человеком с достатком и жить в бедности, носить, при всем своем богатстве, в кармане ключ от своего жилища и оставлять свечу у привратника, входить через заднее крыльцо, подниматься по черной лестнице, – все эти небольшие странности, эти волны, пузыри, мимолетная рябь на поверхности, исходят нередко из ужасающих глубин.
Так протекло несколько недель. Козетту мало-помалу захватила новая жизнь: новые отношения, создаваемые замужеством, визиты, домашние заботы, развлечения – все это были важные дела. Развлечения Козетты стоили недорого: они заключались в одном – быть с Мариусом. Выходить вместе с ним, сидеть с ним дома, – в этом заключалось главное содержание ее жизни. Для них было вечно новой радостью гулять под руку, среди бела дня, по людной улице, не прячась, перед всем народом, вдвоем и наедине среди толпы. У Козетты бывали и огорчения: Тусен не поладила с Николеттой, и, так как обе старые девы не могли ужиться вместе, ей пришлось уйти. Дед чувствовал себя прекрасно. Мариус время от времени защищал какое-нибудь дело в суде; тетка Жильнорман продолжала мирно влачить свое унылое существование бок о бок с молодой четой, что ее вполне удовлетворяло. Жан Вальжан приходил каждый день.
Замена обращения на «ты» официальным «вы», «сударыня», «господин Жан» – все это изменило его в глазах Козетты. Старания, приложенные им, чтобы отучить ее от себя, увенчались успехом. Она становилась все более веселой и все менее ласковой с ним. Однако она все еще очень любила его, и он это чувствовал. Как-то раз она вдруг сказала: «Вы были мне отцом, и вы уже больше не отец; были мне дядей, и больше уже не дядя; были господином Фошлеваном и стали просто Жаном. Кто же вы такой? Не нравится мне все это. Если бы я не знала, какой вы добрый, я боялась бы вас».
Он по-прежнему оставался на улице Вооруженного человека, не решаясь покинуть квартал, где когда-то жила Козетта.
На первых порах он проводил с Козеттой лишь несколько минут, потом уходил.
Но постепенно он принял обыкновение затягивать свои визиты. Казалось, он находил себе оправдание в том, что дни становились длиннее; он являлся раньше и уходил позже.
Однажды Козетта, обмолвившись, сказала ему: «отец». Луч радости озарил старое угрюмое лицо Жана Вальжана. Он поправил ее: «Говорите Жан». – «Да, правда, – отвечала она, рассмеявшись, – господин Жан». – «Вот так», – сказал он. И отвернулся, чтобы она не заметила, как он вытирает слезы.
Глава 3. Они вспоминают сад на улице Плюме.
Больше этого не случалось. То был последний луч света; все угасло окончательно. Не было прежней близости, не было поцелуя при встрече, никогда уж не звучало больше полное нежности слово «отец!». По собственному настоянию и при собственном содействии Жан Вальжан был последовательно лишен всех своих радостей; его постигло то несчастье, что, потеряв Козетту сразу в один день, ему пришлось сызнова терять ее постепенно.
Глаза привыкают в конце концов к тусклому свету подземелья. В сущности, видеть Козетту, хотя бы раз в день, казалось ему уже достаточным. Вся его жизнь сосредоточилась на этих часах. Он садился возле нее, глядел на нее молча или же говорил с ней о былых годах, о ее детстве, о монастыре, о ее прежних подружках.
Однажды после полудня – это был один из первых апрельских дней, уже весенний, но еще прохладный, в час, когда солнце весело сияло, когда сады, видневшиеся из окон Мариуса и Козетты, трепетали, пробуждаясь ото сна, когда вот-вот должен был распуститься боярышник, когда желтофиоли раскидывались нарядным узором по старым стенам, цветочки львиного зева розовели в расщелинах камней, в траве пробивались прелестные лютики и маргаритки, в небе начинали порхать первенцы весны – белые бабочки, а ветер, бессменный музыкант на свадебном торжестве природы, запевал в ветвях дерев первые ноты великой утренней симфонии, которую древние поэты называли возрождением весны, – Мариус сказал Козетте: «Помнишь, мы условились, что сходим навестить наш сад на улице Плюме. Пойдем туда. Не надо быть неблагодарными». И они умчались, точно две ласточки, навстречу весне. Сад на улице Плюме казался им утренней зарей. В их жизни уже было какое-то прошлое, нечто вроде ранней весны их любви. Дом на улице Плюме, взятый в аренду, все еще принадлежал Козетте. Они посетили этот сад и этот дом. Они отдались минувшему, они забыли о настоящем. Вечером в урочный час Жан Вальжан явился на улицу Сестер страстей господних. «Госпожа баронесса вышли с господином бароном и еще не возвращались», – сказал ему Баск. Он молча уселся и прождал целый час. Козетта так и не вернулась. Он поник головой и ушел.
Козетта была в таком упоении от прогулки по «их саду» и так была рада «прожить целый день в минувшем», что на следующий вечер ни о чем другом не говорила. Она даже не вспомнила, что не видала накануне Жана Вальжана.
– Как вы добрались туда? – спросил ее Жан Вальжан.
– Пешком.
– А как вернулись?
– В наемной карете.
С некоторых пор Жан Вальжан замечал, что юная чета ведет очень скромный образ жизни. Это огорчало его. Мариус соблюдал строгую экономию, и Жан Вальжан видел в этом особый скрытый смысл. Он осмелился задать вопрос:
– Почему у вас нет собственного экипажа? Красивая двухместная карета стоила бы вам всего-навсего пятьсот франков в месяц. Ведь вы богаты.
– Не знаю, – отвечала Козетта.
– Вот и Тусен тоже, – продолжал Жан Вальжан. – Она ушла. А на ее место никого не наняли. Отчего?
– Нам достаточно и Николетты.
– Но вам, баронесса, нужна камеристка.
– А разве у меня нет Мариуса?
– Вам бы следовало иметь собственный дом, завести отдельную прислугу, иметь карету, ложу в театре. Нет ничего, что было бы слишком хорошо для вас. Почему вы не пользуетесь своим богатством? Богатство многое прибавляет к счастью.
Козетта ничего не ответила.
Посещения Жана Вальжана отнюдь не становились короче. Совсем напротив. Когда сердце скользит вниз, трудно остановиться на склоне.
Если Жану Вальжану хотелось затянуть свидание и заставить Козетту забыть о времени, он принимался расточать похвалы Мариусу: он находил его красивым, благородным, смелым, умным, красноречивым, добрым. Козетта поддакивала ему. Жан Вальжан начинал сызнова. Оба они были неистощимы. Тема «Мариус» казалась неисчерпаемой; в шести буквах его имени заключались целые томы. Таким способом Жану Вальжану удавалось задержаться подольше. Видеть Козетту, забывать обо всем возле нее – было так сладостно! Это словно врачевало его рану. Нередко случалось, что Баск раза по два являлся доложить: «Господин Жильнорман велел напомнить баронессе, что кушать подано».
В такие дни Жан Вальжан возвращался домой в глубокой задумчивости.
Была ли доля правды в том сравнении с куколкой бабочки, какое пришло в голову Мариусу? Не был ли действительно Жан Вальжан коконом, который упрямо продолжал навещать вылетевшую из него бабочку?
Однажды он задержался еще дольше обыкновенного. На следующий день он заметил, что в камине не развели огня. «Вот как! – подумал он. – Огня нет». И успокоил сам себя таким объяснением: «Вполне понятно. На дворе апрель месяц. Холода кончились».
– Бог ты мой, как здесь холодно! – воскликнула Козетта входя.
– Да нет, нисколько, – возразил Жан Вальжан.
– Значит, это вы запретили Баску развести огонь?
– Да. Ведь уж месяц май.
– Но печи топят до июня месяца. А этот погреб надо отапливать круглый год.
– Я подумал, что не к чему разжигать камин.
– Это опять одна из ваших выдумок! – возмутилась Козетта.
На другой день камин затопили. Но оба кресла были переставлены на другой конец залы, к самым дверям.
«Что это означает?» – подумал Жан Вальжан.
Он пошел за креслами и передвинул их на обычное место у камина.
Но зажженный огонь успокоил его. Он затянул беседу еще дольше обыкновенного. Когда он поднялся, собираясь уходить, Козетта проговорила:
– Вчера мой муж сказал мне одну странную вещь.
– Что же такое?
– Он сказал: «Козетта, у нас тридцать тысяч ренты. Двадцать семь принадлежит тебе, и три я получаю от деда». Я ответила: «Это составляет тридцать». А он говорит: «Хватило бы у тебя мужества жить только на три тысячи?» – «Конечно, – сказала я, – пускай и вовсе без ренты, лишь бы с тобой». И потом спросила его: «Зачем ты мне это говоришь?» А он ответил: «На всякий случай».
Жан Вальжан не проронил ни слова. Козетта, вероятно, ждала от него каких-нибудь объяснений; но он выслушал ее в угрюмом молчании. Он возвратился на улицу Вооруженного человека в такой глубокой задумчивости, что ошибся дверью, и вместо того чтобы взойти к себе, попал в соседний дом. Только поднявшись почти до третьего этажа, он обнаружил свою ошибку и спустился вниз.
Его обуревали мучительные мысли. Было очевидно, что Мариус сомневался в происхождении шестисот тысяч франков, опасаясь, не исходят ли они из какого-нибудь нечистого источника. Как знать, может быть, он даже открыл, что деньги принадлежат самому Жану Вальжану, и колебался принять это подозрительное состояние, брезговал вступить во владение им, предпочитая жить с Козеттой в бедности, чем пользоваться этим темным наследством.
Кроме того, Жан Вальжан начинал смутно чувствовать, что его выживают из дому.
На следующий день, при входе в залу нижнего этажа, он вздрогнул от неожиданности. Кресла исчезли. В комнате не было даже стула.
– Вот как! – вскричала Козетта входя. – Кресел нет! Куда же девались кресла?
– Их больше нет, – отвечал Жан Вальжан.
– Ну, это уж чересчур!
Жан Вальжан пробормотал:
– Это я велел Баску убрать их.
– Но почему же?
– Сегодня я останусь всего на несколько минут.
– Прийти на время – не значит все время стоять.
– Баску как будто понадобились кресла для гостиной.
– Зачем?
– Вероятно, вы ждете гостей нынче вечером.
– Мы никого не ждем.
Жан Вальжан не мог вымолвить больше ни слова.
Козетта пожала плечами.
– Велеть вынести кресла! Прошлый раз вы велели погасить огонь. До чего же вы странный!
– Прощайте! – прошептал Жан Вальжан.
Он не сказал: «Прощай, Козетта», но и не в силах был сказать: «Прощайте, сударыня».
Он вышел подавленный.
На этот раз он понял.
На другой день он не явился. Козетта вспомнила о нем только вечером.
– Что это? – сказала она. – Господин Жан не пришел сегодня?
Сердце у нее сжалось, но это было мимолетно, так как Мариус отвлек ее поцелуем.
Жан Вальжан не пришел и назавтра.
Козетта не обратила на это внимания, провела вечер как обычно, спала хорошо и подумала о нем, только проснувшись. Она была так счастлива! Она тотчас послала Николетту к г-ну Жану справиться, не заболел ли он и почему не приходил накануне. Николетта принесла ответ от г-на Жана. Он не болен. Он просто был занят. Он скоро придет. При первой же возможности. Впрочем, он собирается совершить небольшое путешествие. Г-жа Понмерси, вероятно, помнит, что он уезжал ненадолго время от времени. Пусть о нем не беспокоятся. Пусть о нем не думают.
Явившись к г-ну Жану, Николетта в точности передала ему слова своей госпожи: «Барыня посылает узнать, почему господин Жан не пришел накануне». – «Я не приходил целых два дня», – кротко поправил ее Жан Вальжан.
Но Николетта пропустила мимо ушей это замечание и ничего не сказала Козетте.
Глава 4. Притяжение и отталкивание.
В конце весны и в начале лета 1833 года редкие прохожие квартала Марэ, лавочники и ротозеи, слоняющиеся у ворот, заметили какого-то старика в черном, чисто одетого, который день за днем, неизменно в тот же час, с наступлением сумерек выходил с улицы Вооруженного человека, со стороны Сент-Круа-де-ла-Бретонри, миновав улицу Белых мантий, пересекал Ниву св. Екатерины и, выйдя на улицу Эшарп, поворачивал налево, на улицу Сен-Луи.
Там он замедлял шаги и брел, вытянув голову вперед, ничего не видя и не слыша, упорно устремив взгляд всегда в одну точку, которая казалась ему путеводной звездой и была не чем иным, как поворотом на улицу Сестер страстей господних. Чем ближе он подходил к этому углу, тем живее становился его взгляд; зрачки его загорались радостью, будто озаренные внутренним светом, лицо становилось восхищенным и растроганным, губы беззвучно шевелились, словно он говорил с кем-то невидимым; он улыбался какой-то бледной улыбкой и двигался вперед так медленно, как только мог. Можно было подумать, что он стремился к некоей цели и вместе с тем боялся минуты, когда окажется слишком близко от нее. Когда до улицы, которая чем-то влекла его, оставалось всего несколько домов, он замедлял шаг до такой степени, что порою могло показаться, будто он стоит на месте. Качающаяся его голова и пристальный взгляд вызывали представление о стрелке компаса, ищущей полюс. Как ни медлил он и как ни оттягивал своего приближения к цели, но волей-неволей все же достигал ее: он доходил до улицы Сестер страстей господних; там он останавливался, весь дрожа, с какой-то непонятной робостью высовывал голову из-за угла последнего дома и смотрел на эту улицу; и было в его трагическом взгляде что-то похожее на благоговение перед недостижимым и на отсвет потерянного рая. И тут крупные слезы, постепенно скопившиеся в уголках глаз, катились по его щекам, иногда задерживаясь у рта. Старик чувствовал тогда их горький вкус. Он стоял так несколько минут, словно окаменев; затем уходил домой тем же путем и тем же шагом, и по мере того как он удалялся, взор его угасал.
Мало-помалу старик перестал доходить до угла улицы Сестер страстей господних; он останавливался на полдороге, на улице Сен-Луи; иногда немного дальше, иногда чуть-чуть поближе. Как-то раз он остался на углу улицы Нива св. Екатерины и смотрел только издали на перекресток улицы Сестер страстей господних. Потом, молча покачав головой справа налево, как бы отказываясь от чего-то, он повернул обратно.
Вскоре он перестал доходить даже и до улицы Сен-Луи. Он достигал поворота на Мощеную улицу, качал головой и возвращался; некоторое время спустя он не шел дальше улицы Трех флагов; потом не выходил уже и за пределы улицы Белых мантий. Он напоминал маятник давно заведенных часов, колебания которого делаются все короче, перед тем как остановиться.
Каждый день он выходил из дому в один и тот же час, отправлялся тем же путем, но не доходил уже до конца и, может быть, сам того не сознавая, сокращал его все больше и больше. Лицо его выражало одну-единственную мысль: «К чему?» Зрачки потухли и никогда уже не загорались. Слезы иссякли, задумчивые глаза были сухи. Голова старика все еще тянулась вперед, подбородок по временам начинал дрожать; жалко было смотреть на его худую, морщинистую шею. Порою, в ненастную погоду, он держал под мышкой зонтик, но никогда не раскрывал его. Кумушки окрестных кварталов говорили: «Он не в своем уме». Ребятишки бежали следом и смеялись над ним.
Книга девятая. Непроглядный мрак, ослепительная заря.
Глава 1. Будьте милосердны к несчастным, будьте снисходительны к счастливым!
Как страшно быть счастливым! Как охотно человек довольствуется этим! Как он уверен, что ему нечего больше желать! Как легко забывает он, достигнув счастья, – этой ложной жизненной цели, – о цели истинной – долге!
Заметим, однако, что было бы несправедливо осуждать Мариуса.
Мы уже говорили, что до своего брака Мариус не задавал вопросов г-ну Фошлевану, а после брака опасался расспрашивать Жана Вальжана. Он сожалел о своем обещании, которое позволил вырвать у себя так опрометчиво. Он не раз говорил себе, что напрасно сделал эту уступку его отчаянию. Однако он ограничился тем, что мало-помалу старался отдалить Жана Вальжана от дома и по возможности изгладить его образ из памяти Козетты. Он как бы становился всегда между Козеттой и Жаном Вальжаном, уверенный в том, что, перестав видеть старика, она отвыкнет и думать о нем. Это было уже больше, чем исчезновение из памяти, – это было полное ее затмение.
Мариус поступал так, как считал необходимым и справедливым. Он полагал, что, без излишней жестокости, но и не проявляя слабости, надо удалить Жана Вальжана; на это у него были серьезные причины, о которых читатель уже знает, а кроме них, и другие, о которых он узнает позже. Ведя один судебный процесс, он случайно столкнулся со старым служащим дома Лафит и получил от него некие таинственные сведения, хотя и не искал их. Говоря правду, он не мог пополнить их уже из одного уважения к тайне, которую дал слово хранить, а также из сочувствия к опасному положению Жана Вальжана. В настоящее время он считал, что должен выполнить весьма важную обязанность, а именно: вернуть шестьсот тысяч франков неизвестному владельцу, которого разыскивал со всею возможной осторожностью. Трогать же эти деньги он пока воздерживался.
Козетта не подозревала ни об одной из этих тайн. Но и обвинять ее было бы жестоко.
Между нею и Мариусом существовал могучий магнетический ток, заставлявший ее невольно, почти бессознательно, поступать во всем согласно желанию Мариуса. В том, что относилось к «господину Жану», она чувствовала волю Мариуса и подчинялась ей. Муж ничего не должен был говорить Козетте: она испытывала смутное, но ощутимое воздействие его скрытых намерений и слепо им повиновалась. Не вспоминать о том, что вычеркивал из ее памяти Мариус, – в этом сейчас и выражалось ее повиновение. Это не стоило ей никаких усилий. Без ее ведома и без ее вины душа ее слилась с душой мужа, и все то, на что Мариус набрасывал мысленно покров забвения, тускнело и в памяти Козетты.
Не будем все же преувеличивать: в отношении Жана Вальжана это равнодушие, это исчезновение из памяти было лишь кажущимся. Козетта скорее была легкомысленна, чем забывчива. В сущности, она горячо любила того, кого так долго называла отцом. Но еще нежнее любила она мужа. Вот что нарушало равновесие ее сердца, клонившегося в одну сторону.
Случалось иногда, что Козетта заговаривала о Жане Вальжане и удивлялась его отсутствию. «Я думаю, его нет в Париже, – успокаивал ее Мариус. – Ведь он сам сказал, что должен куда-то поехать». «Это правда, – думала Козетта. – У него всегда была привычка вдруг пропадать. Но не так надолго». Два или три раза она посылала Николетту на улицу Вооруженного человека узнать, не вернулся ли г-н Жан из поездки. Жан Вальжан просил отвечать, что еще не вернулся.
Козетта успокаивалась на этом, так как единственным человеком, без кого она в этом мире обойтись не могла, был Мариус.
Заметим к тому же, что Мариус и Козетта сами были в отсутствии некоторое время. Они ездили в Вернон. Мариус возил Козетту на могилу своего отца.
Мало-помалу он отвлек мысли Козетты от Жана Вальжана. И Козетта не противилась этому.
В конце концов то, что в известных случаях слишком сурово именуется неблагодарностью детей, не всегда в такой степени достойно порицания, как полагают. Это неблагодарность природы. Природа, как говорили мы в другом месте, «смотрит вперед». Она делит живые существа на приходящие и уходящие. Уходящие обращены к мраку, вновь прибывающие – к свету. Отсюда отчуждение, роковое для стариков и невольное для молодых. Это отчуждение, вначале неощутимое, медленно увеличивается, как при всяком росте ветвей. Ветви, оставаясь на стволе, удаляются от него. И это не их вина. Молодость спешит туда, где радость, где праздник, к ярким огням, к любви. Старость шествует к концу жизни. Они не теряют друг друга из виду, но объятия их разомкнулись. Молодые проникаются равнодушием жизни, старики – равнодушием могилы. Не станем обвинять этих бедных детей.
Глава 2. Последние вспышки светильника, в котором иссякло масло.
Однажды Жан Вальжан спустился с лестницы, сделал несколько шагов по улице и, посидев недолго на той же самой тумбе, где в ночь с 5 на 6 июня его застал Гаврош погруженным в задумчивость, снова поднялся к себе. Это было последнее колебание маятника. Наутро он не вышел из комнаты. На следующий день он не встал с постели.
Привратница, которая готовила ему скудный его завтрак, – немного капусты или несколько картофелин, приправленных салом, – заглянула в его глиняную тарелку и воскликнула:
– Да вы не ели вчера, голубчик!
– Я поел, – возразил Жан Вальжан.
– Тарелка-то ведь совсем полна!
– Взгляните на кружку с водой. Она пуста.
– Это значит, что вы пили, но не значит, что вы ели.
– Но что же делать, если мне хотелось только воды, – отвечал Жан Вальжан.
– Это называется жаждой, а если при этом не хочется есть, это называется лихорадкой.
– Я поем завтра.
– А может, в Троицын день? Почему же не сегодня? Разве говорят: «Я поем завтра»? Подумать только, оставить мою стряпню нетронутой! Такая вкусная лапша!
Жан Вальжан, взяв старуху за руку, сказал ей ласково:
– Обещаю вам ее отведать.
– Я вами недовольна, – отвечала привратница.
Кроме этой доброй женщины, Жан Вальжан не видел ни одной живой души. Есть улицы в Париже, где никто не проходит, и дома, где никто не бывает. На одной из таких улиц, в одном из таких домов жил Жан Вальжан.
В то время когда он еще выходил из дому, он купил за несколько су у торговца медными изделиями маленькое распятие и повесил его на гвозде против своей кровати. Вот крест, который всегда отрадно видеть перед собой.
Прошла неделя, а Жан Вальжан не сделал ни шагу по комнате. Он все еще не покидал постели.
– Старичок, что наверху, больше не встает, ничего не ест, он долго не протянет, – говорила привратница своему мужу. – Верно, у него кручина какая-нибудь. Никто у меня из головы не выбьет, что его дочка неудачно вышла замуж.
Привратник ответил с полным сознанием своего мужского превосходства:
– Коли он богат, пускай позовет врача. Коли беден, пусть так обойдется. Коли не позовет врача, то помрет.
– А если позовет?
– Тоже помрет, – изрек муж.
Привратница принялась ржавым ножом выскребать траву, проросшую между каменными плитами, которые она называла «мой тротуар».
– Экая жалость. Такой аккуратный старичок. Беленький, как цыпленок, – бормотала она, выдергивая траву.
В конце улицы она вдруг заметила врача, пользующего жителей этого квартала, и решила сама попросить его подняться к больному.
– Это на третьем этаже, – сказала она. – Можете прямо войти к нему. Ключ всегда в двери, старичок больше не встает с постели.
Врач навестил Жана Вальжана и поговорил с ним.
Когда он спустился вниз, привратница начала свой допрос:
– Ну как, доктор?
– Ваш больной очень плох.
– А что у него?
– Все и ничего. Этот человек, по всей видимости, потерял дорогое ему существо. От этого умирают.
– Что ж он вам сказал?
– Он сказал, что чувствует себя хорошо.
– Вы еще вернетесь, доктор?
– Да, – сказал врач, – но надо, чтобы к нему вернулся не я, а кто-то другой.
Глава 3. Перо кажется слишком тяжелым тому, кто поднимал телегу Фошлевана.
Как-то вечером Жан Вальжан почувствовал, что ему трудно приподняться на локте; он тронул свое запястье и не нащупал пульса; дыхание было неровное, прерывистое; он ощутил большую слабость, чем когда-либо раньше. Тогда, по-видимому, чем-то сильно обеспокоенный, он с трудом спустил ноги с кровати и оделся. Он натянул на себя свою старую одежду рабочего. Не выходя больше из дому, он предпочитал ее всякой другой. Одеваясь, он много раз останавливался; продеть руки в рукава куртки ему стоило такого труда, что на лбу у него выступил пот.
С тех пор как Жан Вальжан остался один, он поставил свою кровать в прихожую, чтобы как можно реже бывать в опустевших комнатах.
Он открыл чемодан и вынул из него детское приданое Козетты.
Он разложил его на постели.
На камине, на обычном месте, стояли подсвечники епископа. Он достал из ящика две восковые свечи и вставил их в подсвечники. Потом, хотя было еще совсем светло, так как стояло лето, зажег их. Такие зажженные среди бела дня огни можно иногда видеть в домах, где есть покойник.
Каждый шаг, который он делал, передвигаясь по комнате, отнимал у него все силы, и ему приходилось отдыхать. Это не была обычная усталость после затраты сил, которые затем восстанавливаются; то были последние, еще доступные ему движения; то угасала жизнь, иссякая капля за каплей, в тягчайших усилиях, которым не дано возобновиться.
Стул, на который он тяжело опустился, стоял перед зеркалом, роковым для него и таким спасительным для Мариуса, – здесь он прочел перевернутый отпечаток письма на бюваре Козетты. Он увидел себя в зеркале и не узнал. Ему было восемьдесят лет; до женитьбы Мариуса ему едва давали пятьдесят; один год состарил его на тридцать лет. Морщины на его лбу не были уже приметой старости, но таинственной печатью смерти. В этих бороздах чувствовались следы ее неумолимых когтей. Его щеки отвисли, кожа на лице приобрела такой оттенок, словно ее уже покрывала земля, углы рта опустились, как на масках, высекаемых в древности на гробницах. Глаза смотрели в пустоту с немым укором. Его можно было принять за героя трагедии – жертву несправедливого рока.
Он дошел до того состояния, до той последней степени изнеможения, когда скорбь уже не ищет выхода, она словно застывает; в душе как бы образуется сгусток отчаяния.
Настала ночь. С трудом он передвинул к камину стол и старое кресло. Поставил на стол чернильницу, положил перо и бумагу.
После этого он потерял сознание. Придя в себя, он ощутил жажду. Слишком ослабевший, чтобы поднять кувшин с водой, он с усилием наклонил его ко рту и отпил глоток.
Потом, не покидая кресла, так как подняться уже не мог, он повернулся к постели и стал глядеть на черное платьице, на все эти бесценные сокровища.
Такое созерцание может длиться часами, которые кажутся минутами. Вдруг он вздрогнул, почувствовав, что его охватывает холод; тогда, облокотившись на стол, где горели светильники епископа, он взялся за перо.
Пером и чернилами давно никто не пользовался, кончик пера погнулся, а чернила высохли; он вынужден был встать, чтобы налить в чернильницу несколько капель воды; при этом он останавливался и присаживался два или три раза, а писать ему пришлось обратной стороной пера. Время от времени он стирал со лба пот.
Рука его дрожала. Медленно написал он несколько строк. Вот они:
«Козетта, благословляю тебя. Я все тебе объясню. Твой муж был прав, когда дал мне понять, что я должен уйти; хотя он немного ошибся в своих предположениях, но все равно, он прав. Он превосходный человек. Люби его крепко и после моей смерти. Господин Понмерси, всегда любите мое возлюбленное дитя. Козетта, здесь найдут это письмо, и вот что я хочу тебе сказать, ты узнаешь все цифры, если у меня хватит сил их вспомнить; слушай внимательно, эти деньги действительно твои. Вот в чем дело: белый гагат привозят из Норвегии, черный гагат привозят из Англии, черный стеклярус ввозят из Германии. Гагат легче, ценнее, дороже. Во Франции можно так же легко изготовлять искусственный гагат, как и в Германии. Для этого нужна маленькая, в два квадратных дюйма, наковальня и спиртовая лампа, чтобы плавить воск. Когда-то воск делался из смолы и сажи и стоил четыре франка фунт. Я изобрел состав из камеди и скипидара. Это намного лучше и стоит только тридцать су. Серьги делаются из фиолетового стекла, которое прикрепляют этим воском к тонкой черной металлической оправе. Стекло должно быть фиолетовым для металлических украшений и черным – для золотых, Испания их покупает очень охотно. Там любят гагат…».
Здесь он остановился, перо выпало у него из рук, короткое, полное отчаяния рыдание вырвалось из самых глубин его существа. Несчастный обхватил голову руками и задумался.
«О! – вскричал он мысленно (и это была жалоба, услышанная одним только богом), – все кончено. Я больше не увижу ее. Она словно улыбка, на мгновение озарившая мою жизнь. Я уйду в вечную ночь, даже не поглядев на Козетту в последний раз. О, только бы на минуту, на миг услышать ее голос, коснуться ее платья, поглядеть на нее, на моего ангела, и потом умереть! Умереть легко, но как ужасно умереть, не повидав ее! Она улыбнулась бы мне, сказала бы словечко. Разве это может причинить кому-нибудь вред? Но нет, все кончено, навсегда. Я совсем один. Боже мой, боже мой, я не увижу ее больше!».
В эту минуту в дверь постучались.
Глава 4. Ушат грязи, который мог лишь обелить.
В этот самый день, точнее, в этот самый вечер, когда Мариус, встав из-за стола, направился к себе в кабинет, чтобы заняться изучением какого-то судебного дела, Баск вручил ему письмо со словами: «Господин, который принес это письмо, ожидает в передней».
Козетта в это время под руку с дедом прогуливалась по саду.
Письмо, как и человек, может иметь непривлекательный вид. При одном только взгляде на грубую бумагу, на неуклюже сложенные страницы некоторых посланий сразу чувствуешь неприязнь. Письмо, принесенное Баском, было именно такого рода.
Мариус взял его в руки. Оно пахло табаком. Ничто так не оживляет память, как запах. И Мариус вспомнил этот запах. Он взглянул на адрес, написанный на конверте, и прочел: «Господину барону Понмерси. Собственный дом». Вспомнив запах табака, он вспомнил и почерк. Можно было бы сказать, что удивлению присуща догадка, подобная вспышке света. И одна из таких догадок осенила Мариуса.
Обоняние, этот таинственный помощник памяти, оживил в нем целый мир. Конечно, это была та же бумага, та же манера складывать письмо, синеватый цвет чернил, знакомый почерк, но, главное – это был тот же табак. Перед ним внезапно предстало логово Жондрета.
Итак – странный каприз судьбы! – один след из двух, так долго разыскиваемых, именно тот безнадежно потерянный след, ради которого еще недавно он потратил столько усилий, сам давался ему в руки.
Нетерпеливо распечатав конверт, он прочел:
«Господин барон,
Если бы Всевышний Бог одарил меня талантами, я мог бы стать бароном Тенар, членом Института (академия наук), но я не барон. Я только его однафомилец, и я буду щаслив, если воспоминание о нем обратит на меня высокое ваше расположение. Услуга, коей вы меня удостоите, будет взаимной. Я владею тайной, касающейся одной особы. Эта особа имеет отношение к вам. Эту тайну я придоставляю в ваше распоряжение, ибо желаю иметь честь быть полезным вашей милости. Я дам вам простое средство прагнать из вашего уважаемого симейства эту личность, которая втерлась к вам без всякого права, потому как сама госпожа баронесса высокого происхождения. Святая святых добродетели не может дольше сожительствовать с приступлением, иначе она падет.
Я ажидаю в пиредней приказаний господина барона.
С почтением».
Письмо было подписано: «Тенар».
Подпись не была вымышленной. Она просто была несколько укорочена.
Помимо всего, беспорядочная болтливость и самая орфография способствовали разоблачению. Авторство здесь устанавливалось неоспоримо. Сомнений быть не могло.
Мариус был глубоко взволнован. Его изумление сменилось чувством радости. Только бы найти ему теперь второго из разыскиваемых им лиц, – того, кто спас его, Мариуса, и ему ничего больше не оставалось бы желать.
Он выдвинул ящик письменного стола, вынул оттуда несколько банковых билетов, положил их в карман, запер стол и позвонил. Баск приотворил дверь.
– Попросите войти, – сказал Мариус.
Баск доложил:
– Господин Тенар.
В комнату вошел человек.
Новая неожиданность для Мариуса: вошедший был ему совершенно незнаком.
У этого человека, впрочем, тоже пожилого, были толстый нос, утонувший в галстуке подбородок, зеленые очки под двойным козырьком из зеленой тафты, прямые, приглаженные, с проседью волосы, закрывающие лоб до самых бровей, подобно парику кучера из аристократического английского дома. Он был в черном, сильно поношенном, но опрятном костюме; целая связка брелоков, свисавшая из жилетного кармана, указывала, что там лежали часы. В руках он держал старую шляпу. Он горбился, и чем ниже был его поклон, тем круглее становилась спина.
Но особенно бросалось в глаза, что костюм этого человека, слишком просторный, хотя и тщательно застегнутый, был явно с чужого плеча. Здесь необходимо краткое отступление.
В те времена в Париже, в старом, мрачном доме на улице Ботрельи, возле Арсенала, проживал один оборотистый еврей, промышлявший тем, что придавал любому негодяю вид порядочного человека; ненадолго, само собою разумеется, – в противном случае это оказалось бы стеснительным для негодяя. Превращение производилось тут же, на день или на два, за тридцать су в день, при помощи костюма, который соответствовал, насколько возможно, благопристойности, предписываемой обществом. Человек, дававший напрокат одежду, звался Менялой; этим именем окрестили его парижские жулики и никакого другого за ним не знали. В его распоряжении была обширная гардеробная. Старье, в которое он обряжал людей, было подобрано по возможности на все вкусы. Оно отражало различные профессии и социальные категории; на каждом гвозде его кладовой висело, поношенное и измятое, чье-нибудь общественное положение. Здесь мантия судьи, там ряса священника, тут сюртук банкира, в уголке – мундир отставного военного, дальше – костюм писателя или крупного государственного деятеля. Этот старьевщик являлся костюмером нескончаемой драмы, разыгрываемой в Париже силами воровской братии. Его конура служила кулисами, откуда выходило на сцену воровство и куда скрывалось мошенничество. Оборванный плут, зайдя в эту гардеробную, выкладывал тридцать су, выбирал себе для роли, какую намеревался в тот день сыграть, подходящий костюм и спускался с лестницы уже не громилой, а мирным буржуа. Наутро эти обноски честно приносились обратно, и Меняла, оказывая полное доверие ворам, никогда не бывал обворован. Эти одеяния имели одно только неудобство: они «плохо сидели», так как были сшиты не на тех, кто их носил. Они оказывались тесными для одних, болтались на других и никому не приходились впору. Любой мазурик, ростом выше или ниже среднего, чувствовал себя неудобно в костюмах Менялы. Они не годились ни для слишком толстых, ни для слишком тощих. Меняла имел в виду лишь средних по росту и по объему людей. Он снял мерку с первого забредшего к нему оборванца, ни тучного, ни худого, ни высокого, ни маленького. Отсюда необходимость приспосабливаться, временами трудная, с которой клиенты Менялы справлялись, как умели. Тем хуже для исключений из нормы! Одеяние государственного деятеля, например, – черное снизу доверху и, следовательно, вполне пристойное, – было бы чересчур широко для Питта и чересчур узко для Кастельсикала. Костюм «государственного деятеля» описывался в каталоге Менялы нижеследующим образом; приводим это место: «Черный суконный сюртук, черные шерстяные панталоны, шелковый жилет, сапоги и белье». Сбоку, на полях каталога, имелась надпись: «Бывший посол» и заметка, которую мы также приводим: «В отдельной картонке аккуратно расчесанный парик, зеленые очки, брелоки и две трубочки из птичьего пера длиною в дюйм, обернутые ватой». Все это предназначалось для государственного мужа, бывшего посланника. Костюм этот, если можно так выразиться, держался на честном слове; швы побелели, на одном локте виднелось что-то вроде прорехи; вдобавок спереди на сюртуке не хватало пуговицы. Впрочем, последнее не имело особого значения, так как рука государственного мужа, которой полагается быть заложенной за борт сюртука, могла служить прикрытием недостающей пуговице.
Если б Мариус был знаком с тайными заведениями Парижа, он тотчас бы узнал на посетителе, которого впустил к нему Баск, платье «государственного деятеля», позаимствованное в притоне Менялы.
Разочарование Мариуса при виде человека, обманувшего его ожидания, перешло в неприязнь к нему. Внимательно оглядев с головы до ног посетителя, пока тот отвешивал ему преувеличенно низкий поклон, Мариус спросил коротко:
– Что вам угодно?
Человек отвечал с любезной гримасой, о которой могла бы дать кое-какое представление лишь ласковая улыбка крокодила:
– Мне кажется просто невероятным, чтобы я до сих пор не имел чести видеть господина барона в свете. Я уверен, что встречал вас несколько лет тому назад в доме княгини Багратион и в салоне виконта Дамбре, пэра Франции.
Притвориться, что узнаешь человека, которого вовсе не знаешь, – излюбленный прием мошенников.
Мариус внимательно прислушивался к речи этого человека, следил за его произношением, за мимикой. Однако разочарование все возрастало: у посетителя был гнусавый голос, нисколько не похожий на тот резкий жесткий голос, который он ожидал услышать. Он был совершенно сбит с толку.
– Я не знаком ни с госпожой Багратион, ни с господином Дамбре, – сказал он. – Ни разу в жизни я не бывал ни в одном из этих домов.
Ответ был груб, однако незнакомец продолжал тем же вкрадчивым тоном:
– В таком случае, сударь, я, должно быть, видел вас у Шатобриана. Я с ним близко знаком. Он очень мил и частенько говорит мне: «Тенар, дружище… не пропустить ли нам по стаканчику?».
Выражение лица Мариуса становилось все более суровым.
– Никогда не имел чести быть принятым у господина Шатобриана. Ближе к делу. Что вам угодно?
На строгий тон Мариуса незнакомец ответил еще более низким поклоном.
– Господин барон, соблаговолите меня выслушать. В Америке, неподалеку от Панамы, есть селение Жуайя. Это селение состоит из одного-единственного дома. Большого квадратного трехэтажного дома из обожженных солнцем кирпичей. Каждая сторона квадрата равна в длину пятистам футам, каждый этаж отступает от нижнего на двенадцать футов в глубину, образуя перед собой площадку, которая идет вокруг всего здания; в центре его – внутренний двор, где хранятся проводольствие и боевые припасы. Окон нет – только бойницы, дверей нет – только лестницы; для подъема на первую площадку – приставная лестница, то же и с первой на вторую и со второй на третью; чтобы спуститься во внутренний двор – лестницы; вместо дверей в комнатах – люки, вместо обыкновенных лестниц – приставные. Ночью люки запирают, лестницы убирают, в бойницах прилаживают пищали и мушкеты. Войти внутрь никакой возможности; днем это дом, ночью – крепость; а всего там восемьсот жителей; вот каково это селение. А зачем столько предосторожностей? Потому что это опасное место: там полно людоедов. А зачем в таком случае ехать туда? Потому что это чудесный край: там много золота.
– К чему вы клоните? – прервал его Мариус, разочарование которого сменилось нетерпением.
– Вот к чему, господин барон. Я бывший дипломат, я устал от жизни. Старая цивилизация набила мне оскомину. Я хочу пожить среди дикарей.
– Дальше что?
– Господин барон, миром управляет эгоизм. Батрачка, работающая на чужом поле, обернется поглазеть на проезжий дилижанс, а крестьянка, работающая на своем поле, – не обернется. Собака бедняка лает на богача, собака богача лает на бедняка. Всяк за себя. Выгода – вот конечная цель людей. Золото – вот магнит.
– Дальше что? Договаривайте.
– Я хотел бы обосноваться в Жуайе. Нас трое. При мне моя супруга и моя дщерь, весьма красивая девица. Это путешествие долгое и дорого стоит. Мне нужно немного денег.
– Какое мне дело до этого? – спросил Мариус.
Незнакомец вытянул шею над галстуком, точно ястреб, и возразил с удвоенной любезностью:
– Разве господин барон не прочел моего письма?
Это предположение было недалеко от истины. Действительно, смысл письма лишь слегка коснулся сознания Мариуса. Он не столько читал его, сколько разглядывал почерк. Он почти не помнил, о чем там шла речь. Минуту назад в нем родилась новая догадка. В словах посетителя он отметил следующую подробность: «моя супруга и моя дщерь». Он устремил на незнакомца проницательный взгляд, которому позавидовал бы сам судебный следователь. Он словно нащупывал этого человека. В ответ он сказал только:
– Говорите яснее.
Незнакомец, заложив пальцы в жилетные карманы, поднял голову, не разгибая, однако, спины, и, тоже сверля Мариуса взглядом сквозь зеленые очки, сказал:
– Пусть так, господин барон. Я выражусь яснее. Я хочу продать вам одну тайну.
– Тайну?
– Да.
– Она касается меня?
– Да, отчасти.
– Что это за тайна?
Слушая этого человека, Мариус все внимательнее к нему приглядывался.
– Вступление я сделаю бесплатно, – сказал неизвестный. – Оно вас заинтересует, вот увидите.
– Говорите.
– Господин барон, у вас в доме живет вор и убийца.
Мариус вздрогнул.
– В моем доме? Нет, – сказал он.
Незнакомец, слегка почистив локтем свою шляпу, продолжал невозмутимо:
– Убийца и вор. Прошу заметить, господин барон, я не говорю здесь про старые, минувшие, забытые грехи, искупленные перед законом давностью лет, а перед богом – раскаянием. Я говорю о преступлениях совсем недавних, о делах, до сих пор еще неизвестных правосудию. Продолжаю. Этот человек вкрался в ваше доверие, почти втерся в вашу семью под чужим именем. Сейчас я скажу вам его настоящее имя. И скажу совершенно бесплатно.
– Я слушаю.
– Его зовут Жан Вальжан.
– Я это знаю.
– Я скажу вам, и тоже бесплатно, кто он такой.
– Говорите.
– Он бывший каторжник.
– Я это знаю.
– Вы это знаете лишь с той минуты, как я имел честь вам это сообщить.
– Нет. Я знал об этом раньше.
Холодный тон Мариуса, дважды произнесенное «я это знаю», суровый лаконизм его ответов всколыхнули в незнакомце глухой гнев. Он украдкой метнул в Мариуса бешеный взгляд, тут же притушив его. Как ни молниеносен был этот взгляд, он не ускользнул от Мариуса; такой взгляд, однажды увидев, невозможно забыть. Подобное пламя может разгореться лишь в низких душах; им вспыхивают зрачки – эти оконца мысли; за очками ничего не скроешь, – попробуйте загородить стеклом преисподнюю.
Неизвестный возразил, улыбаясь:
– Не смею противоречить, господин барон. Во всяком случае, вам должно быть ясно, что я хорошо осведомлен. А то, что я хочу сообщить вам теперь, известно мне одному. Это касается состояния госпожи баронессы. Это жуткая тайна. Она продается. Я ее предлагаю вам первому. Очень дешево. За двадцать тысяч франков.
– Мне известна эта тайна так же, как и другие, – сказал Мариус.
Незнакомец почувствовал, что должен немного сбавить цену.
– Господин барон, выложите десять тысяч франков, и я ее открою.
– Повторяю, что вам нечего мне сообщить. Я знаю, что вы хотите сказать.
В глазах человека снова загорелся огонь. Он вскричал:
– Но мне необходимо пообедать нынче! Это жуткая тайна, уверяю вас. Господин барон, я скажу. Я уже говорю. Дайте мне двадцать франков.
Мариус пристально посмотрел на него.
– Я знаю вашу «жуткую» тайну так же, как знал имя Жана Вальжана, как знаю и ваше имя.
– Мое имя?
– Да.
– Это нетрудно, господин барон. Я имел честь подписать свою фамилию и назвать ее. Я Тенар.
– …Дье.
– Как?
– Тенардье.
– Это кто такой?
В минуту опасности дикобраз топорщит свои иглы, жук-скарабей притворяется мертвым, старая гвардия строится в каре; а этот человек разразился смехом.
Вслед за тем он счистил щелчком пылинку с рукава своего сюртука.
Мариус продолжал:
– Вы также и рабочий Жондрет, и комический актер Фабанту, поэт Жанфло, испанец дон Альварес и, наконец, тетушка Бализар.
– Тетушка? Что такое?
– И у вас была харчевня в Монфермейле.
– Харчевня? Никогда.
– Говорю вам, что вы Тенардье.
– Я отрицаю это.
– И что вы негодяй. Берите!
И Мариус, вынув из кармана банковый билет, швырнул его в лицо незнакомцу.
– Благодарю! Извините! Пятьсот франков! Господин барон!
Пораженный, продолжая кланяться, человек подхватил билет и осмотрел его.
– Пятьсот франков! – повторил он, не веря своим глазам, и, заикаясь, пробормотал: – Солидный куш! Ладно, была не была, – воскликнул он внезапно. – Ну-ка, вздохнем посвободней!
С проворством обезьяны откинув волосы со лба, сорвав очки, вытащив из носа и тут же упрятав куда-то две трубочки из перьев, о которых мы упоминали, – читатель уже ознакомился с ними на другой странице нашей книги, – этот человек снял с себя личину так же просто, как снимают шляпу.
Глаза его заблестели, шишковатый, изрытый отвратительными морщинами лоб разгладился, нос вытянулся и стал острым, как клюв; снова выступил свирепый, хитрый профиль хищника.
– Господин барон весьма проницателен, – сказал он резким без малейшего следа гнусавости голосом. – Я Тенардье.
И он выпрямил свою сгорбленную спину.
Тенардье, ибо, конечно, это был он, не мог оправиться от изумления; он даже смутился бы, если был бы способен на это. Он пришел удивить, а был удивлен сам. За это унижение ему заплатили пятьсот франков, и он их принял охотно, что, однако, нисколько не уменьшило его растерянности.
Впервые в жизни он видел этого барона Понмерси, а барон Понмерси узнал его, несмотря на переодевание, и знал про него всю подноготную. И барон был не только в курсе дел Тенардье, но, казалось, и в курсе дел Жана Вальжана. Кто же этот человек, такой молодой, почти юнец, такой суровый и такой великодушный, который, ведая имена людей, – даже все их клички, – вместе с тем щедро открывает им свой кошелек, изобличает мошенников, как судья, и платит им, как простофиля?
Читатель помнит, что хотя Тенардье и был одно время соседом Мариуса, однако никогда его не видел, что нередко случается в Париже; он только слышал краем уха, как дочери упоминали об очень бедном молодом человеке, по имени Мариус, жившем в их доме. Он написал ему известное читателю письмо, не зная его в лицо. В мыслях Тенардье не могло возникнуть никакой связи между тем Мариусом и г-ном бароном Понмерси.
Что же до имени Понмерси, то на поле битвы при Ватерлоо он расслышал лишь два его последних слога – «мерси», к которым всегда испытывал законное презрение, как к ничего не стоящей благодарности.
Впрочем, при помощи своей дочери Азельмы, следившей по его приказу за новобрачными со дня свадьбы, и путем расследований, произведенных им самим, ему удалось кое-что разузнать; сам оставаясь в тени, он добился того, что распутал немало таинственных нитей. Благодаря своей ловкости он открыл, или, попросту, идя от заключения к заключению, догадался, кто был человек, встреченный им однажды в Главном водостоке. От человека он без труда добрался и до имени. Он узнал, что баронесса Понмерси и есть Козетта. Но здесь он решил действовать осмотрительно. Кто такая Козетта? В точности он и сам не знал. Он предполагал, конечно, что она незаконнорожденная, – история Фантины всегда казалась ему подозрительной. Но какая ему корысть говорить об этом? Чтобы ему уплатили за молчание? Он полагал, что мог продать кое-что и получше этого. Вдобавок, судя по всему, явиться к барону Понмерси, не имея доказательств, с разоблачением, вроде: «Ваша жена незаконнорожденная», значило бы лишь привести в тесное соприкосновение поясницу разоблачителя с сапогом мужа.
С точки зрения Тенардье, разговор его с Мариусом еще и не начинался. Правда, ему приходилось отступать, менять стратегию, оставлять позиции, перемещать фронт; однако ничто существенное еще не было выдано, а пятьсот франков уже лежали в кармане. Кроме того, он собирался сообщить нечто совершенно бесспорное и чувствовал свою силу даже перед этим бароном Понмерси, так хорошо осведомленным и так хорошо вооруженным. Для натур, подобных Тенардье, всякий разговор – сражение. Какую выбрать позицию в том бою, который он решился завязать? Он не знал, с кем говорит, но знал, о чем говорит. Молниеносно произвел он этот внутренний смотр своим силам и после слов: «Я Тенардье» выжидающе замолчал.
Мариус стоял в раздумье. Итак, он нашел наконец Тенардье. Человек, которого он так страстно желал отыскать, был здесь. Он может, следовательно, выполнить наказ полковника Понмерси. Его унижало сознание, что герой был чем-то обязан бандиту и что вексель, переданный отцом ему, Мариусу, из глубины могилы, до сих пор еще не погашен. При его сложном и противоречивом отношении к Тенардье ему представлялось также, что тем самым он отплатит за отца, имевшего несчастье быть спасенным таким мерзавцем. Как бы там ни было, он чувствовал удовлетворение. Наконец-то он мог освободить тень полковника от столь недостойного кредитора; ему казалось, будто он выводит из долговой тюрьмы память о своем отце.
Кроме этой обязанности, на нем лежала и другая: пролить свет, если удастся, на источник богатства Козетты. Такой случай как будто представлялся. Возможно, Тенардье было что-нибудь известно об этом. Узнать, что таится у него в душе, могло оказаться полезным. С этого и начал Мариус.
Тенардье упрятал «солидный куш» в свой жилетный карман и вперил в Мариуса ласковый, почти нежный взгляд.
– Тенардье, я сказал вам ваше имя. Теперь насчет тайны, которую вы собирались мне сообщить. Хотите, я скажу вам ее? У меня тоже есть сведения. Вы сейчас убедитесь, что я знаю больше вашего. Жан Вальжан, как вы сказали, убийца и вор. Вор потому, что он ограбил богатого фабриканта, господина Мадлена, совершенно его разорив. Убийца потому, что убил полицейского агента Жавера.
– Что-то не пойму, господин барон, – сказал Тенардье.
– Сейчас поймете. Слушайте. В округе Па-де-Кале, около тысяча восемьсот двадцать второго года, жил человек, который в прошлом был не в ладах с правосудием и который, под именем господина Мадлена, исправился и восстановил свое доброе имя. Человек этот стал в полном смысле слова праведником. Основав промышленное заведение, фабрику мелких изделий из черного стекла, он поднял благосостояние целого города. Он и сам приобрел состояние, но во вторую очередь и, так сказать, случайно. Он был благодетелем и кормильцем бедноты. Он основывал больницы, открывал школы, навещал больных, давал приданое девушкам, оказывал помощь вдовам, усыновлял сирот; он стал как бы опекуном этого города. Он отказался от ордена Почетного легиона; его избрали мэром. Один отбывший срок каторжник знал о совершенном некогда и неискупленном преступлении этого человека. Он донес на него и, добившись его ареста, воспользовался этим, чтобы самому отправиться в Париж и получить в банкирском доме Лафита – я знаю это со слов кассира – по чеку с подложной подписью сумму, превышающую полмиллиона франков, которая принадлежала господину Мадлену. Каторжник, обокравший господина Мадлена, и есть Жан Вальжан. Теперь насчет второго дела. О нем вы тоже не сообщите мне ничего нового. Жан Вальжан убил полицейского агента Жавера; убил его выстрелом из пистолета. Я сам при этом присутствовал.
Тенардье бросил на Мариуса торжествующий взгляд побежденного, который вновь держит в руках исход битвы и в один миг может отвоевать все потерянные позиции. Однако тут же угодливо улыбнулся; низшему надлежит сохранять смирение даже в победе, и Тенардье ограничился тем, что сказал Мариусу:
– Вы на ложном пути, господин барон.
И подчеркнул эту фразу, выразительно побренчав связкой брелоков.
– Как? – возразил Мариус. – Вы станете это оспаривать? Но это факты.
– Это чистая фантазия. Доверие, которым почтил меня господин барон, обязывает меня сказать ему это. Истина и справедливость прежде всего. Я не люблю, когда людей обвиняют несправедливо. Господин барон, Жан Вальжан вовсе не обкрадывал господина Мадлена, и Жан Вальжан вовсе не убивал Жавера.
– Вот это сильно сказано! Как же так?
– На это есть две причины.
– Какие же? Говорите!
– Вот первая: он не обокрал господина Мадлена, потому что сам Жан Вальжан и есть господин Мадлен.
– Что за вздор вы мелете?
– А вот и вторая: он не убивал Жавера, потому что убил Жавера сам Жавер.
– Что вы хотите сказать?
– Что Жавер покончил самоубийством.
– Докажите! Докажите! – вскричал Мариус вне себя.
Тенардье, скандируя фразу на манер античного александрийского стиха, продолжал:
– Жавер-агент-полиции-найден-утонувшим-под баркой-у моста-Менял.
– Докажите же это!
Тенардье вынул из бокового кармана широкий конверт из серой бумаги, где лежали сложенные листки самого различного формата.
– Вот мои документы, – сказал он спокойно.
И добавил:
– Господин барон, в ваших интересах я постарался разузнать о Жане Вальжане все досконально. Я утверждаю, что Жан Вальжан и Мадлен – одно и то же лицо, и я утверждаю, что Жавера никто не убивал, кроме самого Жавера. А раз утверждаю, значит, имею доказательства. И доказательства не рукописные, так как письмо не внушает доверия, его можно легко подделать – мои доказательства напечатаны.
С этими словами Тенардье извлек из конверта два пожелтевших номера газеты, выцветших и пропахших табаком.
Одна из этих газет, совершенно протертая на сгибах и распавшаяся на квадратные обрывки, казалась более старой, чем другая.
– Два дела, два доказательства, – заметил Тенардье и протянул Мариусу обе развернутые газеты.
Читателю знакомы эти газеты. Одна, более давняя, номер «Белого знамени» от 25 июля 1823 года, выдержки из которой можно прочесть во второй части этого романа, устанавливала тождество господина Мадлена и Жана Вальжана. Другая, «Монитер» от 15 июня 1832 года, удостоверяла самоубийство Жавера, присовокупляя, что, как явствует из устного доклада, сделанного Жавером префекту, он, будучи захвачен в плен на баррикаде на улице Шанврери, был обязан своим спасением великодушию одного из мятежников, который, взяв его на прицел, выстрелил в воздух, вместо того чтобы пустить ему пулю в лоб.
Мариус прочел. Перед ним были точные даты, неоспоримые, неопровержимые доказательства; не могли же оба эти номера газеты быть напечатаны нарочно, для подтверждения россказней Тенардье; заметка, опубликованная в «Монитере», являлась официальным сообщением полицейской префектуры. У Мариуса не оставалось сомнений. Сведения кассира оказались неверными, а сам он был введен в заблуждение. Образ Жана Вальжана, внезапно выросший, словно выходил из мрака. Мариус не мог сдержать радостного крика:
– Но, значит, этот несчастный – превосходный человек! Значит, все это богатство действительно принадлежит ему! Это Мадлен – провидение целого края! Это Жан Вальжан – спаситель Жавера! Это герой! Это святой!
– Он не святой и не герой, – сказал Тенардье. – Он убийца и вор.
И тоном человека, который начинает чувствовать свой авторитет, прибавил:
– Спокойствие!
Мариус снова услыхал эти слова: «вор, убийца», с которыми, казалось, было уже покончено; его как будто окатили ледяной водой.
– Опять! – воскликнул он.
– Да, опять, – ответствовал Тенардье. – Жан Вальжан не обокрал Мадлена, но он вор, не убил Жавера, но он убийца.
– Вы говорите о той ничтожной краже, совершенной сорок лет назад, которая искуплена, как явствует из ваших же газет, целой жизнью, полной раскаяния, самоотвержения и добродетели?
– Я говорю об убийстве и воровстве, господин барон. И, повторяю, говорю о совсем недавних событиях. То, что я хочу вам открыть, никому еще не известно. Это нигде не напечатано. Быть может, здесь-то вы и найдете источник богатств, которые Жан Вальжан ловко подсунул госпоже баронессе. Я говорю «ловко», потому что втереться при помощи такого подношения в почтенное семейство, делить с ним довольство, утаить тем самым свое преступление, пользоваться плодами кражи, скрыть свое имя и приобрести себе родню – это, что ни говори, ловкая штука.
– Я мог бы прервать вас здесь, – заметил Мариус, – однако продолжайте.
– Господин барон, я выложу все и предоставлю вам вознаградить меня, как подскажет ваше великодушие. Эту тайну надо ценить на вес золота. «Почему же ты не обратился к Жану Вальжану?» – спросите вы. Да по самой простой причине: я знаю, что он отказался от всего, и отказался в вашу пользу. Я нахожу, что это хитро придумано. Но больше у него нет ни гроша, он мне вывернет пустые карманы. А так как мне нужны деньги для поездки в Жуайю, я предпочитаю обратиться к вам: у вас есть все, у него ничего нет. Я немного устал, разрешите мне сесть.
Мариус сел сам и подал ему знак сесть. Тенардье, опустившись на мягкий стул, взял обе газеты, вложил их снова в конверт и пробормотал, постукивая пальцем по «Белому знамени»: «Не так-то легко было заполучить эту бумажонку». Потом, заложив ногу за ногу и откинувшись на спинку стула – поза, свойственная людям, уверенным в себе, – он с важностью начал, подчеркивая отдельные слова:
– Господин барон, шестого июня тысяча восемьсот тридцать второго года, примерно год тому назад, в самый день мятежа, один человек находился в Главном водостоке парижской клоаки, с той стороны, где водосток выходит на Сену, между мостом Инвалидов и Иенским мостом.
Мариус внезапно придвинул свой стул ближе к Тенардье. Тот заметил это движение и продолжал с медлительностью оратора, который овладел вниманием слушателя и чувствует, как трепещет сердце противника под ударами его слов:
– Человек этот, вынужденный скрываться по причинам, впрочем, совершенно чуждым политике, избрал клоаку своим жилищем и имел от нее ключ. Повторяю, это случилось шестого июня, вероятно, около восьми часов вечера. Человек услышал шум в водостоке. Очень удивленный, он прижался к стене и стал прислушиваться. Это был шум шагов; кто-то пробирался в темноте, кто-то шел в его сторону. Странное дело, в водостоке, кроме него, оказался еще человек. Решетка выходного отверстия находилась неподалеку. Слабый свет, проникавший через нее, позволил ему узнать этого человека и увидеть, что он что-то нес на спине и шел согнувшись. Тот, кто шел согнувшись, был беглый каторжник, а то, что он тащил на плечах, был труп. Убийца, захваченный с поличным, если здесь имело место убийство. Что же до ограбления, оно само собой разумеется. Задаром человека не убивают. Каторжник собирался бросить труп в реку. И вот что стоит отметить: чтобы добраться до выходной решетки, каторжник, пройдя через всю клоаку, не мог миновать на пути ужасную трясину, куда, казалось бы, мог сбросить труп. Но чистильщики клоаки на другой же день нашли бы убитого, а это не входило в расчет убийцы. Он предпочел перейти через топь со своей тяжелой ношей, хотя это стоило ему, должно быть, страшных усилий; большего риска для жизни невозможно себе представить. Не могу понять, как он выбрался оттуда живым.
Мариус придвинул стул еще ближе. Тенардье воспользовался этим, чтобы перевести дух. Затем он продолжал:
– Господин барон, клоака – не Марсово поле. Там всего в обрез, даже места. Если двое людей попадают туда, они неизбежно должны встретиться. Так оно и произошло. Старожил этих мест и прохожий, к крайнему своему неудовольствию, должны были столкнуться. Прохожий сказал старожилу: «Ты видишь, что у меня на спине, мне надо отсюда выйти; у тебя есть ключ, дай его мне». Этот каторжник – человек непомерной силы. Отказывать ему нечего было и думать. Тем не менее обладатель ключа вступил с ним в переговоры, единственно затем, чтобы выиграть время. Он оглядел мертвеца, но мог определить только, что тот молод, хорошо одет, с виду богат и весь залит кровью. Во время разговора он ухитрился незаметно для убийцы оторвать сзади лоскут от платья убитого. Вещественное доказательство, знаете ли, – средство напасть на след и заставить преступника сознаться в преступлении. Это вещественное доказательство человек спрятал в карман. Затем он отпер решетку, выпустил прохожего с его ношей за спиной, снова запер решетку и скрылся, вовсе не желая быть замешанным в это происшествие и в особенности не желая оказаться свидетелем того, как убийца будет бросать убитого в реку. Понятно вам теперь? Тот, кто нес труп, был Жан Вальжан; хозяин ключа беседует с вами в эту минуту; а лоскут от платья…
Не закончив фразы, Тенардье достал из кармана и поднял до уровня глаз зажатый между большими и указательными пальцами изорванный, весь в темных пятнах, обрывок черного сукна.
Устремив глаза на этот лоскут, с трудом переводя дыхание, весь бледный, Мариус поднялся и, не произнося ни слова, не спуская глаз с этой тряпки, отступил к стене; протянув назад правую руку, он стал шарить по стене возле камина, нащупывая ключ в замочной скважине стенного шкафа. Он нашел ключ, открыл шкаф и, не глядя, сунул туда руку; его растерянный взгляд не отрывался от лоскута в руках Тенардье.
Между тем Тенардье продолжал:
– Господин барон, у меня есть веское основание думать, что убитый молодой человек был богатым иностранцем, который имел при себе громадную сумму денег, и что Жан Вальжан заманил его в ловушку.
– Этот молодой человек был я, а вот и сюртук! – вскричал Мариус, бросив на пол старый окровавленный черный сюртук.
Потом, выхватив из рук Тенардье лоскут, он нагнулся и приложил к оборванной поле сюртука этот кусочек сукна. Он точно пришелся к месту, и теперь пола казалась целой.
Тенардье остолбенел от неожиданности. Он успел только подумать: «Эх, сорвалось!».
Мариус выпрямился, весь дрожа, охваченный и отчаянием, и радостью.
Он порылся у себя в кармане, в бешенстве шагнул к Тенардье и поднес к самому его лицу кулак с зажатыми в нем пятисотфранковым и тысячефранковым билетами.
– Вы подлец! Вы лгун, клеветник, злодей! Вы хотели обвинить этого человека, но вы его оправдали; хотели его погубить, но добились только того, что его возвеличили. Это вы вор! И это вы убийца! Я вас видел, Тенардье-Жондрет, в том самом логове на Госпитальном бульваре. Я знаю достаточно, чтобы упечь вас на каторгу, а если бы пожелал, то и дальше. Нате, вот вам тысяча, мерзавец вы этакий!
И он швырнул Тенардье тысячефранковый билет.
– Ага, Жондрет-Тенардье, подлый плут, пусть это послужит вам уроком, продавец чужих секретов, торговец тайнами, исследователь потемок, презренный негодяй! Берите еще пятьсот франков и убирайтесь вон! Вас спасает Ватерлоо.
– Ватерлоо? – проворчал пораженный Тенардье, распихивая по карманам билеты в пятьсот и тысячу франков.
– Да, бандит! Вы спасли там жизнь полковнику…
– Генералу, – поправил Тенардье, вздернув голову.
– Полковнику! – с горячностью крикнул Мариус. – За генерала я не дал бы вам ни гроша. И вы еще посмели прийти сюда бесчестить других! Говорю вам, что нет преступления, какого бы вы не совершили. Идите прочь! Скройтесь с моих глаз! И будьте счастливы – вот все, чего я вам желаю. А, изверг! Вот вам еще три тысячи франков. Держите. Завтра же вы уедете в Америку, вдвоем с вашей дочерью, так как жена ваша умерла, чудовищный враль! Я прослежу за вашим отъездом, разбойник, и перед тем, как вы уедете, отсчитаю вам еще двадцать тысяч франков. Отправляйтесь, пусть вас повесят где-нибудь в другом месте!
– Господин барон, – отвечал Жондрет, поклонившись до земли, – век буду вам благодарен.
И вышел вон, ничего не соображая, изумленный и восхищенный, раздавленный сладостным грузом свалившегося на него богатства и этой нежданной грозой, разразившейся над его головой банковыми билетами.
Правда, он был повержен наземь, но вместе с тем ликовал; было бы досадно, если бы при нем оказался громоотвод против подобных гроз.
Покончим тут же с этим человеком. Через два дня после описанных здесь событий он, с помощью Мариуса, выехал под чужим именем в Америку вместе с дочерью Азельмой, увозя в кармане переводной вексель на двадцать тысяч франков, адресованный банкирскому дому в Нью-Йорке. Нравственная низость этого неудавшегося буржуа Тенардье была неизлечимой; в Америке, как и в Европе, он остался верен себе. Достаточно дурному человеку иметь касательство к доброму делу, чтобы погубить его, обратив добро во зло. На деньги Мариуса Тенардье стал работорговцем.
Не успел Тенардье выйти из дому, как Мариус побежал в сад, где все еще гуляла Козетта.
– Козетта! Козетта! – закричал он. – Идем, идем скорее! Едем. Баск, фиакр! Идем, Козетта. Ах, боже мой! Ведь это он спас мне жизнь! Нельзя терять ни минуты! Накинь свою шаль.
Козетта подумала, что он сошел с ума, но повиновалась.
Он задыхался, он прижимал руки к сердцу, чтобы сдержать его биение. Он ходил взад и вперед большими шагами, он обнимал Козетту. «Ах, Козетта! Какой я негодяй!» – твердил он.
Мариус совершенно потерял голову. Он начинал прозревать в Жане Вальжане человека возвышенной, неразгаданной души. Перед ним предстал образ беспримерной добродетели, высокой и кроткой, смиренной при всем ее величии. Каторжник преобразился в святого. Мариус был ослеплен этим чудесным превращением. Он не давал себе полного отчета в том, что увидел, – он знал только, что увидел нечто великое.
Через минуту фиакр был у дверей. Мариус помог сесть Козетте и быстро уселся сам.
– Живей, – сказал он кучеру, – улица Вооруженного человека, дом семь.
Фиакр покатился.
– Ах, какое счастье! – воскликнула Козетта. – Улица Вооруженного человека. Я не смела тебе о ней говорить. Мы едем к господину Жану.
– К твоему отцу! Он теперь больше, чем всегда, твой отец, Козетта! Козетта, я догадываюсь. Ты говорила, что так и не получила моего письма, посланного с Гаврошем. Должно быть, оно попало ему в руки, Козетта, и он пошел на баррикаду, чтобы меня спасти. Его призвание – быть ангелом-хранителем, поэтому он мимоходом спасал и других; он спас Жавера. Он извлек меня из пропасти, чтобы отдать тебе. Он нес меня на спине по этому ужасному водостоку. Ах, я неблагодарное чудовище! Козетта, он был твоим провидением, а потом стал моим. Вообрази только, что там, в клоаке, была страшная яма, где можно было сто раз утонуть; слышишь, Козетта, утонуть в грязи! И он перенес меня через нее. Я был в обмороке, я ничего не видел, не слышал, ничего не знал о том, что приключилось со мною. Мы его сейчас увезем, заберем с собою, и, хочет не хочет, он не разлучится с нами больше. Только бы он был дома! Только бы нам застать его! Я буду молиться на него до конца дней моих. Да, Козетта, видишь ли, именно так и было. Это ему передал Гаврош мое письмо. Теперь все объяснилось. Понимаешь?
Козетта ничего не понимала.
– Ты прав, – сказала она.
Тем временем экипаж катился вперед.
Глава 5. Ночь, за которой брезжит день.
Услышав стук в дверь, Жан Вальжан обернулся.
– Войдите, – сказал он слабым голосом.
Дверь распахнулась. На пороге появились Козетта и Мариус.
Козетта бросилась в комнату.
Мариус остался на пороге, прислонившись к косяку двери.
– Козетта! – произнес Жан Вальжан и, протянув ей навстречу дрожащие руки, выпрямился в кресле, взволнованный, мертвенно-бледный, с выражением беспредельной радости во взоре.
Задыхаясь от волнения, Козетта припала к груди Жана Вальжана.
– Отец! – сказала она.
Жан Вальжан, потрясенный, повторял невнятным голосом:
– Козетта! Она! Вы, сударыня! Это ты! О господи! – И, ощутив объятия Козетты, вскричал: – Это ты! Ты здесь! Значит, ты меня прощаешь!
Мариус, полузакрыв глаза, чтобы сдержать слезы, сделал шаг вперед и прошептал, подавляя рыдания:
– Отец мой!
– И вы, и вы тоже прощаете меня! – сказал Жан Вальжан.
Мариус не мог вымолвить ни слова, и Жан Вальжан добавил:
– Благодарю вас.
Козетта сорвала с себя шаль и бросила на кровать свою шляпку.
– Мне это мешает, – сказала она.
Усевшись на колени к старику, она очаровательным движением откинула назад его седые волосы и поцеловала в лоб.
Жан Вальжан, совершенно растерянный, не противился.
Понимая лишь очень смутно, что происходит, Козетта удвоила свои ласки, как бы желая уплатить долг Мариуса.
Жан Вальжан шептал:
– Как человек глуп! Ведь я воображал, что не увижу ее больше. Представьте себе, господин Понмерси, что в ту минуту, когда вы входили, я говорил себе: «Все кончено. Вот ее детское платьице, а я, несчастный, никогда уже не увижу Козетту». Я говорил это в ту самую минуту, когда вы поднимались по лестнице. Ну не глупец ли я был? Вот как слепы люди! Они не принимают в расчет милосердия божьего. А милосердный господь говорит: «Ты думаешь, что все тебя покинули, бедняга? Нет. Да не будет так! Я знаю, что тут есть бедный старик, которому нужен ангел-утешитель». И ангел приходит, и человек получает свою Козетту. Он снова видит свою маленькую Козетту! Ах, как я был несчастен!
Он замолк на мгновение, будучи не в силах говорить, потом продолжал:
– Мне, право же, необходимо было видеть Козетту время от времени, хоть на один миг. Видите ли, сердцу тоже надо поглодать какую-нибудь косточку. И вместе с тем я чувствовал, что я лишний. Я убеждал себя: «Ты им не нужен, оставайся в своем углу, ты не имеешь права надоедать им вечно». Ах, слава богу, я снова вижу ее. Ты знаешь, Козетта, какой у тебя красивый муж? Что за славный вышитый воротничок на тебе, носи его на здоровье! Мне нравится этот рисунок. Это твой муж выбирал, правда? Но тебе нужны кашемировые шали. Господин Понмерси, позвольте мне говорить ей «ты». Это ненадолго.
А Козетта журила его:
– Как дурно с вашей стороны покидать нас таким образом! Куда же вы уезжали? Почему так надолго? Прежде ваши поездки продолжались не больше трех или четырех дней. Я посылала Николетту, а ей всегда отвечали: «Его нет». Когда вы вернулись? Почему не известили нас об этом? А знаете, вы ведь очень изменились. Как вам не стыдно, отец! Вы были больны, а мы и не знали об этом! Посмотри-ка, Мариус, тронь его руку, какая она холодная!
– И вы тоже здесь! Значит, вы меня прощаете, господин Понмерси? – повторял Жан Вальжан.
При этих словах, сказанных Жаном Вальжаном уже во второй раз, все, что переполняло сердце Мариуса, вырвалось наружу, он вскричал:
– Слышишь, Козетта? Он опять о том же, все просит у меня прощения! А знаешь, какое зло он мне причинил, Козетта? Он спас мне жизнь. Он сделал больше: дал мне тебя. А после того как он спас меня и дал мне тебя, знаешь, что он сделал с самим собой? Он принес себя в жертву. Вот что это за человек. И мне, неблагодарному, мне, забывчивому, мне, бессердечному, мне, виноватому, он говорит: «Благодарю вас». Козетта, провести всю мою жизнь у ног этого человека – и то было бы мало. Все, и баррикаду, и водосток, эту огненную печь, эту клоаку, – через все он прошел ради меня, ради тебя, Козетта! Он пронес меня сквозь тысячу смертей, отстраняя их от меня и подставляя им собственную грудь. Все, что есть на свете мужественного, добродетельного, героического, святого, – все в нем! Козетта, он ангел!
– Тише, тише! – прошептал Жан Вальжан. – К чему говорить все это?
– Ну, а вы! – вскричал Мариус и гневно и вместе с тем почтительно. – Почему вы сами ничего не говорили? В этом и ваша вина. Вы спасаете людям жизнь и скрываете это от них. Более того, под предлогом разоблачения вы клевещете сами на себя. Это ужасно!
– Я сказал правду, – ответил Жан Вальжан.
– Нет, – возразил Мариус, – правда – это правда до конца, а вы всего не сказали. Вы были господином Мадленом, почему вы не сказали этого? Вы спасли Жавера, почему вы не сказали этого? Я вам обязан жизнью, почему вы не сказали этого?
– Потому что я думал, как и вы. Я находил, что вы правы. Я должен был уйти. Если бы вы знали насчет клоаки, вы заставили бы меня остаться с вами. Значит, я должен был молчать. Если бы я сказал, это стеснило бы всех.
– Чем стеснило? Кого стеснило? – возмутился Мариус. – Не воображаете ли вы, что останетесь здесь? Мы вас увозим. О боже! Подумать только, что обо всем я узнал случайно! Мы вас увозим. Вы и мы – одно целое, неразделимое. Вы ее отец, и мой также. Ни единого дня вы не останетесь больше в этом ужасном доме. И не думайте, будто завтра вы еще будете здесь.
– Завтра, – сказал Жан Вальжан, – меня не будет здесь, но меня не будет и у вас.
– Что вы хотите этим сказать? – спросил Мариус. – Ну нет, мы не разрешим вам уехать. Вы не расстанетесь с нами больше. Вы принадлежите нам. Мы вас не отпустим.
– На этот раз уж мы не шутим, – добавила Козетта. – У нас внизу экипаж. Я вас похищаю. И если понадобится, применю силу.
И, смеясь, она сделала вид, будто поднимает старика.
– Ваша комната все еще ожидает вас, – продолжала она. – Если бы вы знали, как красиво сейчас в саду! Азалии так чудесно цветут. Все аллеи посыпаны речным песком, и в нем попадаются лиловые ракушки. Вы отведаете моей клубники. Я сама ее поливаю. И чтобы не было больше ни «сударыни», ни «господина Жана», мы живем в Республике, все говорят друг другу «ты», правда, Мариус? Политическая программа изменилась. Какое горе у меня стряслось, отец, если бы вы знали! В трещине, на стене, свил себе гнездышко реполов, а противная кошка съела его. Бедная моя хорошенькая птичка, она высовывала головку из гнезда и глядела на меня. Я так плакала о ней. Я просто убила бы эту кошку! Но сейчас никто больше не плачет. Все смеются, все счастливы. Вы поедете с нами. Как будет доволен дедушка! Мы отведем вам особую грядку в саду, вы возделаете ее, и тогда посмотрим, будет ли ваша клубника вкуснее моей. Я обещаю делать все, что вы хотите, только и вы должны меня слушаться.
Жан Вальжан слушал ее и не слышал. Он слушал музыку ее голоса, но не понимал смысла ее слов; крупные слезы – таинственные жемчужины души – медленно навертывались на его глаза. Он прошептал:
– Вот оно, доказательство, что господь милосерд: она здесь.
– Отец! – сказала Козетта.
Жан Вальжан продолжал:
– Правда, как было бы прекрасно жить вместе. На деревьях там полно птиц. Я гулял бы с Козеттой. Так радостно принадлежать к числу живых, здороваться друг с другом, перекликаться в саду. Быть вместе с самого утра. Каждый бы возделывал свой уголок в саду. Она угощала бы меня своей клубникой, я давал бы ей срывать мои розы. Это было бы восхитительно. Только…
Он остановился и тихонько сказал:
– Как жаль.
Жан Вальжан удержал слезу и улыбнулся.
Козетта сжала руки старика в своих руках.
– Боже мой! – воскликнула она. – Ваши руки стали еще холоднее! Вы нездоровы? Вам больно?
– Я? Нет, – ответил Жан Вальжан, – мне очень хорошо. Только… – Он замолчал.
– Только что?
– Я сейчас умру.
Козетта и Мариус содрогнулись.
– Умрете? – вскричал Мариус.
– Да, но это ничего не значит, – сказал Жан Вальжан.
Он вздохнул, улыбнулся и заговорил снова:
– Козетта, ты мне рассказывала, продолжай, говори еще. Стало быть, маленькая птичка умерла, говори, я хочу слышать твой голос!
Мариус глядел на старика, словно окаменев. Козетта испустила душераздирающий вопль:
– Отец! Отец мой! Вы будете жить! Вы должны жить! Я хочу, чтобы вы жили, слышите?
Жан Вальжан, подняв голову, с обожанием глядел на Козетту.
– О да, запрети мне умирать. Кто знает? Я, быть может, послушаюсь тебя. Я уже умирал, когда вы пришли. Это меня остановило, мне показалось, что я оживаю.
– Вы полны жизни и сил! – воскликнул Мариус. – Неужели вы думаете, что люди умирают вот так, сразу? У вас было горе, оно прошло, больше его не будет. Это я должен просить у вас прощения, прошу его на коленях! Вы будете жить, жить с нами, жить долго. Мы вас берем с собой. У нас обоих будет отныне одно лишь помышление – о вашем счастье!
– Ну вот, вы видите сами, – сказала Козетта вся в слезах, – Мариус тоже говорит, что вы не умрете.
Жан Вальжан все улыбался.
– Если вы и возьмете меня к себе, господин Понмерси, разве я перестану быть тем, что я есть? Нет. Господь размыслил, как я и вы, и он не меняет решений; надо, чтобы я ушел. Смерть – прекрасный выход из положения. Бог лучше нас знает, что нам надобно. Пусть господин Понмерси будет счастлив с Козеттой, пусть молодость соединится с ясным утром, пусть радуют вас, дети мои, сирень и соловьи, пусть жизнь ваша будет залита солнцем, как цветущий луг, пусть все блаженство небес снизойдет в ваши души, а я ни на что больше не нужен, пусть я умру; так надо, и это хорошо. Поймите, будем благоразумны, ничего нельзя уже поделать, я чувствую, что все кончено. Час тому назад у меня был обморок. А сегодня ночью я выпил весь этот кувшин воды. Какой добрый у тебя муж, Козетта! Тебе с ним гораздо лучше, чем со мной.
У дверей послышался шум. Вошел доктор.
– Здравствуйте и прощайте, доктор, – сказал Жан Вальжан. – Вот мои бедные дети.
Мариус подошел к врачу. Он обратился к нему с одним словом: «Сударь…», но в тоне, каким оно было произнесено, заключался безмолвный вопрос.
На этот вопрос доктор ответил лишь выразительным взглядом.
– Если нам что-либо не по душе, – молвил Жан Вальжан, – это не дает еще права роптать на бога.
Наступило молчание. У всех сжалось сердце.
Жан Вальжан обернулся к Козетте. Он стал смотреть на нее так сосредоточенно, словно хотел унести ее образ в вечность. На той глубине тьмы, куда он уже спустился, ему все еще доступно было чувство восхищения при виде Козетты. На бледном его челе словно лежало светлое отражение ее нежного личика. И у могилы есть свои радости.
Доктор пощупал ему пульс.
– А, так это по вас он тосковал! – проговорил он, глядя на Козетту и Мариуса. И, наклонившись к уху Мариуса, он добавил совсем тихо: – Слишком поздно.
Жан Вальжан, на миг оторвавшись от Козетты, окинул ясным взглядом Мариуса и доктора. Из уст его чуть слышно донеслось:
– Умереть – это ничего; ужасно – не жить.
Вдруг он встал. Такой прилив сил нередко является признаком начавшейся агонии. Уверенным шагом он подошел к стене, отстранил Мариуса и врача, желавших ему помочь, снял со стены маленькое медное распятие и, легко передвигаясь, точно здоровый человек, снова сел в кресло, положил распятие на стол и внятным голосом произнес:
– Вот великий страдалец!
Потом плечи его поникли, голова склонилась, словно опьяненная смертным хмелем, и сложенные на коленях руки стали царапать ногтями по материи.
Козетта, поддерживая его за плечи, и плакала, и пыталась говорить с ним, но безуспешно. Среди скорбных рыданий можно было уловить лишь отдельные слова: «Отец! Не покидайте нас! Неужели мы нашли вас только для того, чтобы снова потерять?».
Агония как бы ведет умирающего извилистой тропой: вперед, назад, то ближе к могиле, то обратно к жизни. Он движется навстречу смерти точно ощупью.
После этого полузабытья Жан Вальжан несколько оправился, встряхнул головой, точно сбрасывая нависшие над ним тени, к нему почти вернулось ясное сознание. Приподняв край рукава Козетты, он поцеловал его.
– Он оживает! Доктор, он оживает! – вскричал Мариус.
– Вы оба так добры! – сказал Жан Вальжан. – Я скажу вам, что меня огорчало. Меня огорчало то, господин Понмерси, что вы не захотели трогать эти деньги. Они вправду принадлежат вашей жене. Я сейчас объясню вам все, дети мои, именно потому я так рад вас видеть. Черный гагат привозят из Англии, белый гагат – из Норвегии. Об этом сказано в той вон бумаге, вы ее прочтете. Я придумал заменить на браслетах кованые застежки литыми. Это красивее, лучше и дешевле. Вы понимаете, как много денег можно на этом заработать? Стало быть, богатство Козетты принадлежит ей по праву. Я рассказываю вам эти подробности, чтобы вы были спокойны.
Поднявшаяся наверх привратница заглянула в приоткрытую дверь. Хотя врач и велел ей уйти, но не мог помешать заботливой старухе крикнуть умирающему перед уходом:
– Не позвать ли священника?
– У меня он есть, – ответил Жан Вальжан.
И он поднял палец вверх, словно указывая на кого-то над своей головой, видимого только ему одному.
Быть может, и в самом деле епископ присутствовал при этом расставании с жизнью.
Козетта осторожно подложила ему за спину подушку.
Жан Вальжан заговорил снова:
– Господин Понмерси, заклинаю вас, не тревожьтесь. Эти шестьсот тысяч франков действительно принадлежат Козетте. Если бы вы отказались от них, вся моя жизнь пропала бы даром! Мы достигли большого совершенства в этих стеклянных изделиях. Они могли соперничать с так называемыми «берлинскими драгоценностями». Ну можно ли равнять их с черным немецким стеклярусом? Целый гросс нашего, содержащий двенадцать дюжин отличных граненых бусин, стоит всего три франка.
Когда умирает дорогое нам существо, мы смотрим на него, стараясь как бы приковать его, как бы удержать его взглядом. Козетта и Мариус, взявшись за руки, стояли перед Жаном Вальжаном, онемев от горя, дрожащие, охваченные отчаянием, не зная, как спорить со смертью.
Жан Вальжан слабел с каждой минутой. Он угасал, он клонился все ниже к закату. Дыхание стало неровным и изредка прерывалось хрипом. Ему было трудно пошевелить рукой, ноги оцепенели; но по мере того как возрастали его слабость и бессилие, все яснее и отчетливее проступало на его челе величие души. Отблеск нездешнего мира уже мерцал в его глазах.
Улыбающееся его лицо бледнело все больше. В нем замерла жизнь, но засветилось нечто другое. Дыхание все слабело, взгляд становился все глубже. Это был мертвец, за спиной которого угадывались крылья.
Он знаком подозвал Козетту, потом Мариуса. Наступали, видимо, последние минуты последнего часа его жизни, и он заговорил слабым голосом, словно доносящимся издалека, – казалось, с этих пор между ними воздвиглась стена.
– Подойди, подойдите оба. Я очень вас люблю. Как хорошо так умирать! Ты тоже любишь меня, моя Козетта. Я знал, что ты всегда была привязана к твоему старику. Какая ты милая, положила мне за спину подушку! Ведь ты поплачешь обо мне немножко? Только не слишком долго. Я не хочу, чтобы ты горевала по-настоящему. Вам надо побольше развлекаться, дети мои. Я позабыл вам сказать, что на пряжках без шпеньков можно было больше заработать, чем на всем остальном. Гросс, двенадцать дюжин пряжек, обходился в десять франков, а продавался за шестьдесят. Право же, это было выгодное дело. Поэтому вас не должны удивлять эти шестьсот тысяч франков, господин Понмерси. Ведь это честно нажитые деньги. Вы можете со спокойной совестью быть богатыми. Вам надо завести карету, брать иногда ложу в театр, тебе нужны красивые бальные наряды, моя Козетта, вы должны угощать вкусными обедами ваших друзей и жить счастливо. Я сейчас писал об этом Козетте. Она найдет мое письмо. Ей я завещаю и два подсвечника, что на камине. Они серебряные, но для меня они из чистого золота, из брильянтов; простые свечи, вставленные в них, превращаются в алтарные. Не знаю, доволен ли мною там, наверху, тот, кто дал мне их. Я сделал все, что мог. Дети мои, не позабудьте, что я бедняк, похороните меня где-нибудь в сторонке и положите на могилу камень, чтобы обозначить место. Такова моя воля. Не надо никакого имени на камне. Если Козетте захочется иногда навестить меня, мне будет приятно. Это и к вам относится, господин Понмерси. Должен признаться вам, что я не всегда вас любил; простите меня за это. Теперь же она и вы для меня – одно. Я очень благодарен вам. Я чувствую, что вы дадите счастье Козетте. Если бы вы знали, господин Понмерси, как радовали меня ее милые румяные щечки; я огорчался, когда она хоть чуточку становилась бледнее. В ящике комода лежит пятисотфранковый билет. Я его не трогал. Это для бедных. Козетта, видишь свое платьице вон там, на постели? Ты узнаешь его? А с тех пор прошло только десять лет. Как быстро летит время! Мы были так счастливы. Кончено. Не плачьте, дети, я ухожу не так уж далеко, я вас увижу оттуда. А ночью, вы только вглядитесь в темноту, и вы увидите, как я вам улыбаюсь. Козетта, а ты помнишь Монфермейль? Ты была в лесу, и ты очень боялась; помнишь, как я поднял за дужку ведро с водой? Тогда я в первый раз дотронулся до бедной твоей ручонки. Она была такая холодная! Ах, барышня, какие красные ручки были у вас тогда и какие беленькие теперь! А большая кукла, помнишь ее? Ты назвала ее Катериной. Ты так жалела, что не могла взять ее с собой в монастырь. Как часто ты смешила меня, милый мой ангел! После дождя ты пускала по воде соломинки и смотрела, как они уплывают. Однажды я подарил тебе ракетку из ивовых прутьев и волан с желтыми, синими и зелеными перышками. Ты, верно, позабыла это. Маленькой ты была такая резвушка! Ты любила играть. Ты привешивала к ушам вишни. И все это кануло в прошлое. И леса, где я проходил со своей девочкой, и деревья, под которыми мы гуляли, и монастырь, где мы скрывались, и игры, и веселый детский смех – все стало тенью. А я воображал, что все это принадлежит мне. Вот в чем сказалась моя глупость. Тенардье были злые люди. Надо им простить. Козетта, пришло время сказать тебе имя твоей матери. Ее звали Фантина. Запомни это имя: Фантина. Опускайся на колени всякий раз, как будешь произносить его. Она много страдала. Она горячо тебя любила. Она была настолько же несчастна, насколько ты счастлива. Так положил господь бог. Он там, в вышине, среди светил, он всех нас видит и знает, что творит. Так вот, дети мои, я ухожу. Любите друг друга всегда. Любить друг друга – нет ничего на свете выше этого. Думайте иногда о бедном старике, который умер здесь. О моя Козетта, полно, я не виноват, что все это время не видел тебя, это разбивало мне сердце; я доходил только до угла улицы, люди, должно быть, считали меня чудаком, я был похож на помешанного, один раз я даже вышел из дому без шапки. Дети мои, я уже начинаю плохо видеть, мне надо было еще многое сказать вам, но все равно. Вспоминайте обо мне иногда. Да будет на вас благословение божие. Не знаю, что со мной, я вижу свет. Подойдите ближе. Я умираю счастливым. Дорогие, любимые, дайте возложить руки на ваши головы.
Козетта и Мариус, полные отчаяния, задыхаясь от слез, опустились на колени и припали к его рукам. Но эти святые руки были уже недвижимы.
Он откинулся назад, его озарял свет двух подсвечников; бледное лицо глядело в небо, он не мешал Козетте и Мариусу покрывать его руки поцелуями; он был мертв.
Беззвездной, непроницаемо темной была ночь. Наверное, в этом мраке стоял некий ангел с широко распростертыми крыльями, готовый принять отлетевшую душу.
Глава 6. Трава скрывает, дождь смывает.
На кладбище Пер-Лашез, неподалеку от общей могилы и в стороне от нарядного квартала этого города усыпальниц, вдалеке от причудливых надгробных памятников, выставляющих перед лицом вечности отвратительные моды смерти, в уединенном уголке, у подножия старой стены, под высоким тисом, обвитым вьюнком, среди сорных трав и мхов лежит камень. Камень этот не меньше других поражен проказой времени: он покрыт плесенью, лишаями и птичьим пометом. Он позеленел от дождя и почернел от воздуха. Возле него нет ни одной тропинки; в эту сторону заходить не любят, так как трава здесь высока и можно промочить ноги. Лишь только проглянет солнце, сюда собираются ящерицы. Кругом шелестят стебли дикого овса. Весной на дереве распевают малиновки.
Это совсем голый камень. Его высекли таким, какой нужен для могилы, и лишь о том позаботились, чтобы он был достаточной длины и ширины и мог покрыть человека.
На нем не стоит никакого имени.
Только, вот уже много лет назад, чья-то рука написала на камне эти четыре строчки, которые с каждым днем становилось все труднее разобрать из-за дождя и пыли и которые теперь, вероятно, уже стерлись: