Рабы свободы: Документальные повести.
«Хранить вечно» или «совершенно секретно»?
Как все началось? Как было? Как пришли ко мне герои этой книги — писатели, поэты и мудрецы, аскеты и пожиратели жизни, побежденные и победители — рабы свободы, той невиданной в истории иллюзорной свободы, которая была провозглашена на одной шестой части Земли в двадцатом веке? Или это я пришел к ним?..
В самый канун 1988 года я закончил книгу стихов. Поставил точку, разрешился от бремени. Внутри образовалась та сосущая пустота, провал, воронка, которая зарастает не сразу, а со временем, когда туда попадает семя нового замысла. Огляделся вокруг. Жизнь казалась непредсказуемой.
Непредсказуемостью дышала в тот момент вся страна — впервые с 1917 года. Кипела перестройкой. Стоячее социальное болото, в которое мы были погружены, всколыхнулось и вздыбилось. Вдруг до всех дошло, что так дольше жить нельзя, что можно жить по-другому. Но вот как надо жить — не знал никто. На эволюцию прогнившая советская система была неспособна, начался ее стремительный и мучительный распад, гибель. И в агонию эту так или иначе был втянут каждый человек. Наступала другая эпоха.
И что было важнее всего — прийти в сознание, очнуться от безмыслия и бесправия, вернуть себе достоинство. И память. Ведь наше прошлое, история наша отняты у нас, уродливо искажены. Все это относится и к литературе. В той войне, какую власть вела со своим народом, писатель — одна из самых выбитых профессий.
Слово, литература всегда занимала особое, исключительное место в русской жизни. Литература была в России не только искусством, но общественным парламентом за отсутствием такового в политике, гласом совести и правды. За Слово у нас убивали — так высоко оно ценилось. Сколько их, художников слова, погибло на этой голгофе?
Но у писателя свои счеты со временем. Жизнь его не обрывается физической смертью. Писатель жив, пока его читают. Людей, погибших от репрессий, не воскресить, но писателей — можно. Нужно только дать им слово. А слово их — рукописи, может быть, еще живы, замурованные где-то в секретных хранилищах, запрятанные в домашних архивах от гэбэшного сглаза, и ждут своего часа, взывают к нам.
«Хранить вечно» и «Совершенно секретно» — две такие надписи стоят на следственных делах репрессированных. Не пора ли разделить: возьмите себе то, что действительно «Совершенно секретно», и отдайте нам, обществу, что надо «Хранить вечно» — нашу историю, культуру — ведь только то, что становится достоянием гласности, и хранится вечно, спасается от забвения.
Ясно, что одному такого дела не поднять. В одиночку Лубянку не возьмешь.
И я настрочил заявление — обращение ко всем писателям:
Уважаемые коллеги!
Вношу такое предложение.
За годы советской власти было арестовано около двух тысяч литераторов, около полутора тысяч из них погибли в тюрьмах и лагерях, так и не дождавшись свободы. Цифры эти, конечно, не полные, уточнить их пока невозможно. «Хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список и негде узнать…» (Ахматова). Обстоятельства и даты смерти этих писателей замалчиваются или фальсифицированы, биографии зияют провалами, в энциклопедиях и справочниках приводятся неверные данные.
И самое важное. Во время арестов писателей их рукописи и архивы изымались и оседали в секретных хранилищах. Есть надежда, что какая-то часть уцелела. Попробуем спасти! Распечатаем черный ящик! Только теперь, в условиях развивающейся демократии и гласности, в пору, будем верить, не «оттепели», а настоящей весны, появилась такая возможность. Посмотрим, в конце концов, горят ли рукописи! Погибших не воскресить, но мы можем и должны компенсировать духовное ограбление народа.
Предлагаю создать при Союзе писателей специальную комиссию, которая займется этим святым делом. Состав комиссии должен быть избран демократическим путем — при общем обсуждении и голосовании.
5 Января 1988 г.
Одним из первых идею комиссии поддержал Булат Окуджава. В его доме мы и собрались для совета. Пришли поэт Анатолий Жигулин, бывший узник Колымы, и Олег Васильевич Волков, патриарх нашей литературы, двадцать семь лет проведший в лагерях и ссылках. Позвонили прозаикам Камилю Икрамову и Юрию Давыдову, тоже имевшим печальный лагерный опыт, известному публицисту Юрию Карякину — и он, хоть и не был за решеткой, немало натерпелся от властей. Получилось нечто вроде инициативной группы.
Встала еще проблема. Как соединить демократов по убеждениям, которые находились в оппозиции к официальной линии Союза писателей, и руководство его, правоверных коммунистов-функционеров, без которых, как стало ясно, тоже нельзя было обойтись?
Убедил мой друг, поэт Владимир Леонович:
— Пусть и «нечестивые» делают хорошие дела, это их шанс проявить себя с лучшей стороны…
Необходимо было еще связаться с писателями из Ленинграда, Сибири, других республик Союза — чтобы в комиссии была представлена вся страна. И тут дело сладилось: к нам присоединились Виктор Астафьев, Геворк Эмин, Чобуа Амирэджиби… Это уже была крепкая опора.
На пробивание «безумной идеи» ушел целый год. Пришлось продираться сквозь частокол бюрократических рогаток. Сколько раз я слышал: это невозможно! так не положено! так не делается! Или: ждите, нужно обмыслить, посоветоваться с товарищами…
Идею мою перебрасывали, как мячик, но все по горизонтали, вверх никто не пасовал. Со стола на стол — на каждом стоял телефон, но никто не смел набрать заповедный номер решающей инстанции — ЦК КПСС или того паче КГБ — мыслимое ли дело?!
И все-таки идея двинулась по ступенькам советской иерархии, неуверенно, но вверх: со стола парторга Союза писателей — в горком партии — в ЦК КПСС — и, наконец, в Политбюро ЦК КПСС. И заиграл бы ее вконец главный «застрельщик всех начинаний и свершений», не попади она на стол «архитектору» перестройки — Александру Яковлеву. И тут случилось чудо. При его мощной поддержке дело закрутилось: Прокуратура и КГБ получили указание помочь писательской инициативе. Без этого ничего тогда не удалось бы сделать. Нас услышали!
В декабре 1988-го в газетах появилось сообщение о создании Всесоюзной комиссии по творческому наследию репрессированных писателей. Теперь она обрела законный статус в пределах СССР. Мог ли я думать, что пройдет совсем немного времени, и СССР исчезнет, а вместе с ним испарится Союз советских писателей?
Но идея выживет…
А тогда, тогда на заседания Комиссии съезжались писатели со всей страны. Кипели яростные споры, бурные обсуждения. Оказалось, повсюду — от Балтики до Тихого океана — есть энтузиасты, бережно собирающие и хранящие память о самом трагическом периоде истории нашей литературы. Письма, бандероли, телефонные звонки — люди присылали, приносили стихи, прозу, воспоминания, документы, фотографии и рисунки, приезжали из других городов, чтобы отдать то, что они писали и прятали годами и десятилетиями, под угрозой обысков и арестов. Тут было свое и чужое, переданное кем-то на хранение, случайно уцелевшее, известных, малоизвестных и вовсе неизвестных авторов. Вот, возьмите, напечатайте! Теперь, мы верим, не отберут, не уничтожат…
Лучшее мы сразу же публиковали — в газетах, журналах, стали выпускать и сборники, книги — одну за другой. Репрессированное, потаенное Слово нашло наконец выход к читателю. «Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне — дна…».
Услышали нас и те, кто увидел в нас своих врагов, кто или сам принимал участие в репрессиях, или оправдывал их. Права Ахматова: две России глянули друг другу в глаза — «та, что сажала, и та, которую посадили». Палачи и стукачи преспокойно разгуливали среди нас и, в отличие от своих жертв, обеспеченные долголетием и здоровьем, пережидали перестройку в своих благополучных квартирах и на дачах с надеждой на ее скорый конец.
— Вы не имеете никакого права этим заниматься! Вы еще об этом пожалеете! — раздавались анонимные звонки.
Были такие и среди писателей. Они боялись: в случае открытия лубянских архивов их имена всплывут — и плодотворная работа в жанре доноса получит массового читателя. Но больше было таких, кто не принимал нашей инициативы просто по убеждениям, — твердокаменных, неизлечимых сталинистов.
Трагический список — первые тринадцать имен из мартиролога нашей литературы — попал в Политбюро ЦК, а оттуда в Прокуратуру и, наконец, в КГБ вместе с моим заявлением:
Исаак Бабель, Артем Веселый, Александр Воронский, Николай Гумилев, Иван Катаев, Николай Клюев, Михаил Кольцов, Осип Мандельштам, Борис Пильняк, Иван Приблудный, Дмитрий Святополк-Мирский, Павел Флоренский, Александр Чаянов…
Лубянка — крепость в центре Москвы, из сросшихся между собой многоэтажных тяжелых зданий, подкованных гранитом, соединенных надземными и подземными коридорами, увитых лестницами, облепленных, как жуками, черными машинами. А перед ней, посреди площади, срывающейся вниз к театрам и гостиницам, Манежу и университету, — памятник Дзержинскому. Воткнут в небо, прямой, как штык, — Железный Феликс, в шинели до пят, зорко озирающий с высоты гудящую столицу.
Каждый гражданин нашей необъятной державы знал, что он живет под прицелом Лубянки, что в любую минуту в его жизнь может вмешаться Лубянка и сделает с ним, что захочет, и защиты от Лубянки нет.
Сколько же судеб переломала и перемолола эта фабрика страха и смерти, сколько душ здесь просквозило и сгинуло! Пулеметной очередью прострочило нашу историю: ЧК — ОГПУ — НКВД — МГБ — КГБ… И ни один человек из двухсот с лишним миллионов не уберегся, не остался в стороне — все так или иначе пострадали и если не гибли физически, то жили в страхе, с контуженым сердцем, изувеченной совестью, деформированным сознанием, — никто не был вполне свободным, полноценным человеком.
Камни Лубянки обдавали враждебностью, смертельным холодом, зашторенные окна зияли слепыми бельмами. Никогда не думал, что мне будет суждено войти туда и даже работать там, читать и перечитывать залитые слезами и кровью документы истории, искать истину, спасать и воскрешать арестованное Слово.
На пробивание «безумной идеи» ушел год, еще почти год ушел на то, чтобы получить доступ к первому архивному делу Лубянки. Такая работа в круг обязанностей хранителей государственных тайн не входила. Мы пришли туда с прямо противоположной целью — открыть то, что они столько лет старательно прятали. Да и как преодолеть государственный запрет — «Совершенно секретно»? Закон устарел, стал анахронизмом, но продолжает сковывать жизнь. Как обойти закон? Пришла пора срывать с нашей истории мертвящие грифы.
Массивные тройные двери впускают с шумной, душной площади в просторный прохладный вестибюль. Пристальные прапорщики проверяют пропуск, внимательно изучают паспорт. Широченная лестница, и над ней — белый бюст Андропова. Бесконечный коридор с высоким потолком — можно кататься на велосипеде или скакать на коне, по сторонам вереница дверей. Тихо, пустынно. Судя по всему, антураж за многие годы мало изменился. Все как тогда?..
Небольшой кабинетик на третьем этаже. Белые шторки скрывают улицу. На столе — пухлая желтоватая папка.
Полковник Анатолий Краюшкин, которому поручено наше дело, усмехается:
— Кажется, вы первый писатель, который пришел сюда добровольно… Куда мне вас посадить?..
Мы переглянулись и расхохотались.
— Как ты можешь ходить туда? — спрашивали меня. — Как можешь иметь дело с гэбистами?
Туда, но не к ним — к сотням заточенных и приговоренных к неволе и смерти писателей, которые сами уже не могут постоять за себя. И еще к сотням других, которые не были арестованы, но преследовались Лубянкой всю жизнь…
Пухлая желтоватая папка… Первым человеком, чью трагедию удалось приоткрыть, был Исаак Бабель.
Прошу меня выслушать. ИСААК БАБЕЛЬ.

Арест.
«Активное следствие».
Собственноручное показание.
Допрос.
Донос.
Обвинение Приговор.
Реабилитация.
Арест.
Пятнадцатое мая 1939 года. Раннее утро. Москва еще спит под мирное чириканье птиц. Изредка каркнет ворона, поскребет метлой дворник — и снова все тихо.
В пять часов железные ворота Лубянки, раскрывшись, выпускают оперативную машину — путь недалек, к Чистым прудам, в Большой Николо-Воробинский переулок. Несколько военных выходят возле дома № 4, деловито находят квартиру № 3, стучат.
Открывает заспанная молодая женщина.
— Хозяин дома?
— Нет, он на даче. А в чем дело?
— Собирайтесь, поедем за вашим мужем…
Машина мчится по Минскому шоссе, сворачивает в Переделкино — дачный поселок писателей.
Подъехали к дому, входят. Хозяин спит в своей комнате. Жена стучит в дверь, и, только он появляется на пороге, гости бросаются к нему:
— Руки вверх! — Шарят по телу, ищут оружие. — Вы арестованы!
Подобную сцену, возможно, описал бы в своей книге о чекистах хозяин дачи, если бы успел закончить эту книгу. Но в то майское утро он, всемирно известный мастер советской литературы, стал бесправным арестантом. Писатель теперь сам превращался в одного из своих героев и должен был пройти весь его путь — не на бумаге, а в жизни. Отныне ему с помощью усердных соавторов и редакторов из НКВД суждено выполнить «социальный заказ» и сочинить из себя — своего двойника, шпиона и террориста, врага народа. Сочинение это будет фантасмагорией с трагическим концом, с тем условием, что автор-герой погибнет не в воображении, а на самом деле. И переписать, исправить и переделать уже ничего будет нельзя, ибо жизнь, как известно, не знает черновиков, пишется один раз и сразу начисто.
Имена действующих лиц и события тоже будут не вымышленными, а подлинными, такими, какими они были в действительности.
Писателя зовут Исаак Бабель. Арестовать его приказал нарком внутренних дел Лаврентий Берия[1], а проводят операцию старательные его подчиненные во главе с младшим лейтенантом Назаровым.
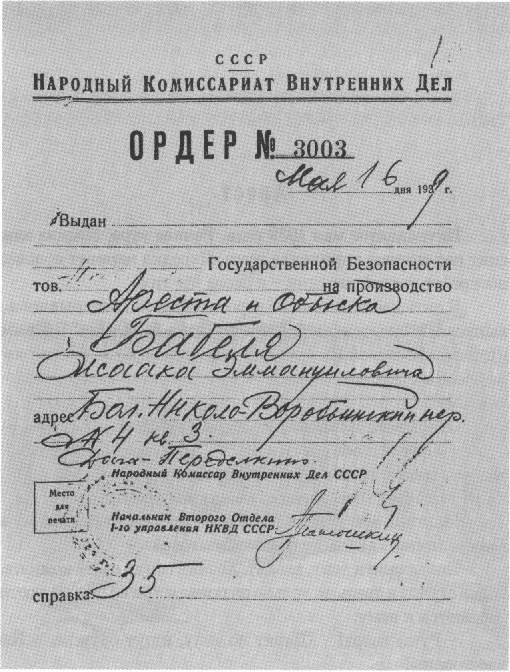
Ордер на арест и обыск И. Э. Бабеля.
Оформлен на следующий день после ареста, задним числом.
16 Мая 1939 года.
Пока шел обыск, Бабель с женой молча сидели, держа друг друга за руки. Смотрели, как складывают и завязывают бумаги: девять папок рукописей, записные книжки, письма — труд писателя вместе с ним тоже отправлялся за решетку.
— Не дали закончить, — сказал Бабель. И шепнул тихо жене: — Сообщите Андрею, — он имел в виду своего друга, французского писателя Андре Мальро.
По дороге Бабель пытался шутить, спросил сопровождающих:
— Что, спать приходится мало? — И снова вполголоса жене: — Я вас очень прошу, чтобы наша девочка не была жалкой…
Двери Лубянки заглотнули машину. И пятнадцать лет — до 1954 года — о Бабеле ничего достоверно не будет известно.
Шел обыск и на московской квартире. Взяли еще пятнадцать папок рукописей, восемнадцать блокнотов и записных книжек, пятьсот семнадцать писем, открыток и телеграмм, сто десять фотографий, «разной переписки» — двести пятьдесят четыре листа… Выдирали даже страницы из книг с дарственными надписями.
Теперь мы знаем, какое наследие Бабеля попало на Лубянку — на несколько томов!
Тем временем там обыскивали самого Бабеля, потрошили старый чемоданчик, взятый им с собой. «Взяли на учет» ключи от дома, и даже необходимые мелочи: зубную пасту, крем для бритья, помочи, резинки для носков, мыльницу, губку для бани и, как указано в квитанции, пришитой к делу, — «ремешок старый от старых сандалий»…
Тут был точный, продуманный расчет: раздевали, оголяли человека, сдирали с него последние следы вещественного мира, соединяющие с привычным бытом, с семьей, чтобы сделать беспомощным и ничтожным: что ты есть, один, — немыт и небрит, штаны сползают, обувь не держится — против сокрушительной мощи великого государства?
Затем Бабеля фотографировали, снимали отпечатки пальцев, дали заполнить анкету. И тут не просто формальная процедура: ты не можешь не думать — этот снимок не последний ли в твоей жизни? Отпечатки намекают — ты преступник; анкета означает — давай выворачивай нам свою жизнь, а мы посмотрим, чего она стоит, нет ли там темных пятен.
…Родился в 1894 году в Одессе… Писатель… Беспартийный… Еврей… Последнее место службы — Союздетфильм, Гослитиздат… Образование — высшее, Киевский коммерческий институт…
Состав семьи: отец — торговец, умер в 1924 г.; мать — Бабель Фаня Ароновна, семьдесят пять лет, домашняя хозяйка, проживает в Бельгии; жена — Пирожкова Антонина Николаевна, тридцать лет, инженер Метростроя; дети — дочь Лидия, два года, дочь Наталья (от первой жены), десять лет (проживает во Франции); сестра — Шапошникова Мария, сорок два года, проживает в Бельгии…
Наконец все формальности соблюдены.
На следующий день, 16 мая, арестованного Бабеля снова сажают в машину и увозят «на обработку» — за город, в еще более укромное место — самую страшную, пыточную тюрьму НКВД — Сухановку.
Там и будут выбивать показания.
Первый протокол допроса датирован 29–31 мая. Возможно, были допросы и раньше, но сведений о них в деле нет, так как они не отвечали интересам следствия.
«Активное следствие».
Итак, 29 мая Бабеля вызвали к следователям Шварцману и Кулешову[2]. Теперь уж они не будут отпускать его от себя три дня и три ночи подряд — пока не выбьют показания. Работенка, конечно, аховая, но они на это мастера, будут сменять друг друга, чтобы передохнуть.
Вероятно, это самые страшные дни в жизни Бабеля.
Протокол допроса арестованного Бабеля И. Э. от 29–30–31 мая 1939 г.
Вопрос. Вы арестованы за изменническую антисоветскую деятельность. Признаете ли вы себя в этом виновным?
Ответ. Нет, не признаю.
В. Как совместить это ваше заявление о своей невиновности со свершившимся фактом вашего ареста?
О. Я считаю свой арест результатом рокового стечения обстоятельств и следствием моей творческой бесплодности, в результате которой в печати за последние годы не появилось ни одного достаточно значительного моего произведения, что могло быть расценено как саботаж и нежелание писать в советских условиях.
В. Вы хотите тем самым сказать, что арестованы как писатель?.. Не кажется ли вам чрезмерно наивным подобное объяснение факта своего ареста?
О. Вы правы, конечно, за бездеятельность и бесплодность писателя не арестовывают.
В. Тогда в чем же заключается действительная причина вашего ареста?
О. Я много бывал за границей и находился в близких отношениях с видными троцкистами…
В. Потрудитесь объяснить, почему вас, советского писателя, тянуло в среду врагов той страны, которую вы представляли за границей?.. Вам не уйти от признания своей преступной, предательской работы…
Тут следователь достает и начинает цитировать показания писателя Бориса Пильняка и заведующего отделом культуры и пропаганды ЦК ВКП(б) Стецкого[3] (оба уже расстреляны). В них Бабель упоминается как троцкист — но вскользь, неконкретно. Фактов — никаких.
— Приступайте к показаниям, не дожидаясь дальнейшего изобличения!
Как шел допрос на самом деле, мы можем только предполагать. Перед нами уже результат его — сфабрикованный следствием протокол, где настоящий Бабель дает знать о себе лишь подписью в конце каждой страницы. Поражает фарсовое начало допроса, когда сам подследственный должен обосновать причину своего ареста, доказать свою вину. Но в этом и заключается оригинальность советского правосудия!
Какую вину он знает за собой? Единственное преступление, которое он готов признать, — творческое бесплодие, хотя на самом деле это неправда: он мало печатался, но много писал, что видно по количеству изъятых у него рукописей. Противником советской власти он не был, но и служил не ей, а своему дару, призванию, был прежде всего художником. Для правящего режима это уже измена, преступление.
Какими способами и приемами добивались своего в Сухановке, известно: и угрозы, и избиения, и более изощренные пытки, включая и душевные, например, обещание расправиться с семьей, — не то, так другое, но действовало почти безотказно. О жестокости чекистов Бабель знал не понаслышке — сам какое-то время служил переводчиком в Петроградской ЧК, нагляделся на допросы и смертные казни, собрал огромный материал о зверствах революции. Разве не он сам говорил, что «Интернационал» кушают с порохом и приправляют лучшей кровью? Теперь и его кровь понадобилась…
Как бы ни были толсты и непроницаемы тюремные стены, как ни старались скрыть то, что творилось в следовательских кабинетах, крики оттуда донеслись до нас. Сохранилось в досье арестованного Всеволода Мейерхольда[4] его письмо к председателю Совета Народных Комиссаров Молотову — потрясающий документ о механике добывания «правдивых показаний».
…Когда следователи в отношении меня, подследственного, пустили в ход физические методы (меня здесь били — больного 65-летнего старика: клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом били по пяткам и по спине; когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам сверху, с большой силой… В следующие дни, когда эти места ног были залиты обильным внутренним кровоизлиянием, то по этим красно-синим-желтым кровоподтекам снова били этим жгутом, и боль была такая, что, казалось, на больные, чувствительные места ног лили крутой кипяток, я кричал и плакал от боли. Меня били по спине этой резиной, руками меня били по лицу размахами с высоты) и к ним присоединили еще так называемую «психическую атаку», то и другое вызвало во мне такой чудовищный страх, что натура моя обнажилась до самых корней своих:
Нервные ткани мои оказались расположенными совсем близко к телесному покрову, а кожа оказалась нежной и чувствительной, как у ребенка; глаза оказались способными (при нестерпимой для меня боли физической и боли моральной) лить слезы потоками. Лежа на полу лицом вниз, я обнаруживал способность извиваться и корчиться, и визжать, как собака, которую плетью бьет ее хозяин. Конвоир, который вел меня однажды с такого допроса, спросил меня: «У тебя малярия?» — такую тело мое обнаружило способность к нервной дрожи. Когда я лег на койку и заснул, с тем чтобы через час опять идти на допрос, который длился перед этим 18 часов, я проснулся, разбуженный своим стоном и тем, что меня подбрасывало на койке так, как это бывает с больными, погибающими от горячки.
Испуг вызывает страх, а страх вынуждает к самозащите.
«Смерть (о, конечно!), смерть легче этого!» — говорит себе подследственный. Сказал себе это и я. И я пустил в ход самооговоры в надежде, что они-то и приведут меня на эшафот…
Всеволод Мейерхольд был арестован в одно время с Бабелем, и водили его на допросы к тем же следователям — Шварцману, например, пыточных дел мастеру, чье имя стоит под протоколами допросов и Бабеля, и Мейерхольда. И методы ведения следствия не могли быть другими.
Нет сомнения, что «активное следствие» — как это именовали вслух, туманно и благопристойно, — применялось и к Бабелю, хотя в протоколах допросов, разумеется, не фиксировалось. Иначе как объяснить, почему он, сначала наотрез отрицавший свою вину, неожиданно, без всяких видимых причин… «признался». С этого момента и начинается превращение писателя Бабеля во врага народа.
А ведь думал не раз, что будет, если арестуют. Однажды на даче у Горького прямо спросил самого Ягоду[5]:
— Генрих Григорьевич, скажите, как надо себя вести, если попадешь к вам в лапы?
— Все отрицать, — ответил шеф Лубянки. — Какие бы обвинения мы ни предъявляли, говорить «нет», только «нет», все отрицать — тогда мы бессильны…
Ждал этого — и все равно оказался не готов. Есть предел, за которым человек уже не отвечает за свои поступки.
— Я сейчас не вижу смысла в дальнейшем отрицании своей действительно тяжкой вины перед Советским государством, — вдруг говорит он.
И дальше действие уже движется по намеченному сценарию. В страшном спектакле этом по указке невидимого, безликого, но всемогущего режиссера играют и подследственный, и следователь, играют в троцкизм, в террор, в шпионаж, играют бездарно, плохо, но чем хуже — тем лучше, ибо это театр абсурда.
— Я готов дать исчерпывающие показания, — говорит Бабель.
И дает. Наряду с прямым диалогом со следователями он ведет и записи, в виде собственноручных показаний. Но и в них отчетливо видны следы чужой, жесткой воли: на листах есть вопросы, написанные рукой следователя. Так что это хоть и собственноручные, но не совсем собственномысленные записи, — тот же мучительный допрос, первоначальный его этап.
Сравнивая тексты, видишь в ряде случаев не только совпадение содержания, но и дословное повторение некоторых фраз, целых периодов, — значит, собственноручные показания служили черновиком, из которого лепился отредактированный в нужном направлении окончательный вариант протокола допроса. Следователи исключали при этом те места, где Бабель отрицал свою вину, убирали все, что могло бы послужить «алиби», что подчеркивало его авторитет как советского писателя, например, близость с Горьким и Маяковским, вообще все положительное в его биографии, и, наоборот, выпячивали и раздували компрометирующие факты. Упускались и те важные наблюдения и обобщения Бабеля, в которых он оказывался выше навязанного следствием примитива.
Не случайно в деле отсутствуют оригиналы протоколов допросов, есть только машинописные копии, не указано время начала и окончания допроса — все это было особо отмечено прокуратурой как юридическое нарушение при реабилитации Бабеля в 1954 году.
Нарком внутренних дел Берия называл протоколы допросов, сочиненные его подручными Шварцманом и Родосом[6], - оба принимали участие в следствии по делу Бабеля, — «истинными произведениями искусства»; так они будут заявлять, когда сами попадут на скамью подсудимых. Что это были за «мастера искусств», ясно хотя бы из их образования:
Лев Леонидович Шварцман окончил семь классов средней школы, а Борис Вениаминович Родос и того меньше — четыре класса (в своем ходатайстве о помиловании он не постеснялся признаться: «Я — неуч»). Тем не менее уже после войны Родос читал лекции в Высшей школе МВД и был автором учебных пособий «по внутрикамерной разработке арестованных». Когда его судили в 1956 году, то спросили, чем занимался некий Бабель, дело которого он вел.
— Мне сказали, что это писатель.
— Вы прочитали хоть одну его строчку?
— Зачем?
Собственноручное показание.
Надо представить себе и особые «муки творчества», которые Бабель испытал на Лубянке — в камере и в кабинете следователя. Такого произведения он еще не писал: нужно было ни больше ни меньше как сочинить себя — несуществующего, фантастический образ — ради обещанного, вероятно, спасения, придумать вредоносное влияние троцкистов и свое пагубное воздействие на других, вывернуться наизнанку, вплоть до подробностей личной жизни. Нелегко это дается: сначала он намечает план, меняет его, делает многочисленные наброски, вычеркивает, восстанавливает, по несколько раз возвращается к одному и тому же в разных выражениях…
Сквозь вынужденную ложь прорываются ноты исповеди, искорки внутренней глубокой мысли — попытка выйти из заданной схемы. Мелькают обрывочные, загадочные фразы: «Проталкивать свои мысли… Против жестокости — добрый и веселый человек… Я понял, что моя тема… это рассказ о жизни в революции одного „хорошего“ человека…».
Историк Борис Суварин, вспоминая о своих встречах с Бабелем в Париже, передает такой разговор. Он спросил Бабеля:
— Вы думаете, что у вас в стране существуют ценные литературные произведения, которые не могут появиться из-за политических условий?
— Да, — ответил Бабель, — в ГПУ.
— Как так?
— Когда интеллигента арестовывают, когда он оказывается в камере, ему дают бумагу и карандаш и говорят: «Пиши!».
Так и случилось. Трое суток подряд Бабель пишет и говорит, говорит и пишет. Показания его, как собственноручные, так и зафиксированные в протоколе допроса, — это своего рода мемуары, и, если отсечь в них явную ложь от правды (а они отслаиваются, как вода и масло), Бабель расскажет нам много достоверного и интересного — о времени и о себе. Будем следить за течением допроса и по протоколу его, и по собственноручным показаниям, поскольку это — параллельные документы, дополняющие друг друга, и только при одновременном их прочтении и складывается более или менее полная картина.
«Первые мои рассказы напечатаны были в журнале „Летопись“ (за 1916 год), редактировавшемся М. Горьким, — читаем мы в собственноручных показаниях. — О встрече с ним мною рассказано в очерке „Начало“. Годы революции и гражданской войны прервали литературную работу — вернулся я к ней в 1922 году, когда стал помещать в одесских и киевских газетах отрывки воспоминаний о службе моей в Первой Конной армии. Собранные вместе, отрывки эти составили книгу под названием „Конармия“. В 1923 году я отвез ее в Москву: незначительную часть отдал в „Леф“, Маяковскому, все же написанное мной стал печатать у Воронского[7] в „Красной нови“…».
Лишь с этого времени начинается биография Бабеля в протоколе допроса:
— В 1923 году появилось мое первое произведение «Конармия», значительная часть которого была напечатана в журнале «Красная новь». Тогдашний редактор журнала, видный троцкист Александр Константинович Воронский, отнесся ко мне чрезвычайно внимательно, написал несколько хвалебных отзывов о моем литературном творчестве и ввел меня в основной кружок группировавшихся вокруг него писателей… Воронский был тесно связан с писателями Всеволодом Ивановым, Борисом Пильняком, Лидией Сейфуллиной, Сергеем Есениным, Сергеем Клычковым[8], Василием Казиным. Несколько позже к группе Воронского примкнул Леонид Леонов, затем, после написания «Думы про Опанаса», Эдуард Багрицкий…
— Не пытайтесь разговорами на литературные темы прикрыть антисоветское острие и направленность ваших встреч и связи с Воронским. Эти ваши попытки будут безуспешны! — прерывает Бабеля следователь.
— Воронский вначале указывал мне и другим писателям, что мы являемся солью Земли Русской, — продолжает Бабель, — старался убедить нас в том, что писатели могут слиться с народной массой только для того, чтобы почерпнуть нужный им запас наблюдений. Но творить они могут вопреки массе, вопреки партии, потому что, по мнению Воронского, не писатели учатся у партии, а, наоборот, партия учится у писателей….
Однажды, в 1924-м, Воронский пригласил меня к себе, предупредив о том, что Багрицкий будет читать только что написанную «Думу про Опанаса». Кроме меня Воронский пригласил к себе писателей Леонова, Иванова и Карла Радека[9]. Вечером мы собрались за чашкой чая. Воронский нас предупредил, что на читку он пригласил Троцкого[10]. Вскоре явился Троцкий в сопровождении Радека. Троцкий, выслушав поэму Багрицкого, одобрительно о ней отозвался, а затем по очереди стал расспрашивать нас о наших творческих планах и биографиях, после чего произнес большую речь о том, что мы должны ближе ознакомиться с новой французской литературой.
Помню, что Радек сделал попытку перевести разговор на политические темы, сказав: «Такую поэму надо было бы напечатать и распространить в двухстах тысячах экземпляров, но наш милый ЦК вряд ли это сделает». Л. Троцкий строго посмотрел на Радека, и разговор снова коснулся литературных проблем. Троцкий стал расспрашивать нас, знаем ли мы иностранные языки, следим ли за новинками западной литературы, сказал, что без этого он не мыслит себе дальнейшего роста советских писателей… Больше никогда с Троцким я не встречался…
— Воспроизведите полное содержание разговоров, которые велись среди названных вами писателей, — предлагает следователь.
— В 1928-м на квартире у Воронского в присутствии меня, Пильняка, Иванова, Сейфуллиной и Леонова, а также троцкистов Лашевича и Зорина[11] шел разговор о том, что уход Воронского из «Красной нови» означает невознаградимый урон для советской литературы, что люди, ему противопоставляемые, по своему невежеству или неавторитетности не могут объединить вокруг себя лучших представителей советской литературы, как это с успехом делал Воронский. Помню при этом озлобленные выпады со стороны Лашевича против ЦК ВКП(б) за неправильное якобы руководство литературой, уклончивое молчание Иванова и откровенно шумное негодование Сейфуллиной, помню беспокойство Пильняка… Тогда же затевалось издание сборников «Перевал» и альманаха «Круг» под редакцией Воронского, чтобы составить конкуренцию перешедшей в новые руки «Красной нови». Мы все обещали сотрудничество в этих изданиях.
Литературные разговоры на квартире у Воронского неизбежно переходили в политические, и при этом проводилась аналогия с его судьбой, в том смысле, что отстранение троцкистов от руководства принесет стране неисчислимый вред…
Воронский был снят с работы редактора «Красной нови» и за троцкизм сослан в Липецк. Там он захворал, и я поехал его проведать, пробыл у него несколько дней… Помню, что Воронский в эту встречу рассказал мне о том, что вечером накануне того дня, когда он должен был выехать в ссылку, к нему позвонил Орджоникидзе и попросил его приехать в Кремль. Они провели за дружеской встречей несколько часов, вспоминая о временах совместной ссылки в дореволюционные годы. Затем, уже прощаясь, Орджоникидзе, обращаясь к Воронскому, сказал: «Хотя мы с тобой и политические враги, но давай крепко расцелуемся. У меня больная почка, быть может, больше не увидимся…».
Интересней всего в протоколе не предопределенные следователем ответы Бабеля, а то, что он говорит от себя, «лишнее», потому что тут начинают проступать живые люди и отношения, подлинные события, во всей их многосложности, — но следователь сразу его прерывает и возвращает в протокольное русло. Нам надо все время помнить: перед нами фальсификация, ложь или полуложь, с вкраплениями правды, — чтобы не поддаться на обман. Голос Бабеля намеренно искажен записями следователя, кажется, сам язык сопротивляется насилию, вязнет, мертвеет.
— Постоянное общение с троцкистами несомненно оказало пагубное влияние на мое литературное творчество, — вещает за Бабеля протокол, — скрыло от меня на долгие годы истинное лицо советской страны, предопределило тот духовный и литературный кризис, который я переживал в течение ряда лет. Утверждение троцкистов о ненужности для пролетариата государства или, во всяком случае, что тема строительства такого государства не представляет интереса для литературы, утверждение о том, что все мероприятия Советского государства носят временный, относительный и неустойчивый характер, их пророчество близкой и неизбежной катастрофы не могли не вселить в меня чувство недоверия к происходящему, заразили меня нигилизмом, сознанием своей исключительности, противоположности пролетарской и крестьянской трудовой среде…
Следователь требует конкретности, и Бабель начинает развенчивать свое творчество:
— «Конармия» явилась для меня лишь поводом для выражения волновавших меня жутких настроений, ничего общего с происходящим в Советском Союзе не имеющих. Отсюда подчеркнутое описание всей жестокости и несообразности гражданской войны, искусственное введение эротического элемента, изображение только крикливых и резких эпизодов и полное забвение роли партии в деле сколачивания из казачества, тогда еще недостаточно проникнутого пролетарским сознанием, регулярной, внушительной единицы Красной Армии, какой являлась в действительности Первая Конная.
Что касается моих «Одесских рассказов», то они, безусловно, явились отзвуком того же желания отойти от советской действительности, противопоставить трудовым строительным будням полумифический, красочный мир одесских бандитов, романтическое изображение которых невольно звало советскую молодежь к подражанию…
После себя Бабель, по требованию следователя, дает характеристику Воронскому и участникам его кружка, рисуя их творческие трудности как горькие плоды троцкизма:
— Основная мысль Воронского состояла в том, что писатель должен творить свободно, по интуиции, возможно ярче отражая в книгах ни в чем не ограниченную свою индивидуальность…
И это главное условие творчества предстает теперь для следствия как смертный грех, причина писательских бед.
— Последовала серия неудачных и бесцветных вещей Всеволода Иванова, в том числе рассказ «Бригадир Синицына». Одну книгу, над которой он долго работал, Иванов в припадке отчаяния сжег. Об упаднических настроениях Иванова мне передавал в последние годы Катаев, говоря, что тот по-прежнему мечется в поисках литературного и политического равновесия и чувствует неудовлетворенность своей судьбой… В неоднократных беседах со мной Сейфуллина жаловалась на то, что из-за неустойчивости, растерянности ее мировоззрения писать становится все труднее. Внутренний разлад с современной действительностью сказался в том, что Сейфуллина в последние годы пьет запоем и совершенно выключена из литературной жизни и работы…
Подробно анализирует Бабель эту духовную метаморфозу, происшедшую с ним и с его товарищами, в собственноручных показаниях:
При разности темпераментов и манер нас объединяла приверженность к нашему литературному «вождю» Воронскому и его идеям, троцкистским идеям. Приверженность эта дорого обошлась всем нам, скрыла от нас на долгие годы истинное лицо Советской страны, привела к невыносимому душевному холоду и пустоте, стянула петлю на шее Есенина, бросила других — в распутство, в нигилизм, в жречество…
С уходом Воронского мы стали опорными пунктами его влияния на литературную молодежь, центром притяжения для недовольных политикой партии в области искусства. Вокруг Сейфуллиной и Правдухина[12] сгруппировались сибирские писатели («крестьянствующие»), к Пильняку потянулись авантюристы и неясные люди, моя репутация некоторой литературной «независимости» и «борьбы за качество» привлекла ко мне формалистически настроенные элементы. Что внушал я им? Пренебрежение к организационным формам объединения писателей (Союз советских писателей и др.), мысль об упадке советской литературы, критическое отношение к таким мероприятиям партии, как борьба с формализмом, как одобрение вещей полезных, но художественно неполноценных…
О чем говорилось за стаканом чаю? Перепевались покаянные рассказы о старой, ушедшей Руси, в которой наряду с плохим было так много прекрасного, с умилением вспоминали монастырские луковки, идиллию уездных городов; царская тюрьма — и та изображалась в легких, иногда трогательных тонах, а тюремщики и жандармы выглядели по этим рассказам чуть вывихнутыми, неплохими людьми. «Недооценка» так называемых «хороших людей» — Пятаковых, Лашевичей, Серебряковых[13] — вменялась революции в смертный грех…
Здесь надо сказать несколько слов о себе. Признать, что всем дурным в себе я обязан Воронскому, было бы ложью и самоумалением. Влияние его на меня было ограниченным: критиком я считал его посредственным, политиком — импрессионистическим, но это внушенное им деление революционеров на «плохих людей и хороших» въелось в плоть мою и в кровь, стало причиной всех моих бед — литературных и личных. Одна из основных заповедей Воронского была заповедь о том, что мы должны оставаться верными себе, своему стилю и тематике; считалось, что все может изменяться вокруг нас, писатель же растет только в себе, обогащается духовно, и что этот процесс — внутренний — может идти независимо от внешних влияний. С этим-то багажом я хотел работать дальше; отсюда — крушение всех моих попыток осилить настоящую советскую тему.
Я хотел описать рассказанное мне Евдокимовым[14] Звенигородское дело (поимку на Украине бандитов Завгороднего и других) — из этой попытки ничего не вышло, потому что бандиты и советские люди поставлены были мною только в человеческие, но не политические отношения.
Я хотел написать книгу о коллективизации, но весь этот грандиозный процесс оказался растерзанным в моем сознании на мелкие несвязанные куски.
Я хотел написать о Кабарде и остановился на полдороге, потому что не сумел отделить жизнь маленькой советской республики от феодальных методов руководства Калмыкова[15].
Я хотел написать о новой советской семье (взяв за основу историю Коробовых[16]), но и тут меня держали в плену личные мелочи, мертвая объективность…
Десять тяжких лет были истрачены на все эти попытки, и только в последнее время наступило для меня облегчение — я понял, что моя тема, нужная для многих, это тема саморазоблачения, художественный и беспощадный, правдивый рассказ о жизни в революции одного «хорошего» человека. И эта тема — впервые — давалась мне легко. Я не закончил ее, форма ее изменилась и стала формой протоколов судебного следствия…
Здесь Бабель создает образ заблудившегося и кающегося писателя. Но за завесой жанра показаний и приличествующей ему фразеологии приоткрывает нам суть своего творческого кризиса, который он назвал «правом на молчание». Перечисление его неудач говорит об одном: примеряемый им так и сяк мундир советского писателя ему не подходит, скроенный по меркам соцреализма — трещит по всем швам. Он-то хотел и мог писать жизнь — как истинный художник — во всех ее противоречиях, полнокровно, многокрасочно, изображать людей, а не классовых противников, выкрашенных в красный или белый цвет.
Теперь понял: так, «как надо», «как все», у него не получится. Увидел он и своего истинного «героя» — это так называемый «хороший человек», делавший революцию — и ставший ее жертвой, разрушавший мир ради высших идеалов — и погребенный под его обломками, как мусор истории. Таковы были его друзья. Таков оказался и он сам. Именно поэтому формой его самовыражения стали в конце концов судебные протоколы… черновики никем не написанной трагедии революции.
Я в 1927 и в 1932 годах ездил в Париж, восторженно был встречен кадетской и меньшевистской частью эмиграции, с упоением слушавшей рассказы мои об СССР, — в то время как я наивно полагал, что рассказываю лучшее и положительное. Спрашивая себя теперь, в чем заключается причина той свободы и непринужденности, с какой я чувствовал себя в этой среде, — я вижу, что между ней и духом, господствовавшим в кружке Воронского, не было, по существу, никакой разницы. Духовная эмиграция была и до поездок за границу, продолжалась она и после возвращения. Характер разговоров и отношения оставался все тем же.
Я был знаком со многими литераторами, киноработниками, интеллигентами. Авторитет мой среди них был достаточно высок, ценилось мое чувство стиля, дар рассказа. У этой репутации я всю жизнь был рабом и господином. Обывательские толки о политике, литературные сплетни, охаивание советского искусства — все было смешано в этих разговорах. Внешне это была остроумная болтовня так называемых «интересных людей», никого ни к чему не обязывавшая, прерывавшаяся иногда выражением скорби о разных недостатках, — по существу же эти разговоры были отзвуком серьезных мыслей и настроений.
Одна тема в этих разговорах была неизменной: в течение нескольких лет я нападал на идею организации писателей в Союз, утверждая, что в этом деле нужна крайняя децентрализация, что пути руководства писателями должны быть неизмеримо более гибкими и менее заметными; упражнялся в остроумии, предлагал ввести «гнилой либерализм» в делах литературы, в шутку предлагал выслать из Москвы семьдесят процентов проживающих в ней писателей и расселить их по Союзу, поближе к тому, что надо описывать. Я подвергал резкой критике почти все мероприятия Союза, восставал против постройки писательских домов и поселков, считая это начинание антипрофессиональным, отбивался от союзных нагрузок и общественной работы в Союзе, высмеивал ее, но должен сказать, что никогда не скрывал своих мыслей на этот счет, как не скрывал их и по другим, более серьезным поводам.
При встречах с личными моими друзьями — Эйзенштейном, Утесовым, Михоэлсом[17], Катаевым — заходила речь и о процессах, об арестах, о литературной политике. Помню, что о процессах говорилось в том смысле, что привнесение в них начал судебного состязания могло бы принести только пользу, повысить доказательность происходившего на суде…
Я не могу припомнить теперь каждой реплики моих собеседников (с некоторыми из них я не виделся по году и по два), но помню, что противодействия не встречал, что ход мыслей был одинаков, что жил я в сочувствующей среде…
Во время допроса, говоря о тех же встречах с друзьями, Бабель показывает:
— Я заявлял, что в стране происходит якобы не смена лиц, а смена поколений… что арестовываются лучшие, наиболее талантливые политические и военные деятели, жаловался на бесперспективность и серость советской литературы, что, мол, является продуктом времени и следствием современной обстановки. Вместе с тем я говорил, что и сам зашел в тупик, из которого никак не могу найти себе выхода…
Каждый раз, доходя до каких-то широких и важных обобщений, Бабель спотыкается — его мысль снова возвращается в тесную клетку камеры и теряет разбег. Вот он говорит в своих записях о биографиях «хороших людей» и, после слов о «громадности и трагичности» своего времени, вдруг, как будто услышав неизбежный вопрос следователя: «О какой трагедии вы говорите?» — начинает писать так, словно кто-то водит его рукой: «Я высказывал предположение, что основное несчастье этих людей заключалось в том, что они не поняли роли и значения И. Сталина, не поняли в свое время, что только Сталин обладал данными для того, чтобы стать руководителем партии и страны; помню разговор (кажется, с Эйзенштейном) о завещании Ленина и о том, что для таких людей, как Воронский, выбор вождя был делом чувства, личных соображений и что по самому характеру своему — лирически непоследовательному — Воронский не мог подняться до зрелой и законченной политической мысли».
Туманное место! Нам слышится в словах Бабеля совсем иной смысл, чем его современникам: не пропагандистский, просталинский, а антисталинский — трагедия «хороших людей», современников Бабеля, в том, что они еще не разглядели истинное, палаческое лицо Сталина и — что самое страшное — были обречены потому, что только Сталин подходил в тот момент для первой в мире страны социализма, именно он и никто другой. Победа его была неизбежна, как и поражение «хороших людей».
Анализируя свое писательское прошлое, Бабель делит его на две части: первая была подвержена влияниям «националистических установок» Александра Воронского, а вторая — «западническим тенденциям» писателя Ильи Эренбурга, тоже его старого друга.
Многих до сего времени удивляет, почему Эренбург оказался цел, когда летели одна за другой головы его друзей. Он и сам в своих мемуарах делает удивленное лицо и объясняет: «Случай! Лотерея!» Слишком легкий ответ. Эренбург, по свидетельству Бабеля, любил называть себя «культполпредом Советского Союза» — то есть проводником советской культурной политики. Миссия, которую он старательно выполнял, была словно заказана Сталиным, угодна ему: этакая ширма — смотрите, и в советских условиях можно быть чуть ли не формалистом и гражданином Европы. О каком насилии над культурой там кричат? Разумеется, если бы Эренбург хоть единожды переступил рамки отведенной ему роли, переиграл, — с ним бы не церемонились. Но Илья Григорьевич был умен и достаточно комфортабельно в эти рамки укладывался. И выжил, и пережил всех своих друзей.
Как же влиял на советских писателей Илья Эренбург? Бабель записывает:
Зависть к неограниченному выбору тем у западных писателей, зависть к «смелой» литературе (Хемингуэй, Колдуэлл, Селин) — вот что внушал Эренбург во время наездов своих в Москву. В течение многих лет он был умелым и умным пропагандистом самых крайних явлений западной литературы, добивался перевода их на русский язык, противопоставлял изощренную технику и формальное богатство западного искусства — «российской кустарщине». Вслед за Эренбургом с теми же утверждениями выступал и я и находил не только согласие с моими взглядами, но и явную симпатию самых разнообразных людей, — Олеши, Соболева, Герасимовой, Бергельсона[18], Финка, Бор. Левина, Федина, кинорежиссеров Эйзенштейна, Александрова, Райзмана, Солнцевой, вахтанговских актеров Горюнова, Кузы, заведующего литературной частью Художественного театра П. Маркова. Общим для нас было отрицательное, зачастую презрительное отношение к тому, что казалось утвержденным в советской литературе (исключение делалось для Шолохова и Толстого), и, наоборот, выпячивалось значение людей, в живой литературной жизни не участвующих, — Мандельштама, Заболоцкого[19], Пришвина; общим для нас было провозглашение гениальности обиженного Шостаковича, сочувствие Мейерхольду. Прямолинейность всех этих разговоров надо понимать, конечно, относительно; положительное чередовалось в них с отрицательным, неверие шло рядом с оптимизмом, одинаковое настроение рождало разные слова, но истоки литературной неудовлетворенности были одни и те же…
Вспоминается последний разговор с Фадеевым, имевший место несколько месяцев тому назад; говорили о задачах советской литературы, об отдельных писателях. Я нашел у Фадеева большую волю к победе, чем у других, страстное желание выправить положение, но от всей беседы у меня сохранилось впечатление, что оценка положения у него та же, что и у нас, что и здесь налицо общность вкусов и стремлений…
Допрос.
Вернемся к протоколу допроса.
— Следствие интересуют не столько ваши антисоветские разговоры, сколько ваша прямая вражеская работа, — заявляет Бабелю следователь. — Говорите правду, какие троцкистские задания вы получали?
Исчерпав враждебность Бабеля на родине, он обращается к поездкам за границу. Бабель вспоминает, что в 1927 году, во время первого визита в Париж, встречался там с писателями-белоэмигрантами Ремизовым, Осоргиным, поэтессой Мариной Цветаевой, Вадимом Андреевым, сыном известного писателя Леонида Андреева, и группой молодых поэтов, приходивших к нему на квартиру по улице Вилла-Шовле, дом 15. Грехов, впрочем, он за собой никаких вспомнить не мог: ну, рассказывал о том, что делается на родине, взял у молодежи кое-какие рукописи для напечатания в СССР, но сделать это не удалось, ходатайствовал о возвращении Вадима Андреева в Москву, купил у Ремизова его рукописную книгу (в протоколе это было немедленно отражено как «оказание материальной помощи» белоэмигранту). Тогда же познакомился с Ильей Эренбургом, знакомство переросло в дружбу — а через него, в свою очередь, с французскими писателями Шамсоном, Вайян-Кутюрье, Муссинаком, Низаном.
Во вторую свою поездку в Париж, в 1932–1933 годах, Бабель виделся не только с политически нейтральными к Советскому Союзу писателями, но и с противниками советской системы. Один из них — меньшевик Николаевский, автор книги о знаменитом царском провокаторе, эсере Азефе. Его с Бабелем свел режиссер Алексей Грановский, затеявший съемки фильма об Азефе и пригласивший их обоих для работы, — Бабеля в качестве сценариста, Николаевского как консультанта. Ничего крамольного следователь и тут не извлек, разве что узнал о том, что Николаевскому удалось вывезти из Берлина ценный архив Карла Маркса и что Бабель, рассказывая своему новому знакомому о поездках по украинским деревням, красочно изобразил «много тяжелых сцен и большую неустроенность». Кончилось же это знакомство тем, что Бабель обратился к советскому послу в Париже Довгалевскому за советом, работать ли ему с Николаевским, и когда тот сказал, что Николаевский — опасный враг, больше встречаться с ним не рискнул. Похвальная бдительность!
Ничего не дал следствию и рассказ Бабеля о встрече с другим противником советской власти — Борисом Сувариным. Познакомились у художника Анненкова, говорили, разумеется, о Советском Союзе, о новой молодежи, о литературе, с сочувствием вспоминали об отправленных в ссылку революционерах-ленинцах Раковском[20] и Радеке, о деятелях Коминтерна. Бабель подарил Суварину несколько советских книг, а вернувшись в Москву, выслал еще пару ленинских сборников…
Шпион из него никак не получался. Следователь уже проявляет нетерпение и подгоняет ответ:
— Вы имели широкие встречи с иностранцами, среди которых было немало агентов иностранных разведок. Неужели ни один из них не предпринимал попыток вербовки для шпионской работы? Предупреждаем вас, что при малейшей попытке с вашей стороны скрыть от следствия какой-либо факт своей вражеской работы вы будете немедленно изобличены в этом.
Что кроется за такими угрозами — изобличить немедленно! — догадаться нетрудно, ибо всякий раз после них следователь получает от Бабеля совершенно фантастические признания. Так происходит и теперь:
— В 1933-м, во время моей второй поездки в Париж, я был завербован для шпионской работы в пользу Франции писателем Андре Мальро…
После такого успеха следователь мог и передохнуть, позвонить домой, перекусить, угостить и подследственного, дать ему перевести дыхание, вспомнить подробности парижской жизни. И потом гнать допрос дальше:
— А сейчас скажите, где, когда вы установили шпионские связи?
— В 1933-м… Эренбург познакомил меня с Мальро, о котором он был чрезвычайно высокого мнения, представив его мне как одного из ярких представителей молодой радикальной Франции. При неоднократных встречах со мной Эренбург рассказывал мне, что к голосу Мальро прислушиваются деятели самых различных правящих групп, причем влияние его с годами будет расти, что дальнейшими обстоятельствами действительно подтвердилось. Я имею в виду быстрый рост популярности Мальро во Франции и за ее пределами. Мальро высоко ставил меня как литератора, а Эренбург, в свою очередь, советовал это отношение ко мне Мальро всячески укреплять, убеждал меня в необходимости иметь твердую опору на парижской почве и считал Мальро наилучшей гарантией такой опоры.
— Все-таки непонятно, для чего вам нужно было иметь твердую опору на французской почве? — провоцирует следователь. — Разве вы не имели такой опоры на советской почве?
— За границей живет почти вся моя семья. Моя мать и сестра проживают в Брюсселе, а десятилетняя дочь и первая жена — в Париже. И я поэтому рассчитывал рано или поздно переехать во Францию, о чем говорил Мальро. Мальро при этом заявил, что в любую минуту готов оказать нужную мне помощь, в частности обещал устроить перевод моих сочинений на французский язык.
Мальро далее заявил, что он располагает широкими связями и в правящих кругах Франции, назвав мне в качестве своих ближайших друзей Даладье, Блюма и Эррио. До этого разговора Эренбург мне говорил, что появление Мальро в любом французском министерстве означает, что всякая его просьба будет выполнена. Дружбу с Мальро я ценил высоко, поэтому весьма благоприятно отнесся к его предложению о взаимной связи и поддержке, после чего мы попрощались. В одну из последних моих встреч с Мальро он уже перевел разговор на деловые рельсы, заявив, что объединение одинаково мыслящих и чувствующих людей, какими мы являемся, важно и полезно для дела мира и культуры.
— Какое содержание вкладывал Мальро в его понятие «дело мира и культуры»?
— Мальро, говоря об общих для нас интересах мира и культуры, имел в виду мою шпионскую работу в пользу Франции…
Кто это говорит? Бабель, который уже усвоил правила игры, выворотный смысл простых человеческих понятий, так что ему ничего не остается, как подыграть следователю? Или сам следователь так вписал в протокол, а потом заставил Бабеля подписаться внизу страницы? Так или иначе — фальсификация налицо, потому что факты, которые приводит Бабель, опровергают его «признание»:
— Мальро мне сообщил о том, что собирается написать большую книгу об СССР, но не располагает такими источниками информации, которые мог бы дать постоянно живущий в СССР писатель. Мальро обещал часто приезжать в Советский Союз и предложил в дальнейшем, во время его отсутствия, связываться на предмет передачи информации с нашим общим другом — Эренбургом.
— Уточните характер шпионской информации, в получении которой был заинтересован Мальро.
Социалистическая мораль, семейный быт, спорт, вспоминает Бабель, свобода творчества, судьба некоторых писателей и выдающихся государственных деятелей, ну и, поскольку его французский друг — бывший военный летчик, состояние советской авиации. Он, Бабель, сообщил Мальро, что Советский Союз создает могучий воздушный флот, готовит новые кадры летчиков, строит аэродромы, имеет таких прекрасных конструкторов, как Микулин и Туполев[21]. Особое значение в деле подготовки к будущей войне придается парашютному спорту и физкультуре…
Такие шпионские сведения можно было получить из любой советской газеты.
В 1934 году Мальро посетил Москву как гость съезда писателей, но встреча его с Бабелем была мимолетной. Через год они снова увиделись, уже в Париже, на антифашистском конгрессе «В защиту мира и культуры».
Шел июнь, полыхала невыносимая жара, когда в столице столиц, в громадном зале «Мютюалите», собрался цвет мировой литературы: здесь были Андре Жид и Бертран Рассел, Анри Барбюс и Лион Фейхтвангер, Олдос Хаксли и Карел Чапек, Вирджиния Вулф и Джон Пристли. Нашу делегацию, самую многочисленную, возглавляли партийный деятель Щербаков и партийный журналист Михаил Кольцов[22], участники были подобраны по признаку советской правоверности. Настроены они были по-боевому, вовсю гремели в барабаны идеологии, метали стрелы в противников, зажигая энтузиазмом зал. И не без успеха: дружными аплодисментами встретили собравшиеся слова Андре Жида:
— СССР теперь для нас — зрелище невиданного значения, огромная надежда. Только там есть настоящий читатель…
Раздавались, правда, и другие голоса. Пробовал образумить зал итальянский антифашист Сальвемини:
— Разве холод деревень Сибири, куда ссылают идейных врагов режима, лучше концлагерей Германии? Разве Троцкий не такой же эмигрант, как Генрих Манн?..
Но это выступление было покрыто негодующими возгласами, оно явно не соответствовало общему настроению.
На красном фоне советской делегации резко выделялись две белые вороны — Бабель и Пастернак. О своем отщепенстве Бабель теперь подробно показывал на допросе:
— В состав советской делегации на этот конгресс я вначале не был включен и, как узнал потом, вместе с Пастернаком был кооптирован в члены делегации по настоянию Мальро. Мне и Пастернаку была оказана весьма теплая встреча.
— Нас интересует не теплота оказанной вам встречи, а характер вашей предательской связи с Мальро, — иронически замечает следователь. — Говорите об этом.
— Мальро находил, что вся организационная часть работы советской делегации поставлена неправильно, что наши доклады не представляют интереса и отражают лишь официальную точку зрения. Действительно, в некоторых из этих докладов, как, например, в докладе Всеволода Иванова, выработанном в согласии с руководством советской делегации, содержалось много неумных и бестактных высказываний, вроде того что в Советском Союзе каждый писатель обеспечен определенной кубатурой жилой площади, кухней и даже ванной. Доклад, выдержанный в этом стиле, произвел несколько комическое впечатление и не давал никакого политического и творческого анализа советской литературы. Несомненной ошибкой было также и то, что в наиболее ответственные моменты конгресса выпускался на трибуну Киршон[23], наиболее одиозная фигура в составе советской делегации. Так, например, выступать с отповедью довольно сильному на конгрессе троцкистскому крылу, возглавляемому француженкой Маргаритой Паз, было поручено все тому же Киршону, не пользовавшемуся в глазах делегатов никаким политическим и литературным авторитетом… Я, вместе с Эренбургом, составлял оппозиционное крыло в отношении руководства советской делегации.
В собственноручных показаниях Бабель набрасывает такую характеристику этой делегации: «Непереведенные, излишнее количество нацменьшинств, неавторитетные. Грызня: Кольцов — свою линию, убеждал Щербакова, Эренбург — против, вмешались французские писатели. Речи — мои, на французском языке, и Пастернака — никого не интересовали, простой тон…».
По требованию следователя Бабель подробнейшим образом рассказывает в своих записках об Эренбурге:
Возвращаюсь к Эренбургу. Основное его честолюбие — считаться культурным полпредом советской литературы за границей. Связь с Мальро он поддерживал постоянную — единым фронтом выступал с ним по делам Международной ассоциации писателей. Вместе ездили в Испанию, переводили книги друг друга. Все сведения о жизни в СССР передавал Мальро и предупреждал меня, что ни с кем, кроме как с Мальро, разговоров вести нельзя и доверять никому нельзя. Вообще же был чрезвычайно скуп на слова и туг на знакомства. Держать Мальро в орбите Советского Союза представлялось ему всегда чрезвычайно важным, и он резко протестовал, если Мальро не оказывались советскими представителями достаточные знаки внимания.
Кроме того, Эренбург был тем человеком, кого приезжавшие в Париж советские писатели встречали в первую очередь. Знакомя их с Парижем, он «просвещал» их по-своему. Этой обработке подвергались все писатели, приезжающие в Париж: Ильф и Петров, Катаев, Лидин, Пастернак, Ольга Форш, Николай Тихонов. Не обращался к Эренбургу разве только А. Толстой, у которого был свой круг знакомых. В период конгресса 1935 года Толстой встречался с белыми эмигрантами и был в дружбе с М. И. Будберг (фактически последняя жена Горького, бывшая одновременно любовницей Герберта Уэллса); она очень хлопотала о том, чтобы свести Толстого с влиятельными английскими кругами…
Трехсуточный марафон допроса продолжается, и, кажется, не будет ему конца. Следователи дотошно расспрашивают Бабеля о последующих встречах с Мальро — весной 1936-го в Москве и в Крыму, куда они вместе ездили к Горькому.
— Я передал Мальро сведения о положении в колхозах, основанные на моих личных впечатлениях, вынесенных от поездок по селам Украины. Его интересовало, оправилась ли Украина от голода и трудностей первых лет коллективизации. Он также добивался ответа на вопрос, что стало с украинскими кулаками, высланными на Урал и в Сибирь. Я подробно информировал Мальро по всем затронутым им вопросам, в мрачных красках нарисовал отрицательные стороны колхозной жизни…
В конце 1936-го Бабель и Мальро обменялись письмами. В них речь шла о кампании против «формалистов», развернувшейся в Советском Союзе, в частности против композитора Шостаковича, поэтов Пастернака и Тихонова, прозаиков Шкловского и Олеши. Второй обмен письмами касался смерти Горького и положения в литературе, прошедших судебных процессов над Зиновьевым, Каменевым[24], Пятаковым и Радеком, процессов, которые, по мысли Бабеля, «явились убедительными для рабочих слоев населения, но вызвали недоумение и отрицательную реакцию среди части интеллигенции». Мальро также предлагал Бабелю написать ряд очерков о коллективизации для журнала «Нувель ревю франсез».
Потом на допросе речь опять зашла об Эренбурге, который, по версии следователя, должен был исполнять роль связного между Бабелем и Мальро.
— В 1936-м Эренбург, в связи с прошедшими процессами над зиновьевцами-троцкистами, выражал опасения за судьбу главного своего покровителя Бухарина[25] и расспрашивал также о новых людях, пришедших к партийному руководству, в частности о Ежове[26]. Я рассказывал Эренбургу все известное мне о Ежове, которого знал лично…
Вот появляется в показаниях Бабеля это имя. Ежов — железный нарком внутренних дел, главный повар сталинской кровавой кухни, чьим именем окрестили то страшное время — «ежовщина».
Бабель не только знал Ежова лично, но и личная жизнь Бабеля волей судьбы переплелась с жизнью Ежова. И смерть надвигалась оттуда же. Но это впереди, пока Бабель об этом еще не ведает.
— Я рассказал Эренбургу все известное мне о Ежове, которого знал лично, а затем обрисовал с моей точки зрения внутрипартийное положение, существенным моментом которого считал, что пора дискуссий, пора людей интеллигентного, анализирующего типа кончилась. Партия, как и вся страна, говорил я Эренбургу, приводится в предвоенное состояние. Понадобятся не только новые методы и новые люди, но и новая литература, в первую очередь остро агитационная, а затем и литература служебного, развлекательного характера.
В последний свой приезд в Москву летом 38-го Эренбург был очень смущен пошатнувшимся своим положением в Советском Союзе. Возможность неполучения обратной визы чрезвычайно пугала Эренбурга и довела его до такого состояния, что он отказался выходить на улицу. Разговор наш вращался вокруг двух тем: первое — аресты, непрекращающаяся волна которых, по мнению Эренбурга, обязывала всех советских граждан прекратить какие бы то ни было сношения с иностранцами, и второе — гражданская война в Испании…
Дополнительные сведения об этой последней встрече с Эренбургом Бабель дает в собственноручных показаниях. Когда речь зашла об арестах, он высказал «обычную свою мысль о необходимости более свободной атмосферы на суде», в чем Эренбург с ним согласился. Поведал Бабель своему другу и о тучах, сгущающихся над семьей Ежова: арестован близкий друг этой семьи Семен Урицкий[27], жена Ежова — редактор журнала «СССР на стройке», где сотрудничает Бабель, — взвинчена и нервозна, в редакции поговаривают, что муж ее пьет, отношения у них испортились…
О другой теме разговора — испанской — Бабель пишет: «Я сказал, что испанская война окончится неудачей. Он, помню, указал на то, что при всей бестолковости, неумелости, зачастую предательстве фронт в Испании — единственное место, где свободно дышится. Но так как это рано или поздно кончится, то остается только один метод — СССР (который ему не по пути) — метод силы и новой дисциплины (и тем хуже для нас). Он указал, что его больше всего сейчас интересует вопрос о новых кадрах, технических, советских, партийных, выросших целиком в советское время, вопрос преемственности кадрам, оказавшимся негодными…».
Трудно сказать, до какой степени откровенности доходили у Бабеля разговоры с Эренбургом о Ежове, но следователям пришлось рассказать все, когда они в конце допроса добрались до личных тайн Бабеля. Эти тайны связывались у него с женой Ежова, и следствие упорно вытягивало их, стремясь придать им политическую, преступную окраску.
— Следствию известно о вашей близости и шпионской связи с английской разведчицей Евгенией Хаютиной-Ежовой. Не пытайтесь скрывать от нас факты, дайте правдивые показания о ваших отношениях с Ежовой.
— С Евгенией Ежовой, которая тогда называлась Гладун, я познакомился в 27-м в Берлине, где останавливался проездом в Париж. Гладун работала машинисткой в торгпредстве СССР в Германии. В первый же день приезда я зашел в торгпредство, где встретил Ионова[28], знакомого мне еще по Москве. Ионов пригласил меня вечером зайти к нему на квартиру. Там я познакомился с Гладун, которая, как я помню, встретила меня словами: «Вы меня не знаете, но вас я хорошо знаю. Видела вас как-то раз на встрече Нового года в московском ресторане».
Вечеринка у Ионова сопровождалась изрядной выпивкой, после которой я пригласил Гладун покататься по городу в такси. Гладун охотно согласилась. В машине я убедил ее зайти ко мне в гостиницу. В этих меблированных комнатах произошло мое сближение с Гладун, после чего я продолжал с ней интимную связь вплоть до дня своего отъезда из Берлина…
Головокружительный берлинский вечер. Молодой Бабель в первый раз вырвался за границу. Вино, катание по ночному городу. И рядом — женщина, с такой готовностью отдающаяся…
Разве услышишь за всем этим удар судьбы? Вихрем налетела на него эта женщина, нанизывавшая на себя мужские фамилии и судьбы и уносящая их за собой, как комета в своем хвосте: Евгения Фейгенберг становится Хаютиной — Гладун — Ежовой… И сколько еще мужских имен помещалось между этими, узаконенными!..
— В конце 28-го Гладун уже жила в Москве, где поступила на работу в качестве машинистки в «Крестьянскую газету», редактируемую Семеном Урицким. По приезде в Москву я возобновил интимные отношения с Гладун, которая устроила мне комнату за городом, в Кусково…
Следователи недовольны, они вторглись в личную жизнь Бабеля для одной цели — найти там корни все того же шпионажа — и получают вполне определенный ответ:
— Мне ничего не известно о шпионской связи Гладун-Ежовой. В смысле политическом Гладун была в то время типичной «душечкой», говорила с чужих слов и щеголяла всей троцкистской терминологией. Во второй половине 29-го наша интимная связь прекратилась, я потерял Гладун из виду. Через некоторое время я узнал, что она вышла замуж за ответственного работника Наркомата земледелия Ежова и поселилась с ним на квартире по Страстному бульвару.
Познакомился я с Ежовым не то в 32-м, не то в 33-м году, когда он являлся уже заместителем заведующего орграспредотделом ЦК ВКП(б). Часто ходить к ним я избегал, так как замечал неприязненное к себе отношение со стороны Ежова. Мне казалось, что он знает о моей связи с его женой и что моя излишняя навязчивость покажется ему подозрительной. Виделся я с Ежовым в моей жизни раз пять или шесть, а последний раз летом 36-го у него на даче, куда я привез своего приятеля, артиста Утесова. Никаких разговоров на политические темы при встречах с Ежовым у меня не было, точно так же как и с его женой, которая по мере продвижения своего мужа внешне усваивала манеры на все сто процентов выдержанной советской женщины.
— В каких целях вы были привлечены Ежовой к сотрудничеству в журнале «СССР на стройке»?
— К сотрудничеству в журнале «СССР на стройке» меня действительно привлекла Ежова, являвшаяся фактическим редактором этого издания. С перерывами я проработал в этом журнале с 36-го года по день своего ареста. С Ежовой я встречался главным образом в официальной обстановке в редакции, с лета 36-го на дом к себе она меня больше не приглашала… Помню лишь, что однажды я передавал Ежовой письмо вдовы поэта Багрицкого с просьбой похлопотать об арестованном муже ее сестры Владимире Нарбуте[29], однако на эту просьбу Ежова ответила отказом, сказав, что муж ее якобы не разговаривает с ней по делам Наркомата внутренних дел… Вот все, что я могу сообщить о своих отношениях с семьей Ежовой.
Допрос заканчивался, участники его выдохлись. Следователи, правда, пытались еще навязать Бабелю преступные связи уже с самим Троцким и его сыном Львом Седовым[30], но, получив отрицательный ответ, на этом поставили точку. Пообещали, правда, не оставлять его в покое, пока не раскроет всех своих враждебных тайн.
И хотя никаких фактов и доказательств подрывной и шпионской работы выжать не удалось — их просто не существовало в природе! — признание было получено. Можно было рапортовать начальству. В материалах переписки НКВД сохранилось письмо:
Совершенно секретно.
ЦК ВКП(б), товарищу Жданову.
7 Июня 1939 г.
При этом направляю протокол допроса арестованного бывшего члена Союза советских писателей Бабеля Исаака Эммануиловича от 29–30–31 мая 1939 года о его антисоветской шпионской работе.
Следствие продолжается.
Народный Комиссар Внутренних Дел Союза ССР Берия.
Жданов… Партийный куратор литературы. Вот кто, оказывается, держал под особым контролем дело Бабеля, дергал за веревочку сверху!
А что же писатели? Встревожились, бросились на помощь? Не будем наивными. Одни не могли, другие не хотели, третьи… Хлопотали, но совсем о другом…
СОЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФОНД СССР.
8 Июня 1939 г.
«Секретно».
Народному Комиссару Внутренних Дел.
Тов. Берия Л. П.
22 Мая с.г. органами НКВД была опечатана принадлежащая Литературному Фонду Союза советских писателей дача, находившаяся во временном пользовании писателя Бабеля, арестованного органами НКВД… Правление Литературного Фонда Союза советских писателей просит Вас, товарищ Берия, сделать распоряжение о передаче вышеуказанной дачи Литературному Фонду для дальнейшего использования ее по прямому назначению, путем предоставления ее членам Союза писателей для творческой работы и отдыха.
Председатель Правления Литфонда СССР К. Федин.
Директор Литфонда СССР Оськин.
На письме резолюция: «Передать» и подпись — Л. Берия.
Не прошло и месяца со дня ареста Бабеля, следствие только началось, виновность не доказана, до суда далеко — а писатели уже делят дачу своего собрата, вычеркнули его из жизни.
10 Июня Бабеля переводят из Сухановки во внутреннюю тюрьму Лубянки. Снова тащат на допрос. На сей раз следователи Кулешов и Сериков[31] пытают его о связях с военачальниками, в то время уже арестованными и расстрелянными. Это были преимущественно бывшие командиры корпуса Червонного казачества — Примаков, Шмидт, Зюк, Кузьмичев («троцкисты-конники», как именуют их следователи) и из других частей — Охотников, Дрейцер, Путна[32]. К тому времени Бабель уже приготовил собственноручные показания, из которых можно исходить на допросе. Сначала он набросал план для себя:
Описать корпус Червонного казачества. Украшенные орденами никогда не смотрели на меня как на политическую фигуру. Я был в периоде славы — охотно знакомились со мной. Когда я узнал о процессах — щадили меня, толкали писать. Они сказали, что меня затирают… Был козырем в их антисоветской среде… Дали мне много сюжетов. Военная тематика — рассказы их — живая летопись — ореол героизма…
Затем Бабель подробнее развивает в своих записках заданный сюжет:
Что связывало меня с ними? В первую очередь — восторженное и безоговорочное их преклонение перед моими конармейскими рассказами (говорю это не для бахвальства, а в целях правдивого воссоздания обстановки того времени). Рассказы эти читались ими чуть ли не наизусть и неистово пропагандировались при всяком удобном и неудобном случае. Это не могло не нравиться мне, не могло не сблизить с этими людьми. Привлекала меня еще сопутствовавшая им слава героев гражданской войны, поражавшее при первом взгляде их человеческое своеобразие, безалаберное и шумное товарищество, царившее между ними…
В то время я считался чем-то вроде «военного писателя», и военные составляли основную мою среду. Я был посвящен в их личные дела, с интересом к ним присматривался, считая их биографии, кривую их незаурядных жизней драгоценным материалом для литературы. Я знал об их троцкистских взглядах в 1924–1927 годах, но никто из них ни единым словом не обмолвился о готовящихся преступлениях…
Нас, искавших всегда «интересных людей» и не видевших этих людей рядом с собой, они привлекали показными чертами удальства, лихости, безудержного товарищества, легким отношением к вещам, о которых мы привыкли думать с уважением. Так затемнялся путь (говорю сейчас лично о себе), которым надо было идти советскому литератору, извращалась перспектива, назревал кризис духовный и кризис литературный, приведший меня к катастрофе…
Да, знакомства у Бабеля все подозрительные, но где же его контрреволюционная деятельность? Потоптавшись на месте, следователи вновь сворачивают на литературу и искусство и требуют показаний об организации, которую Бабель якобы создал и возглавлял. В его окружении — звезды первой величины!
— Начнем с кинорежиссера Эйзенштейна, — показывает Бабель. — На протяжении всего 1937-го я с ним работал над постановкой кинофильма «Бежин луг». Он считал, что организация советского кино, его структура, руководители мешают проявиться в полной мере талантливым творческим работникам. Он вел ожесточенную борьбу с руководством советской кинематографии, стал вожаком формалистов в кино, в числе которых наиболее активными были режиссеры Эсфирь Шуб, Барнет и Мачерет. Творческие неудачи Эйзенштейна позволяли мне повести с ним антисоветские разговоры, в которых я проводил ту мысль, что талантливым людям нет места на советской почве, что политика партии в области искусства исключает творческие искания, самостоятельность художников в проявлении подлинного мастерства…
Столь же часто, как с Эйзенштейном, я встречался с руководителем Еврейского государственного театра Михоэлсом. Он считал себя, не без основания, выдающимся актером, находился в состоянии недовольства тем, что советский репертуар не дает ему возможности проявить себя в полной мере. Он крайне отрицательно относился к пьесам советских драматургов, которым противопоставлял репертуар классических и старых пьес…
Затем Бабель говорит о писателе Юрии Олеше:
— Олеша мне известен еще со времени моего пребывания в Одессе в первые годы после революции. Затем, когда Олеша и я стали писателями, нас связывала личная дружба, единые литературные вкусы и взгляды…
— Следствие интересуют не литературные вкусы, а антисоветское настроение Олеши, — поправляет следователь.
— Я буду говорить об этом. Резкое недовольство Олеши своей литературной судьбой, крушение его длительных попыток создать что-нибудь новое привели Олешу в состояние отчаяния. Он теперь является, пожалуй, наиболее ярким представителем богемной части дезориентированных, отчаявшихся литераторов. Его беспрестанная декламация в кабаках была как бы живой агитацией против литературного курса, при котором писатели, вроде Олеши, должны прозябать, скандалить так, как это делал он. Скандалы следовали непрерывно друг за другом, в этом отношении Олеша шел в некоторой степени по следам Есенина. На отдельных представителей советской литературы он публично набрасывался с криками: «Вы украли мои деньги! Вы пользуетесь моими деньгами, вы крадете мой успех, вы отбиваете у меня читателей. Я требую одного — чтобы мне было дано право на отчаяние!».
Это была излюбленная его теория. Из своей борьбы за «право на отчаяние» Олеша сделал себе литературное знамя, можно сказать, что это знамя имело немалый успех как среди литераторов, так и среди людей кино…
Спасая свое человеческое достоинство, Олеша отстаивал право на отчаяние. Бабель отстаивал другое право — на молчание. На съезде писателей он многозначительно пошутил: «Я испытываю к читателю такое беспредельное уважение, что немею, замолкаю. В искусстве молчания я признан великим мастером…».
Дав характеристику каждому участнику своей «антисоветской группы», Бабель рассказывает об ее «подрывной» деятельности:
— Мы замалчивали или пренебрежительно отзывались о выдающихся произведениях советской литературы, превозносили одиночек, не принимавших деятельного участия в литературной жизни страны. В беседах с молодыми авторами я пропагандировал писателей-белоэмигрантов Бунина и Ходасевича, резко критиковал основной отряд советской литературы, сочувственно передавал состояние мучительного кризиса, в котором оказались бывшие последователи Воронского, призывал к так называемому «объективизму».
Самоубийство Маяковского мы объясняли как вывод поэта о невозможности работать в советских условиях. Статьи против формализма Шостаковича мы объявили походом на гения, а творческие неудачи Эйзенштейна объясняли происками советских работников в области кинематографии. Нами делались все попытки, для того чтобы установить связь с культурным Западом…
И это естественное желание выглядит в глазах следователей преступлением.
Мало было сделать Бабеля французским шпионом, надо еще привязать его к австрийской разведке. Для этого достаточно того, что он знаком с Бруно Штайнером, представителем австрийской фирмы «Элин», и жил одно время в его московской квартире. Доказательств в шпионаже опять нет, какие сведения мог передать Бабель Штайнеру, неясно. Более того, в собственноручных показаниях Бабель начисто отверг все подозрения. Следствие явно пробуксовывает, мечется из стороны в сторону в поисках хоть каких-нибудь улик и, возвратившись к жене Ежова, снова впадает в бредовую фантастику.
Бабеля вынуждают подписать показания о том, что его бывшая любовница посвящала его в планы готовящихся ею и первым секретарем ЦК ВЛКСМ Косаревым[33] покушений на Сталина и наркома обороны СССР Клима Ворошилова, покушений, в которые были вовлечены десятки людей. Убить вождей заговорщики замышляли на Кавказе или на квартире Ежова в Кремле, а если не удастся, — на подмосковной даче… По просьбе Ежовой Бабель должен был не более и не менее как вербовать участников этого злодеяния. Тут же он перечисляет имена молодых литераторов и журналистов из своего окружения, этих потенциальных злодеев. Кроме того, он якобы знал и о террористическом заговоре самого Ежова.
Похоже, что Бабель уже не сопротивляется, соглашается со всем, что навязывает ему следователь, быть может, в тайной надежде, что чем нелепей этот театр, тем очевидней будет его невиновность.
Заведя подопечного в дебри своего воображения и заплутавшись сами, следователи прервали допрос.
Главарь антисоветской организации среди писателей ждет в камере новых допросов, а следователи тем временем работают не покладая рук. Сотрудник второго отдела Главного управления безопасности Райзман[34] просит дать выписку из показаний Бабеля и другого арестованного — Михаила Кольцова, «журналиста № 1», как его называли современники, — на писателей Эренбурга и Олешу. И старший в следственной группе Шварцман реагирует: «Товарищ Сериков! Дайте необходимые выписки…».
Поразительный документ! Еще не уличен один преступник, а уже готовятся новые жертвы. Арест Бабеля был, по-видимому, упреждающим: Берия и его подручные решили создать антисоветскую организацию среди писателей, чтобы уничтожить наиболее независимых и талантливых, а доказательства выжать из самих писателей во время следствия. Пускай они сажают друг друга! Не было организации — сколотим ее здесь, в тюрьме, и с размахом!
Следователи скребут по всем сусекам в недрах Лубянки, разыскивая компромат на Бабеля. Находят его записку, адресованную тоже арестованному литератору Ною Марковичу Блисковицкому, который присылал маститому писателю на отзыв свое сочинение:
Дорогой Ной Маркович! Глава мне понравилась. Легко, просто (следовательно, додумано), и по первым страницам чувствуется большой разбег. Если написали еще, — пришлите, очень прошу Вас. Это все надо переписать на машинке, тогда на полях можно поговорить по поводу отдельных фраз. У меня впечатление, что может получиться хорошая книга и что работу надо продолжать. Напишите мне.
30 Ноября 1934 г. Ваш Исаак Бабель.
И это пришили к делу, хотя какой здесь криминал?
Тем не менее 19 июня Бабелю дали прочесть «Постановление об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», из которого он узнал, что уже «достаточно изобличается» в преступлениях сразу по четырем статьям Уголовного кодекса — 58–1а, 58–7, 58–8, 58–11, - поскольку он, Бабель, являлся участником троцкистской организации, проводил шпионскую работу и даже готовил террористический акт против руководителей партии и правительства.
Еще один пример, как лепилось дело, как работала бериевская фабрика уничтожения: 21 июня Бабель подготовил очередную порцию своих записок, а через четыре дня следователи возобновляют допрос на ту же тему, делают еще одну попытку узнать что-нибудь о «преступных» связях Бабеля с Мальро. И опять мы видим, что следователь берет написанное Бабелем и «творчески» перерабатывает в своих целях.
— В результате конгресса, — показывает Бабель на допросе, — у Мальро явилась мысль о создании ежемесячного журнала, который стал бы проводником контрреволюционных идей Андре Жида под ширмой так называемой независимости писательского голоса.
— Что практически было сделано Мальро для создания этого журнала?
— Практически этот журнал не был создан, так как Мальро в 36-м году уехал в Испанию и больше я его не видел. Это все, что я хотел вам сообщить.
— Это еще далеко не все. Какую роль должен исполнять журнал по шпионской линии?
— Мне об этом неизвестно.
В записках Бабеля среди редакторов журнала, затевавшегося Мальро, числился Горький, но его красное имя следователи при составлении протокола допроса из черного списка исключили. Так подчищались показания. По той же причине, вероятно, следователи не использовали рассказ Бабеля о том, как воплощалась в жизнь идея журнала, хотя это и есть самое интересное:
С этой идеей Мальро приехал весной 1936 года к Горькому. Антисоветскую ее сущность он пытался затушевать широковещательными планами об издании ассоциацией новой энциклопедии культуры, провокационными разговорами об упадке литературного мастерства и чисто гуманитарных задачах новых изданий. К участию в них ему действительно удалось привлечь выдающихся литераторов Запада. В бытность свою в Москве Фейхтвангер говорил мне о своем намерении напечатать в журнале серию очерков об СССР и о том, что ряд материалов поступил от Драйзера (об американской цензуре), от Рафаэля Альберти (о молодой испанской литературе) и от некоторых французов. Мною также был послан Мальро рассказ, не пропущенный в СССР Главлитом[35], статьи о советском кинематографе и о новой рабочей семье в СССР (на основе материалов о Коробовых). Отзыв мой о советском кинематографе носил отрицательный характер, творческий метод советских кинорежиссеров подвергся резкой критике, сценарии квалифицировались как бледные и схематичные (исключение было сделано для двух картин — «Чапаев» и «Мы из Кронштадта»). Тон и содержание этой статьи сходились с основной оценкой советского искусства как искусства регрессирующего. О судьбе этих моих статей, посланных через Ролана Мальро[36], сведений не имею — гражданская война в Испании помешала Андре Мальро осуществить свой замысел об издании журнала, и связь моя с ним в 1939 году прекратилась…
Далее в показаниях Бабель продолжает свою исповедь:
О чем я говорил литераторам и кинематографистам, обращавшимся ко мне за помощью и советом? Говорил о так называемой теории «искренности», о необходимости идти по пути углубления творческой индивидуальности, независимо от того, нужна ли такая индивидуальность обществу или нет. «Книга есть мир, видимый через человека», — и чем неограниченнее, чем полнее раскрывается в ней человек, каков бы он ни был, тем выше художественные достоинства его произведений. Ни моральные, ни общественные соображения не должны стоять на пути к раскрытию человека и его стиля; если ты порочен по существу — то совершенствуй в себе порок, доводи его до степени искусства; противодействие общества, читателей должны толкать тебя на еще более упорную защиту твоих позиций, но не на изменение основных методов твоей работы…
В книгах Бабеля мы мало найдем теоретических рассуждений об искусстве, о роли писателя — он практик, и в слове он мыслил образно, как поэт. Тем важнее для нас это подневольное изложение своего творческого кредо, следствию вовсе не нужное. Может быть, и излагал его потому, что предчувствовал, — другого случая не будет, с тайным дальним расчетом: вдруг когда-нибудь его записи прочтет и другой читатель, не только следователи? Но вспоминал: это не эссе о собственном творчестве, а собственноручные показания. И голос его менялся:
На словах советская тематика приветствовалась, на деле — компрометировалась; люди искусства, тяготевшие к изображению живой действительности, запугивались, размагничивались внешне убедительными доводами о стандартности их творчества, о служебном его характере, о том, что читатель приемлет их по необходимости, но с внутренним отрицанием… Болезненные противоречия, крушение личное, крушение творческое, создание атмосферы неудовлетворенности и недовольства — вот к чему приводили эти «теории».
Бабель переходит к своему ближайшему окружению, к своим друзьям. И перед нами в смещенном, искаженном, как на полотне сюрреалиста, ракурсе, в мрачном, как лубянская камера, свете проплывает панорама художественной жизни страны, обреченные, беззащитные лица ее самых значительных участников:
Беседы с Эйзенштейном 36–37-го годов — основной их стержень был в том, что Эйзенштейну, склонному к мистике и трюкачеству, к голому формализму, нужно найти такое содержание, при котором отрицательные эти качества не ослаблялись бы, а подчеркивались. Упорно, с потерей времени и значительных средств продолжалась работа над порочным «Бежиным лугом», где смерть пионера Павлика Морозова принимала характер религиозного, мистического, с католической пышностью поставленного действия.
Такой же характер носили беседы с Михоэлсом, правдами и неправдами добивавшимся разрешения на постановку снятой с репертуара моей пьесы «Закат», беседы с одним из руководителей Театра имени Вахтангова — Горюновым, ратовавшим за введение в репертуар театра запрещенной Главреперткомом пьесы моей «Мария». Усилия этих работников провести на сцену мои пьесы шли рука об руку с пропагандой нашей против текущего советского репертуара, против сторонников этого репертуара, против нового курса МХАТа. Такие постановки, как «Враги», «Земля», «Достигаев», объявлялись неудачами театра, неудачами закономерными и неизбежными; внимание, которым окружен был лучший театр страны, квалифицировалось как создание тепличной атмосферы, притупившей яркость и новизну, которыми прежде отличались работы МХАТа… Любовь наша к народу была бумажной и теоретической, заинтересованность в его судьбах — эстетической категорией, корней в этом народе не было никаких, отсюда — отчаяние и нигилизм, которые мы распространяли.
Одним из проповедников этого отчаяния был Олеша, мой земляк, человек, с которым я связан двадцать лет. Он носил себя, как живую декларацию обид, наносимых «искусству» Советской властью; талантливый человек — он декларировал об этих обидах горячо, увлекая за собой молодых литераторов и актеров — людей с язвинкой, дешевых скептиков, ресторанных неудачников. Картина его — «Строгий юноша», — обошедшаяся Киевской киностудии в несколько миллионов рублей, оказалась невообразимым пасквилем на комсомол, экрана не увидела, и затраченные миллионы пришлось списать в расход; другая его картина — «Болотные солдаты» — была принята публикой холодно, почти враждебно; прием этот еще более озлобил его, из многолетних попыток написать пьесу (разрекламированную еще до написания) ничего не вышло, цепь этих неудач — закономерных и неизбежных — поставила его в ряды, людей жалующихся, озлобленных, обиженных… Само собой разумеется, что ни я, ни Олеша, ни Эйзенштейн 1936–1937 годов — не действовали в безвоздушном пространстве, мы чувствовали негласное, но явное для нас сочувствие многих и многих людей искусства — Валерии Герасимовой, Шкловского, Пастернака, Бор. Левина, Соболева и многих других; сочувствие дорого им обошлось, так как и на их творчество легла печать внутреннего смятения и бессилия…
Бабель оговаривает своих друзей… Предвижу возглас: «Закладывает!».
Нам ли, не пережившим лубянских пыток, из своего безопасного далека судить и миловать? Под следствием человека доводили до такого состояния, когда он переставал быть человеком и уже не мог отвечать за свои слова. «Закладывали» все, почти все, заложили бы, не сомневаюсь, и те, кто сегодня берет на себя роль Божьего суда.
К физическим мукам узников добавлялись и душевные терзания, приводившие к психической болезни на грани помешательства. Вот еще одно свидетельство Всеволода Мейерхольда, из его письма Молотову:
…Тому, что я не выдержал, потеряв всякую власть над собой, находясь в состоянии затуманенного, притупленного сознания, способствовало еще одно страшное обстоятельство: сразу же после ареста (20-VI-39) меня ввергла в величайшую депрессию власть надо мной навязчивой идеи «значит, так надо!». Правительству показалось, — стал я себя убеждать, — что за те мои грехи, о которых было сказано с трибуны 1-ой сессии Верховного Совета, недостаточна для меня назначенная мне кара… и я должен претерпеть еще одну кару, ту, которая вот сейчас на меня наложена органами НКВД. «Значит, так надо!» — твердил я себе, и «я» мое раскололось на два лица. Первое стало искать «преступления» второго, а когда оно их не находило, оно стало их выдумывать. Следователь явился хорошим, опытным помощником в этом деле, и мы стали сочинять вместе, в тесном союзе. Когда моя фантазия истощалась, следователи спаривались… и препарировали протоколы (некоторые переписывались по 3, по 4 раза)…
Сознание было по-прежнему притуплено и затуманено, ибо надо мной повис дамоклов меч: следователь все время твердил, угрожая: «Не будешь писать (то есть — сочинять, значит?!), будем бить опять, оставим нетронутыми голову и правую руку, остальное превратим в кусок бесформенного, окровавленного, искромсанного тела». И я все подписывал…
Ложные показания на себя и других вырывались у доведенного до последней черты страдания человека. Но случалось, подследственный предупреждал насилие, зная, что не перенесет его. Один узник Лубянки, корреспондент Би-би-си, со свойственной его нации гордостью заявил:
— Я скажу все, что вы хотите. Я как англичанин не могу допустить, чтобы меня били по лицу…
Во всех показаниях Бабеля, искаженных сверхзадачей следствия, нет ни одного факта преступной деятельности его друзей. Но и такой оговор будет невыносимо мучить его до последнего часа.
В конце своих записей Бабель, балансируя между искренностью и своей ложной ролью, снова обращается к себе:
Множество взоров было обращено на меня; от меня ждали, после длительного молчания, крупных, ярких, жизнеутверждающих вещей, молчание мое становилось козырем для антисоветски настроенных литературных кругов, я же за все последние годы дал несколько небольших рассказов («Ди Грассо», «Поцелуй», «Суд», «Ступак»), незначительных по содержанию, бесконечно удаленных от интересов социалистической стройки, раздражавших и обескураживавших читательские массы. Должен сказать, что в этот период мною подготовлялись и крупные вещи (черновики их найдены в моих бумагах), но работа эта шла со скрипом, я болезненно ощущал лживость ее, противоречие между неизменившейся, отвлеченно «гуманистической» моей точкой зрения и тем, чего ждала советская читательская масса, — произведений о новом человеке, книг, художественно объясняющих настоящее и устремленных в будущее.
Оправдывались слова А. М. Горького — множество раз говорил он мне их — о тупике, который ждет меня. Множество усилий было потрачено Горьким на то, чтобы по-настоящему вернуть меня советской литературе, много душевного внимания и страстной заботы о советском искусстве проявлено было им во время этих разговоров; велика была скорбь его от сознания, что я, один из учеников его, пренебрегаю мудрым, предостерегающим его голосом, обманываю надежды (может быть, преувеличенные), возложенные им на меня. Голос этот был услышан, но поздно — в бумагах моих можно найти начатые наброски комедии и рассказов о самом себе, попытку беспощадного саморазоблачения, отчаянную и позднюю попытку загладить вред, причиненный мною советскому искусству. Чувство долга, сознание общественного служения никогда не руководило литературной моей работой. Люди искусства, приходившие в соприкосновение со мной, испытывали на себе гибельное влияние выхолощенного, бесплодного этого миросозерцания. Нельзя определить конкретно, количественно вред от этой моей деятельности, но он был велик. Один из солдат литературного фронта, начавший свою работу при поддержке и внимании советского читателя, работавший под руководством величайшего писателя нашей эпохи Горького, я дезертировал с фронта, открыл фронт советской литературы для настроений упаднических, пораженческих, в какой-то степени смутил и дезориентировал читателя, стал подтверждением вредительской и провокационной теории об упадке советской литературы. И этот нанесенный мною вред нельзя подсчитать количественно, исчерпать фразами и догадками, но он был велик. Истинные размеры его я ощущаю теперь с невыносимой ясностью, скорбью и раскаянием.
Донос.
С законностью на Лубянке не церемонились: был бы человек — дело найдется! Лишь через полтора месяца после ареста прокурор Рогинский[37] подпишет постановление на арест, санкционирует его: сначала арестовали, а потом стряпают обоснование изъятия человека из общества. Но надо же все-таки иметь хоть какие-нибудь факты?!
Следователи перерыли кучу дел, в которых хотя бы только упоминался Бабель, поэтому, наверное, и запоздали с этой бумагой. Раз упомянут — значит, соучастник! При таком подходе можно было, арестовав одного, посадить потом каждого, любого, всех.
Еще в 1934 году знакомый Бабеля, «троцкист-террорист» Дмитрий Гаевский (приговорен к расстрелу), показал:
— Так как душой и организатором пятилетки является Сталин и возглавляемый им ЦК, то последовательность обязывала сосредоточить огонь именно по этим целям, пуская в ход доступные средства. Так как прямой атаки вести было нельзя, то подлая тихая сапа прорывала путь для нападения в виде анекдотов, клеветы, слуха, сплетен, в соответствии с правилами борьбы. Надо было сделать вначале противника жалким, чтобы позже тем лучше добить. Руководящее ядро специально изобретало это гнусное оружие, и роль его сводилась к тому, чтобы эту продукцию специфически изо дня в день, как по канве, проталкивать на периферию и дальше продвигать в толщу партии. Для этой цели было несколько мастерских, где это оружие фабриковалось. Этим занимались Охотников, Шмидт, Дрейцер, Бабель…
Что и как на самом деле говорил арестованный Гаевский, мы никогда не узнаем. Полуграмотный, пародийный стиль следователя, направляющего показания в нужное русло, весьма ощутим. Показания Гаевского столь абсурдны и комичны, что дальше в ходе следствия над Бабелем просто исчезнут, отпадут, но здесь, в постановлении на арест, они фигурируют.
Гладун Александр Федорович, бывший директор Харьковского станкоинструментального завода, тоже разоблаченный троцкист-террорист (приговорен к расстрелу), показал:
— Я Бабеля увидел впервые в нашем доме по Тверскому бульвару, 20. Его в дом ввела моя бывшая жена Хаютина Е. С. Особенно он негодовал на политику партии в литературе, заявляя: «Печатают всякую дрянь, а меня, Бабеля, не печатают…».
Но в этих показаниях следствие искало нечто более ценное для себя — связь Бабеля с вражеским гнездом — семьей Ежовых. Гладун сообщал, что его жена добилась знакомства с Ежовым, и он стал бывать в их доме почти ежедневно. Для лучшей конспирации сборищ их стали называть «литературными вечерами», благо писатель Бабель часто читал там свои неопубликованные рассказы.
— Бывая на этих так называемых «литературных вечерах», Ежов принимал активное участие в политических разговорах… хвастливо заверял, что в ЦК ему полностью доверяют и продвигают по работе. Эти хвастливые рассказы очень действовали на Евгению Соломоновну и всех остальных, делали Ежова «героем дня». Вовлечение в шпионскую работу Ежова взяла на себя Евгения Соломоновна. Он в нее был безнадежно влюблен и не выезжал из ее комнаты… Хаютина сказала мне, что после ряда бесед с Ежовым ей удалось завербовать его в английскую разведку, и для того, чтобы его закрепить, она с ним вообще сошлась, и что в ближайшее время они поженятся. Она доказывала мне, что Ежов — восходящая звезда и что ей выгодно быть с ним, а не со мной…
Были использованы и показания «троцкиста-террориста» Семена Борисовича Урицкого, и тут следователи не стеснялись откровенной подтасовки — Урицкого допрашивали 22 мая 1939-го и теперь его показаниями обосновывают арест Бабеля, произведенный неделей раньше:
— Бывая в 1928–1929 годах на вечеринках у Гладуна (с женой которого Евгенией Соломоновной был в близких, интимных отношениях еще с 1924-го), я там кроме Гладуна, Ежова часто встречал и писателя Бабеля, который принимал участие в наших антисоветских разговорах.
Позже, уже в 1935-м, от Евгении Соломоновны я узнал, что она также была в близких, интимных отношениях с Бабелем. Как-то при мне, приводя в порядок свою комнату, она натолкнулась на письма Бабеля к ней. Она сказала, что очень дорожит этими письмами. Позже она сказала, что Ежов рылся в ее шкафу, искал письма Бабеля, о которых он знал, но читать не читал. Я об этом факте рассказал потому, что эти письма, бесспорно, представляют интерес.
Я часто присутствовал при их встречах, которые происходили у нее на квартире (в Кисельном переулке), куда Бабель иногда приводил с собой артиста Утесова, в салоне Зины Гликиной[38], в редакции журнала «СССР на стройке». Во время встреч я убедился, что Бабель — человек троцкистских воззрений. Я лично говорил с ним, почему он не пишет. Он сказал мне: писатель должен писать искренне, а то, что у него есть искреннее, то напечатано быть не может, оно не созвучно с линией партии. Он говорил, что чувствует, что надо хоть что-нибудь опубликовать, что его молчание становится открытым антисоветским выступлением…
На самом деле в протоколе допроса Урицкого это высказывание Бабеля приведено другими словами: «…что его молчание становится опасно красноречивым…», — но следователь отредактировал текст в нужном ему ключе.
— Я помню одну встречу в салоне у Зины Гликиной, — показывает Урицкий, — вскоре после процесса военных. Бабель был очень плохо настроен. Я спросил, отчего у него такое плохое настроение. За него ответила Евгения Соломоновна, она сказала: «Среди осужденных есть очень близкие Бабелю люди». Провожая до Кремля Ежову, мы разговорились о Бабеле. Она сказала, что он вообще очень близок со многими украинскими военными троцкистами, что близость эта крепкая, политическая, что арест каждого такого видного военного предрешает необходимость ареста Бабеля, его может спасти только европейская известность…
И снова следователь вмешивается в текст, как ему выгодно: Урицкий говорил о «возможности», а не о «необходимости» ареста Бабеля. Мелочи, казалось бы, а как они разоблачают фальсификаторов с Лубянки! Не смущали их и несовпадения многих фактов и дат в показаниях разных людей, все валилось в кучу, шло в дело.
Но все-таки — где доказательства? И тут появляются «агентурные данные».
«Агентурными данными в течение 1934–1939 гг. подтверждается антисоветская троцкистская деятельность Бабеля. Источник сообщал…».
«Агентурные данные» — это донос, а «источник» — секретный сотрудник, сексот, осведомитель, стукач, фамилия которого надежно спрятана в каких-то других, сверхсекретных сейфах. С 1934-го за Бабелем шла слежка.
И вели эту слежку не только и не столько штатные агенты, а самые различные люди, в том числе и из «братьев-писателей», окружавших Бабеля, — кто по заданию, кто из корысти, кто по ретивости и желанию услужить власти. Доносительством, как и страхом, был пропитан воздух эпохи, и заражены им были миллионы.
Такими «источниками» пользовались «ис-следователи» с Лубянки. Но — ирония судьбы! — мы теперь можем благодаря старанию стукачей узнать мысли Бабеля, какие он тогда не мог опубликовать и не доверял даже бумаге.
В феврале 1938-го «источник сообщает»:
Бабель перескочил на вопрос о Ежове, сказав, что он видел обстановку в семье Ежова, видел, как из постоянных друзей дома арестовывались люди один за одним. Бабель знает, что ему лично уготован уголок. Если он расскажет об этом, то только друзьям. Он Катаеву и другим поведал кое-что, связанное с его пребыванием в числе друзей Ежова.
Бабель сказал, что его мучает. Вместе с ним жили немецкие специалисты (советники Пепельман и Штайнер), они были «свои люди». Он боится, не слишком ли много лишнего он наговорил в 1936-м немцам, уехавшим из СССР. «У меня такое ощущение, что ко мне от немцев кто-нибудь заявится…».
В ноябре 38-го «источник сообщает» о реакции Бабеля на судебный процесс «правотроцкистского блока» — этим инсценированным, широковещательным спектаклем Сталин рассчитывал окончательно сломить оппозицию и запугать народ. Отношением к подсудимым, в свою очередь, как лакмусовой бумажкой, проверялись и выявлялись новые инакомыслящие.
Никаких иллюзий по поводу процесса Бабель не питает. Он говорит:
Чудовищный процесс. Он чудовищен страшной ограниченностью, принижением всех проблем. Бухарин пытался, очевидно, поставить процесс на теоретическую высоту, ему не дали. Бухарину, Рыкову, Раковскому, Розенгольцу нарочито подобраны грязные преступники, охранники, шпионы вроде Шаранговича[39], о деятельности которого в Белоруссии мне рассказывали страшные вещи: исключал, провоцировал и т. д. Раковский, да, он сын помещика, но ведь он отдал все деньги для революции. Они умрут, убежденные в гибели представляемого ими течения и вместе с тем в гибели коммунистической революции, — ведь Троцкий убедил их в том, что победа Сталина означает гибель революции…
Советская власть держится только идеологией. Если бы не было идеологии, десять лет тому назад все было бы окончено. Идеология дала исполнить приговор над Каменевым и Зиновьевым. Люди привыкают к арестам, как к погоде. Ужасает покорность партийцев, интеллигенции к мысли оказаться за решеткой. Все это является характерной чертой государственного режима. На опыте реализации январского пленума ЦК мы видим, что получается другое, чем то, что говорится в резолюциях. Надо, чтобы несколько человек исторического масштаба были бы во главе страны. Впрочем, где их взять, никого уже нет. Нужны люди, имеющие прочный опыт международной политики, их нет. Был Раковский — человек большого диапазона…
И далее, перед арестом Бабеля, «источник сообщает»:
В феврале 1939 года Бабель сказал:
«Существующее руководство ВКП(б) прекрасно понимает, только не выражает открыто, кто такие люди, как Раковский, Сокольников[40], Радек, Кольцов и т. д. Эти люди отмечены печатью высокого таланта и на много голов возвышаются над окружающей посредственностью нынешнего руководства. Но раз эти люди имеют хоть малейшее прикосновение к силам, — руководство становится беспощадным: арестовать, расстрелять!..».
И, наконец, уже накануне ареста один из доносчиков сообщал: Бабель знает о высших руководителях страны нечто такое, что, попади эти сведения в руки иностранного журналиста, они стали бы мировой сенсацией…
Что же послужило непосредственным поводом к аресту Бабеля в мае 1939-го? Ведь ни один человек, включая и стукачей, не дал показаний о серьезных преступлениях писателя, таких, как шпионаж, все свидетельствовали лишь о его критике режима. Никто, кроме одного, этот человек — Николай Иванович Ежов. Только что он держал в «ежовых рукавицах» всю страну — ныне сам сидит где-то рядом с Бабелем, в лубянской камере.
В деле есть выдержка из протокола допроса Ежова 11 мая. За пять дней до ареста Бабеля бывший нарком внутренних дел имел такой диалог со следователем (а им был тот же Кобулов[41], подписавший постановление на арест Бабеля):
Вопрос. Не совсем ясно, почему близость этих людей к Ежовой Е. С. вам показалась подозрительной.
Ответ. Близость Ежовой к этим людям была подозрительной в том отношении, что Бабель, например, как мне известно, за последние годы почти ничего не писал, все время вертелся в подозрительной троцкистской среде и, кроме того, был тесно связан с рядом французских писателей, которых отнюдь нельзя отнести к числу сочувствующих Советскому Союзу. Я не говорю уж о том, что Бабель демонстративно не желает выписывать своей жены, которая многие годы проживает в Париже, а предпочитает ездить туда к ней…
Особая дружба у Ежовой была с Бабелем… Далее, я подозреваю, правда, на основании моих личных наблюдений, что дело не обошлось без шпионской связи моей жены с Бабелем…
Вот так — одним махом — Ежов разделывается сразу и со своей женой, и с ее бывшим любовником. Он знает, что последует за этим обвинением.
Вопрос. На основании каких фактов вы это заявляете?
Ответ. Я знаю со слов моей жены, что с Бабелем она знакома примерно с 1925 года. Всегда она уверяла, что никаких интимных связей с Бабелем не имела. Связь ограничивалась ее желанием поддерживать знакомство с талантливым и своеобразным писателем. Бабель бывал по ее приглашению несколько раз у нас на дому, где с ним, разумеется, встречался и я.
Я наблюдал, что во взаимоотношениях с моей женой Бабель проявлял требовательность и грубость, я видел, что жена его просто побаивается. Я понимал, что дело не в литературном интересе жены, а в чем-то более серьезном. Интимную их связь я исключал по той причине, что вряд ли Бабель стал бы проявлять к моей жене такую грубость, зная о том, какое общественное положение я занимал.
На мои вопросы жене, нет ли у нее с Бабелем такого же рода отношений, как с Кольцовым, она отмалчивалась либо слабо отрицала. Я всегда предполагал, что этим неопределенным ответом она просто хотела от меня скрыть свою шпионскую связь с Бабелем, по-видимому, из нежелания посвятить меня в многочисленные каналы этого рода связи…
Документ сей Бабелю дали прочесть, в том есть его расписка, и он, таким образом, узнал, что послужило толчком к его аресту. В обвинительном заключении по делу Бабеля клеветнический донос Ежова будет стоять на первом месте: «изобличен показаниями репрессированного участника заговора Ежова Н. И.».
Есть люди, похожие на черные дыры в звездном небе человечества. Сила природного зла в них такова, что втягивает в себя и губит все, что попадает в поле их притяжения. И не потому, что такие люди сами по себе отмечены особым знаком, даром злодейства. Нет, дьявол часто выбирает для своих проделок абсолютную серость и наполняет ее своей чернотой.
Как кончился сам нарком Ежов? Следственное дело его в лубянском архиве обнажило примитивное, звериное нутро этого человека. При аресте в его служебном кабинете нашли «сувениры» — пули, завернутые в бумажки, с надписями: «Смирнов»[42], «Каменев», «Зиновьев» — уже расплющенные. В разных укромных местах были запрятаны четыре пистолета и водка, много бутылок, полных, початых и уже пустых. На суде Ежов показывал: «Я не отрицаю, что пьянствовал. Часто заезжал к одному из приятелей на квартиру с девочкой и там ночевал». О жене одного из своих подчиненных: «В октябре или ноябре 1938-го во время попоек у меня на квартире я с ней имел интимную связь». И с ее мужем тоже — «я действительно имел педерастическую связь…».
На исходе властвования Ежова полетели головы друзей его дома. Под ударом и сама Евгения Соломоновна. В деле Ежова подшиты ее душераздирающие письма: «Колюшенька! Очень тебя прошу… настаиваю проверить всю мою жизнь, всю меня… Я не могу примириться с мыслью о том, что меня подозревают в двурушничестве, в каких-то несодеянных преступлениях…» Животный страх владеет ею — еще бы, падать с такого верха!
В октябре 1938-го Евгения Соломоновна попадает в подмосковный санаторий с диагнозом «астено-депрессивное состояние (циклотемия?)». У ее постели дежурят лучшие врачи страны. Через месяц она скончалась. Акт вскрытия гласит: «Труп женщины 34 лет, среднего роста, правильного телосложения, хорошего питания» Причина смерти — отравление люминалом. Самоубийство? Возможно. Но скорее всего — организованное. В приговоре Ежову сказано: «…организовал ряд убийств неугодных ему лиц, в том числе и своей жены».
Несколько лет назад, после одной из своих публикаций, я получил письмо — весьма неожиданное. Писала мне из поселка Ола Магаданской области приемная дочь четы Ежовых — Наталья Николаевна Хаютина. Она была взята из детдома, когда ей не было и года, а после смерти матери и ареста отца опять отправлена в детдом как дочь врага народа. Вся ее жизнь была скомкана и изуродована, так что время, проведенное в семье наркома, осталось единственным светлым пятном в жизни.
Так вот, она была уверена, что отец ее оговорил себя, под пытками, и ратовала за его реабилитацию. И вот что сообщила об этом эпизоде с отравлением ее приемной матери, со слов родной сестры наркома — Евдокии Ивановны. Та рассказала ей:
«…Женя позвонила мне из клиники и сказала, чтобы я взяла у Коли машину, так как ее выписывают. Я приехала, меня пропустили в палату. И что же я вижу? Женя лежит белая, как стена, и уже лишилась дара речи. Глазами показала мне на тумбочку. Там лежало письмо, естественно, без подписи. В нем ее обвиняли в том, что она все наши секретные строительства передавала за границу.
Женя взяла карандаш и написала на конверте: „Я не виновата!“.
Тогда я спросила медсестер, что же они все стоят и даже укол не поставят. А они ответили, что она никому не дается и что ждут ее лечащего профессора.
Приехал, сделал укол, а мне сказал: „Поезжайте домой, как только она проснется, мы вам позвоним“.
И позвонили — на следующий день, в 11 часов утра — „забрать труп“».
«Так что и по сей день неизвестно, — добавляет дочь Ежовых, — заставили профессора „вломить“ такую дозу люминала или припугнули, но результат был налицо. И когда я подавала на реабилитацию отца, то с него сняли отравление жены, оставили только расстрелы, но от этого уже никуда не деться…».
А вскоре после смерти Евгении и звезда Ежова закатилась: 7 декабря он снят с поста наркома внутренних дел и заменен Берией, и спустя четыре месяца, после обычной сталинской игры в кошки-мышки — позабавиться, прежде чем придушить — 10 апреля 1939-го сам заключен в Сухановскую тюрьму. Но и оттуда кровавый карлик продолжает сеять смерть — тянет за собой в могилу других: арестованы первый муж Евгении Соломоновны — Хаютин и, наконец, Бабель…
Этот малый вождь и палач своего народа — сталинчик, типичный большевик «сталинского разлива», дорвавшийся до власти. Поэты слагали стихи в честь «батыра Ежова», Троцкий называл его «маршалом тайной полиции», а он в глубине души оставался холопом с неоконченным низшим образованием, терзаемым комплексом неполноценности. Но ведь чем ничтожнее человек, тем больший противовес внешнего самоутверждения и агрессивности ему нужен. Его хозяин — недоучившийся семинарист — люто ненавидел интеллигенцию, всех, кто был умнее и образованнее его, и намеренно окружал себя людьми низкого уровня, которые бы подчеркивали его превосходство.
Среди кремлевских звезд — и черная звезда Ежова, звезда-карлик, не первой величины. Перед расстрелом Ежов попросил:
— Передайте Сталину, что умирать я буду с его именем на устах.
Что тянуло Бабеля в дом Ежова, куда он летел, как бабочка на огонь? Прежде всего профессиональный интерес писателя. Известно, что он долгое время работал над книгой о ЧК: собирал материалы, беседовал с видными чекистами, рассказы их слушал с жадностью, что-то заносил в свою записную книжку. Ходили даже слухи, что его «роман о ЧК» был отпечатан в нескольких экземплярах для Сталина и членов Политбюро и не получил одобрения. Скорее всего это легенда, но не случайная, нет дыма без огня.
Илья Эренбург пишет в своих мемуарах, что его друг понимал всю опасность этих визитов, но хотел, как сам говорил, «разгадать загадку». Однажды он сказал Эренбургу:
— Дело не в Ежове. Конечно, Ежов старается, но дело не в нем…
Писатель хотел поймать «момент истины». Неужели нужен был лубянский застенок, чтобы пришел этот момент?!
О чем думал, что говорил Бабель в тюремной камере? Как ни фантастично, даже об этом мы смогли сегодня кое-что узнать.
В июле-августе 39-го Бабель содержался в камере № 89 4-го корпуса внутренней тюрьмы Лубянки вместе со Львом Николаевичем Бельским[43]. Вот его свидетельство «на тему о лживых показаниях»:
С показаниями везет не всегда. Со мной в камере сидел писатель Бабель. Следствие проходило у нас одновременно. Я назвал себя германо-японским шпионом, Бабель обвинил себя в шпионских связях с Даладье. Когда был заключен советско-германский альянс, Бабель сокрушался, что уж теперь-то его несомненно расстреляют, и поздравлял меня с вероятным избавлением от подобной участи…
Обвинение.
В июле-августе следствие не двигалось. Может быть, изрядно потрудившаяся троица Сериков — Кулешов — Шварцман получила заслуженный отпуск? Или была отстранена от дела за то, что не справилась? Ибо 11 сентября дело Бабеля неожиданно переводится из следственной части НКВД в следственную часть Главного управления госбезопасности НКВД, в него впрягается другая, свежая тройка следователей: Акопов — Кочнов — Родос.
В тот же день Бабель, вероятно по указке следователей, пишет покаянное письмо самому Берии:
Народному Комиссару внутренних дел Союза ССР.
Революция открыла для меня дорогу творчества, дорогу счастливого и полезного труда. Индивидуализм, свойственный мне, ложные литературные взгляды, влияние троцкистов, к которым я попал в самом начале моей литературной работы, — заставили меня свернуть с этого пути. С каждым годом писания мои становились ненужнее и враждебнее советскому читателю; но правым я считал себя, а не его. Из-за губительного разрыва иссякал самый источник моего творчества, я делал попытки высвободиться из плена слепой, себялюбивой ограниченности; попытки эти оказались жалки и бессильны. Освобождение пришло в тюрьме. За месяцы заключения понято и передумано больше, может быть, чем за всю прошлую жизнь. С ужасающей ясностью предстали предо мной ошибки и преступления моей жизни, тлен и гниль окружавшей меня среды, троцкистской по преимуществу. Всем существом своим я ощутил, что эти люди не только враги и предатели советского народа, но и носители мироощущения, в котором всепротиворечит простоте, ясности, веселью, физическому и моральному здоровью, противоречит всему тому, что составляет истинную поэзию. Мироощущение это выражалось в дешевом скептицизме, в щегольстве профессиональным неверием, в брезгливой усталости и упадничестве уже в первые годы революции, в неразборчивой личной жизни, с возведением самого грязного распутства в принцип и молодечество. В одиночестве своем новыми моими глазами я увидел Советскую страну такой, какая она есть на самом деле, — невыразимо прекрасной, тем мучительнее видение мерзостей прошлой моей жизни…
Гражданин Народный Комиссар. На следствии, не щадя себя, охваченный одним только желанием очищения, искупления, — я рассказал о своих преступлениях. Я хочу отдать отчет и в другой стороне моего существования — в литературной работе, которая шла скрыто от внешнего мира, мучительно, со срывами, но непрестанно. Я прошу Вас, гражданин Народный Комиссар, разрешить мне привести в порядок отобранные у меня рукописи. Они содержат черновики очерков о коллективизации и колхозах Украины, материалы для книги о Горьком, черновики нескольких десятков рассказов, наполовину готовой пьесы, готового варианта сценария. Рукописи эти — результат восьмилетнего труда, часть из них я рассчитывал в этом году подготовить к печати. Я прошу Вас также разрешить мне набросать хотя бы план книги в беллетристической форме о пути моем, во многих отношениях типичном, о пути, приведшем к падению, к преступлениям против социалистической страны. С мучительной и беспощадной яркостью стоит он передо мною; с болью чувствую я, как возвращаются ко мне вдохновение и силы юности, меня жжет жажда работы, жажда искупить и заклеймить неправильно, преступно растраченную жизнь.
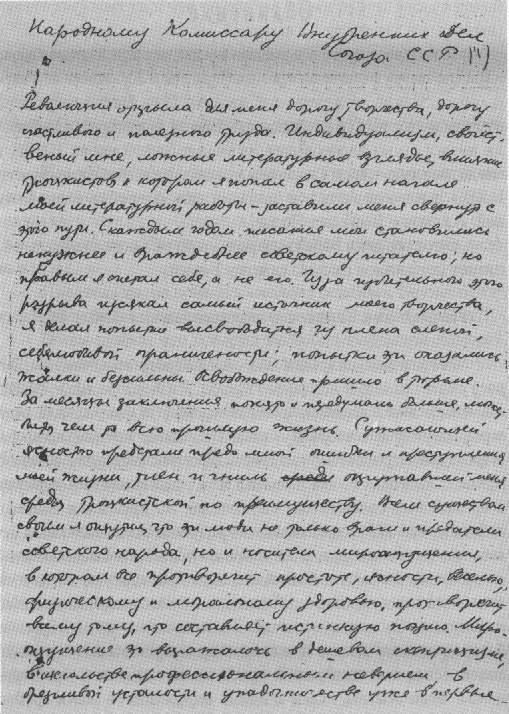
Заявление И. Э. Бабеля наркому внутренних дел СССР Л. П. Берии.
11 Сентября 1939 года.
В чем кается Бабель? Никаких реальных преступлений за ним нет, это ясно всем. Единственная его вина в том, что он — Бабель, преступление — он сам, преступление — быть Бабелем…
Скорей всего он уже не верил, что выживет, — любая из статей, предъявленных ему, грозила расстрелом. Сделал последнюю судорожную попытку прорваться к своей работе, надеялся перед концом привести в порядок рукописи — «результат восьмилетнего труда». Не дали. Как похож в этом Бабель на другого сталинского узника — философа Павла Флоренского, который, узнав, что рукописи его изъяты ОГПУ, с отчаянием воскликнул: «Труд всей моей жизни пропал… Это хуже физической смерти». Хуже смерти…
Прошел еще месяц. 9 октября новые следователи вносят поправку в предъявленное Бабелю обвинение, снимают одну статью из четырех — вредительство. А на следующий день вызывают его на последний допрос.
И тут подследственный делает неожиданный шаг — отказывается от части своих показаний. Начинается восхождение Бабеля к своему концу. На этот раз перед нами не машинописная копия протокола допроса, а подлинник, написанный рукой лейтенанта Акопова:
Вопрос. Обвиняемый Бабель, что вы имеете дополнить к ранее данным показаниям?
Ответ. Дополнить ранее данные показания я ничем не могу, ибо я все изложил о своей контрреволюционной деятельности и шпионской работе, однако я прошу следствие учесть, что при даче мной предварительных показаний я, будучи даже в тюрьме, совершил преступление.
В. Какое преступление?
О. Я оклеветал некоторых лиц и дал ложные показания в части моей террористической деятельности.
В. Вы решили пойти на провокации следствия?
О. Нет, я такой цели не преследовал, ибо я представляю ничто по отношению к органам НКВД. Я солгал следствию по своему малодушию.
В. Расскажите, кого вы оклеветали и где солгали.
О. Мои показания ложны в той части, где я показал о моих контрреволюционных связях с женой Ежова — Гладун-Хаютиной. Также неправда, что я вел террористическую деятельность под руководством Ежова. Мне неизвестно также об антисоветской деятельности окружения Ежовой. Показания мои в отношении Эйзенштейна С. М. и Михоэлса С. М. мною вымышлены. Я свою шпионскую деятельность в пользу французской разведки и австрийской разведки подтверждаю. Однако я должен сказать, что в переданных мной сведениях иностранным разведкам я сведения оборонного значения не передавал…
Почему же Бабель не отказался сразу от всех показаний, почему не отрицает и свой шпионаж — самую страшную нелепицу? Видимо, тактика его такова: свести на нет результаты следствия постепенно — прежде защитить других, а потом уже себя. Пока он в руках Органов — он «ничто». Но впереди суд, и там он скажет правду до конца!
Но как бы ни вел себя Бабель, что бы ни говорил, от него уже ничего не зависит. Судьба его решена, и решена не на следствии, а гораздо раньше, в момент ареста. НКВД не ошибается!
Сразу же после допроса Акопов строчит еще один протокол — об окончании следствия: хватит, повозились, пора отдавать в руки правосудия! Соблюдены формальности: в камеру Бабеля приходит врач Кузьмина, регистрирует: у арестованного хронический бронхит, в остальном, стало быть, здоров.
13 Октября уже готово обвинительное заключение: «Считая предварительное следствие законченным, следственное дело № 419 передать в Прокуратуру СССР для направления по подсудности», — и вереница подписей, снизу вверх: следователь Акопов, старший следователь Кочнов, заместитель начальника следчасти Родос, начальник Сергиенко[44]. К ним присоединяется военный прокурор Постников — утверждает документ. Демарш Бабеля — отказ от части своих показаний — следователи просто проигнорировали.
И все же почему-то они медлят с направлением дела в суд, задерживают до особого распоряжения еще на месяц.
5 Ноября Бабель обращается к Верховному прокурору. Записка на клочке бумаги, буквы неровные.
Со слов следователя мне стало известно, что дело мое находится на рассмотрении Прокуратуры СССР. Желая сделать заявления, касающиеся существа дела и имеющие чрезвычайно важное значение, — прошу меня выслушать.
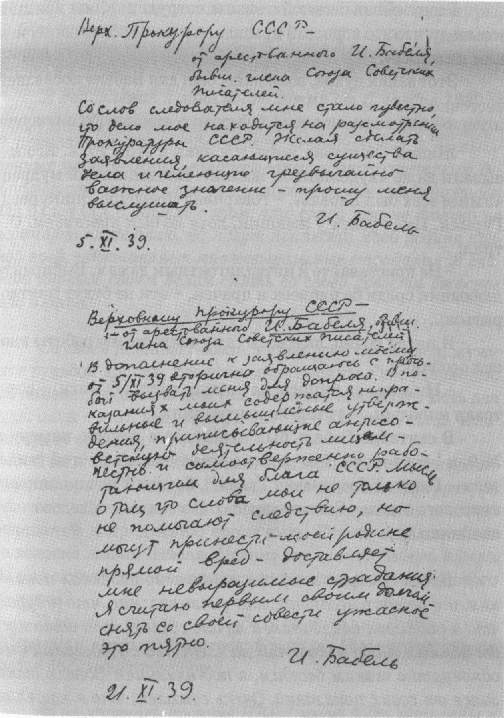
Заявления И. Э. Бабеля Верховному прокурору СССР.
5 Ноября 1939 и 21 ноября 1939 года.
На следующий день начальник тюрьмы капитан Миронов отправил записку по назначению.
Перед праздником 7 Ноября, как вспоминает вдова Бабеля Антонина Николаевна Пирожкова, к ней на Николо-Воробинский пришел молодой сотрудник НКВД и попросил дать для Бабеля брюки, носки и носовые платки.
«Какое счастье, что во время обыска удалось перенести брюки Бабеля из его комнаты в мою. Носки и носовые платки имелись в моем шкафу. Я надушила носовые платки своими духами и все эти вещи передала вошедшему. Мне так хотелось послать Бабелю привет из дома! Хотя бы знакомый запах.
Раздумывая с мамой о визите сотрудника, мы пришли к выводу, что это хороший признак, какое-то облегчение, как нам казалось».
Этот запах духов, возможно, был для Бабеля последней весточкой из дома.
Жизнь! Он любил жить — и знал в этом толк. Его называли даже «художником жизни». Насмешливый мудрец. «Умнее всех был Бабель», — говаривал Эренбург. Эпикуреец. Гурман. Имел успех у женщин, хотя не был красавцем. Острил:
— Не приставайте к интеллигентным дамам. Выбирайте любовниц среди белошвеек и прачек, — эти не будут притворяться…
И писал сочно, вкусно, в саму технологию работы вносил особинку.
— Никогда не пишите на чистых листах бумаги, — советовал молодым, — лучше на квитанциях…
В сентябре Бабель был переведен в другую камеру — № 9, в 1-м корпусе. Там рядом с ним оказался другой свидетель — Георгий Георгиевич Гренц[45], бывший начальник финансового отдела «Главсельмаша». В заявлении следователю он написал:
Бабель говорил мне, что я напрасно подписал показания, и в беседах неоднократно указывал мне, что я дурак, что я подписал показания, и лучше сделаю, если откажусь от данных мною показаний на следствии. Подвергаясь неоднократно таким беседам, я под влиянием Бабеля отказался от своих показаний. Очень сожалею, что я пошел по неправильному пути, и подтверждаю свои первоначальные показания.
21 Ноября, не дождавшись ответа из Прокуратуры, Бабель пишет туда опять, тоже на обрывке, рука так же нетверда.
В дополнение к заявлению моему от 5 ноября 1939-го вторично обращаюсь с просьбой вызвать меня для допроса. В показаниях моих содержатся неправильные и вымышленные утверждения, приписывающие антисоветскую деятельность лицам, честно и самоотверженно работающим для блага СССР. Мысль о том, что слова мои не только не помогают следствию, но могут принести моей родине прямой вред, — доставляет мне невыразимые страдания. Я считаю первым своим делом снять со своей совести ужасное это пятно.
Со своей жизнью Бабель, видно, уже простился, мучается судьбой других. Все последние месяцы. Он признается: да, виноват, но совсем не в том, в чем его обвиняют. Есть два суда: один — этот, неправый, и другой — высший, когда человек судит себя сам.
Тем временем следователи в который раз задерживают дело, теперь до 2 января 1940-го, хотя военная прокуратура торопит: «Дело закончено, подлежит направлению в суд. Оснований к продлению срока нет». Кто-то еще колеблет на волоске жизнь Бабеля. Почему же тянут? Бабель нужен им для новых арестов, для раскрутки еще одного массового процесса?
В декабре деньги для Бабеля от жены на Лубянке уже не приняли. Он был в Бутырской тюрьме. И оттуда отправил третье послание прокурору:
Во внутренней тюрьме НКВД мною были написаны в Прокуратуру Союза два заявления — 5 ноября и 21 ноября 1939 года — о том, что в показаниях моих оговорены невинные люди. Судьба этих заявлений мне неизвестна. Мысль о том, что показания мои не только не служат делу выяснения истины, но вводят следствие в заблуждение, — мучает меня неустанно. Помимо изложенного в протоколе от 10 октября, мною были приписаны антисоветские действия и антисоветские тенденции — писателю И. Эренбургу, Г. Коновалову, М. Фейерович, Л. Тумерману[46], О. Бродской и группе журналистов — Е. Кригеру, Е. Бермонту, Т. Тэсс. Все это ложь, ни на чем не основанная. Людей этих я знал как честных и преданных советских граждан. Оговор вызван малодушным поведением моим на следствии.
Эта записка вся испещрена подчеркиваниями зеленым и красным карандашом, резолюциями и штампами.
22 Января на обвинительном заключении появляется еще одна надпись прокурора: «Дело направить в Военную коллегию для слушания».
Дело близится к развязке.
Приговор.
Бабель бьется до конца, теперь уже за других.
25 Января, за день до судебного заседания, он получил обвинительное заключение и сразу обратился с заявлением к председателю Военной коллегии Верховного Суда. Это последние слова, написанные Бабелем:
5 Ноября, 21 ноября 1939 года и 2 января 1940 года я писал в Прокуратуру СССР о том, что имею сделать крайне важные заявления по существу моего дела, и о том, что мною в показаниях оклеветан ряд ни в чем не повинных людей. Ходатайствую о том, чтобы по поводу этих заявлений был до разбора дела выслушан Прокурором Верховного Суда.
Ходатайствую также о разрешении мне пригласить защитника; о вызове в качестве свидетелей — А. Воронского, писателя И. Эренбурга, писательницы Сейфуллиной, режиссера С. Эйзенштейна, артиста С. Михоэлса и секретарши редакции «СССР на стройке» Р. Островской…
(Бабель не знает, что зовет мертвого, — Александр Константинович Воронский был расстрелян в 1937-м. — В.Ш.).
Прошу также мне дать ознакомиться с делом, так как я читал его больше четырех месяцев тому назад, читал мельком, глубокой ночью, и память моя почти ничего не удержала.
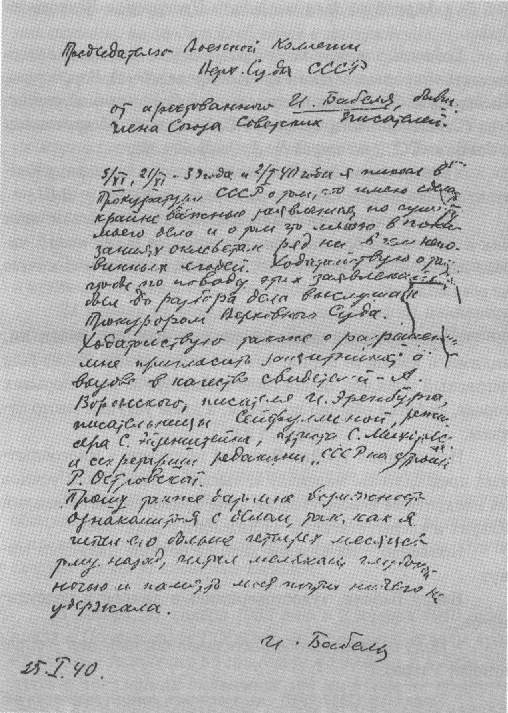
Заявление И. Э. Бабеля председателю Военной коллегии Верховного Суда СССР. 25 января 1940 года.
На следующий день, 26 января, был суд. Заседали, видимо, в кабинете Берии, тут же, в Бутырках. Таков был негласный порядок: Берия имел кабинеты во всех тюрьмах города, работал обычно по ночам, а днем уступал место судьям.
Испытанная тройка Военной коллегии — многоопытный председатель, маленький, лысый, с нашлепкой усиков на квадратном невозмутимом лице армвоенюрист Василий Ульрих и члены, статисты — Кандыбин и Дмитриев[47].
Конвейер — на каждое дело не больше двадцати минут.
Ввели Бабеля, «удостоверились в личности подсудимого»…
— Получили ли вы обвинительное заключение? — спрашивает Ульрих.
— Да, получил, ознакомился. Обвинение мне понятно.
Ульрих объявляет состав суда.
— Отводы по составу суда есть?
— Нет… Но я прошу мне дать познакомиться с делом, прошу пригласить защитника и вызвать свидетелей — тех, кого указывал в своем заявлении…
Судьи, перекинувшись репликами, решают: ходатайство отклонить как необоснованное. Пресекли попытку подсудимого подать свой голос на волю.
— Признаете ли вы себя виновным?
Вот теперь Бабель наконец скажет им всю правду. Другой возможности не будет.
— Нет, виновным я себя не признаю. Все мои показания, данные на следствии, — ложь. Я встречался когда-то с троцкистами — встречался, и только…
Судьи листают дело, приводят высказывания Бабеля по поводу политических репрессий.
— Эти показания я отрицаю, — говорит Бабель.
— Вы не имели преступной связи с Воронским?
— Воронский был сослан в 1930 году, а я с ним с 1928 года не встречался.
— А Якир[48]?
— С Якиром я виделся всего один раз и говорил пятнадцать минут, когда хотел писать о его дивизии.
— А ваши заграничные связи, их вы тоже отрицаете?
— Я был в Сорренто у Горького. Был в Брюсселе у матери, она живет там у сестры, которая уехала в 1926 году…
Судьи снова цитируют показания из дела — о встречах с Сувариным.
— Я встречался с Сувариным, но о враждебности его к Советскому Союзу ничего не знал.
— И о Мальро ничего не знали?
— С Мальро я был дружен, но он не вербовал меня в разведку, мы говорили о литературе, о нашей стране…
— Но вы же сами показали о своих шпионских связях с Мальро?
— Это неправда. С Мальро я познакомился через коммуниста Вайян-Кутюрье, Мальро — друг Советского Союза, он мне очень помогал с переводами на французский. Что я мог сказать ему об авиации? Только то, что знал из газеты «Правда», и больше он ни о чем не спрашивал. Я категорически отрицаю свою связь с французской разведкой. И с австрийской тоже. С Бруно Штайнером мы просто жили по соседству в гостинице, а потом в одной квартире…
Судьи переходят к другому пункту обвинения — к терроризму.
— У вас были связи с Ежовым?
— С Ежовым никаких террористических разговоров у меня никогда не было.
— Вы показали на следствии о том, что на Кавказе готовилось покушение на товарища Сталина.
— Я слышал такой разговор в Союзе писателей…
— Ну, а подготовка убийства Сталина и Ворошилова шайкой Косарева и Ежовой?
— Это тоже выдумка. С Ежовой я встречался, она была редактором журнала «СССР на стройке», а я там работал.
Судьи снова цитируют показания, и Бабель их опять отвергает:
— На квартире Ежова я бывал, встречался с друзьями его дома, но никаких антисоветских разговоров там не было.
— Хотите чем-нибудь дополнить судебное следствие? — спросил Ульрих.
— Нет, дополнить следствие мне нечем.
На этом рассмотрение дела и закончилось. Подсудимому дали последнее слово.
Бабель сказал:
— В 1916 году, когда я написал свое первое сочинение, я пришел к Горькому. Потом был участником гражданской войны. В 21-м снова начал писать. В последнее время усиленно работал над одной вещью, которую закончил в черновике к концу 38-го. Я ни в чем не виновен, шпионом не был, никогда никаких действий против Советского Союза не совершал. В своих показаниях возвел на себя поклеп. Прошу об одном — дать мне возможность закончить мою последнюю работу…
Суд удалился на совещание и тут же вернулся. Ульрих огласил заранее предрешенный приговор:
«Именем Союза Советских Социалистических Республик… Военная коллегия… рассмотрела дело… Установлено… вошел в состав антисоветской троцкистской группы… являлся агентом французской и австрийской разведок… будучи связанным с женой врага народа Ежова… был вовлечен в заговорщицкую террористическую организацию… Признавая Бабеля виновным… приговорила… подвергнуть высшей мере наказания — расстрелу… Приговор окончательный… в исполнение приводится немедленно…».
Теперь мы знаем и точную дату, и даже час гибели: 27 января 1940-го, 1 час 30 минут. В тот же день он был кремирован.
В расстрельном списке, подписанном Берией и завизированном Сталиным, Бабель значится под номером двенадцать, среди других трехсот сорока шести смертников. Известно теперь даже имя палача, который командовал расстрелом писателя — капитан ГБ, начальник комендантского отделения Блохин[49].
Реабилитация.
— Сведений о месте захоронения нет, — сказали мне на Лубянке, когда я знакомился с делом Бабеля.
Захоронения своих жертв сталинские палачи тщательно скрывали. Прошли десятки лет, места массовых расстрелов, братские могилы заросли деревьями, были застроены домами и фабриками, залиты асфальтом и бетоном. Но и эта тайна стала со временем приоткрываться…
Начало 1940 года, когда погиб Бабель, было урожайным по части расстрелов. 27 января убит Бабель, 2 февраля — Мейерхольд и Кольцов, 6 февраля — Ежов. И как выяснилось все же, тела расстрелянных увозили по ночам из тюрем в крематорий, расположенный на территории бывшего Донского монастыря, в центре Москвы. Есть свидетельства, что прах сваливали в общую яму, там же, рядом с крематорием, на кладбище. В этой братской могиле перемешались останки и жертв, и палачей, там, судя по всему, упокоился прах и Бабеля, и Ежова. Когда могила заполнилась, ее сровняли с землей. И много лет сверху стояла плита:
ОБЩАЯ МОГИЛА № 1.
ЗАХОРОНЕНИЕ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ПРАХОВ.
С 1930 г. — 1942 г. включ.
Стоит она и до сих пор, хотя на оборотной стороне появилась еще одна надпись: «Здесь захоронены останки невинно замученных, расстрелянных жертв политических репрессий. Вечная им память!».
Была осень, когда я пришел на это место, с деревьев сыпались листья. Несколько старушек стояли у плиты, говорили вполголоса.
Отойдя шагов двадцать в сторону от могилы, я вздрогнул: на одной из плит мелькнула надпись — «Хаютина Евгения Соломоновна. 1904–1938». Это была ее могила! И после смерти они все трое — Бабель, Ежов и эта женщина — оказались рядом.
Кабинет арестованного Бабеля в московской квартире, где жила его семья, стоял опечатанным. Через два года после ареста в него въехал новый хозяин — туда подселили следователя НКВД с женой. А оказавшаяся в таком соседстве вдова писателя все еще ждала, надеялась, посылала запросы. Ей отвечали: «Жив, здоров, содержится в лагерях». Так было в 1944-м, 45-м, 46-м. В 47-м — радостная весть, официально сообщили: «Будет освобожден в 1948 году…» Антонина Николаевна воспряла духом, даже отремонтировала квартиру к возвращению мужа. В 48-м он не пришел, но оставалась надежда: «Жив, здоров, содержится в лагерях». Передавали слухи, рассказывали, что кто-то видел Бабеля на Колыме, в Красноярском крае… И она ждала.
Прошло четырнадцать лет после убиения Бабеля. Умер Сталин. Наступила «оттепель», или, как шутили острословы, «Ранний Реабилитанс». Родственники репрессированных начали разыскивать своих пропавших близких. Подала заявление и Антонина Николаевна Пирожкова.
Прокурор, которому было поручено это дело, спросил ее о судьбе книг, написанных Бабелем.
— После ареста его книги не издавались, а то, что было в библиотеках, — изъято…
Чтобы реабилитировать невиновного, понадобилось подшить к делу отзывы трех человек — Екатерины Павловны Пешковой, Ильи Эренбурга и Валентина Катаева. «В „Конармии“ Бабель все-таки не поднял подвиг русского народа на ту высоту, которой он достоин…» — добавил ложку дегтя Катаев.
18 Декабря 1954 года Военная коллегия Верховного Суда вынесла определение:
…Бабель в суде виновным себя не признал и заявил, что на предварительном следствии он себя и других лиц оговорил по принуждению… Фигурирующий в показаниях Бабеля ряд лиц, якобы причастных к его преступной деятельности, в том числе Эренбург, Катаев, Леонов, Иванов, Сейфуллина и другие, не арестовывались и вообще не привлекались к ответственности, а дело в отношении секретаря ЦК ВЛКСМ Косарева прекращено за отсутствием состава преступления… Просмотром архивно-следственных дел Урицкого и Гладуна, показания которых были приобщены к делу Бабеля в качестве документальной вины Бабеля, установлено, что они впоследствии от своих показаний отказались как от вымышленных (Гладун заявил на суде: «Показания даны при физическом принуждении со стороны следователя». — В.Ш.).
Прокуратура также установила, что принимавшие участие в расследовании дела Бабеля бывшие работники НКВД Родос и Шварцман арестованы как фальсификаторы следственных дел.
Военная коллегия Верхсуда СССР, проверив материалы дела и согласившись с заключением прокурора, определила: «приговор в отношении Бабеля И. Э. отменить по вновь открывшимся обстоятельствам и дело о нем прекратить».
Но и теперь еще за делом Бабеля тянется ложь. На обороте последнего листа заключения прокурора о реабилитации дана недвусмысленная справка: «Приговор в отношении Бабеля приведен в исполнение 27 января 1940 г.».
А полтора месяца спустя после заключения прокурора Военная коллегия сообщает в Главную военную прокуратуру, КГБ и МВД:
«Пирожковой объявить о реабилитации Бабеля и о том, что он, отбывая наказание в местах заключения, умер…» — и дальше в пустое закавыченное пространство чья-то недрогнувшая рука вписывает чернилами: «17 марта 1941 года».
Через месяц опять: «Сообщаем, что Бабель, отбывая наказание, умер 17 марта 1941 г.», — дата уже напечатана на машинке.
И так идет во все энциклопедии и справочники, до сегодняшнего дня протянулось это уже бессмысленное вранье!
Так что же стало с теми рукописями — двадцатью четырьмя папками — на несколько томов? В день ареста они были упакованы в семь свертков, опечатаны сургучной печатью, и некий Кутырев, младший лейтенант 5-го отделения 2-го отдела ГУГБ НКВД, по чьей-то команде изъял их из материалов дела. С этого момента след их теряется.
Поиски предпринимались не раз. Безуспешно. И сейчас в архиве ЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ была проведена тщательная проверка с целью обнаружить если не сами рукописи, то хотя бы какие-нибудь сведения о них. Ведь, как известно, и отрицательный результат — результат.
Установлено: в хранилищах архива рукописей Бабеля нет. Каких-либо сведений о пересылке их в другие инстанции в материалах переписки НКВД с партийными и другими организациями тоже не найдено. Попытались мы разыскать Кутырева, который мог пролить свет на судьбу рукописей. Умер…
Но нет и документов об уничтожении рукописей! Остается только гадать.
Надежды, что рукописи уцелели, почти не осталось. Почти… потому что мы и сегодня не можем сказать, что секретные архивы Лубянки до конца обследованы, открыты. Потому что есть еще громадные Партийный и Президентский архивы со своими тайниками.
Приходится надеяться разве что на чудо. И если его не произойдет, нам останется только горестно знать, чего мы лишились, что писатель Бабель во всей его творческой мощи нам неизвестен, что он у нас украден.
Клочок неба над Лубянкой проткнула закопченная труба, столб дыма, десятилетиями посыпавший Москву пеплом сожженных рукописей. Сколько улетело в эту трубу книг, которых уже никто никогда не прочтет!
Мастер глазами ГПУ. ЗА КУЛИСАМИ ЖИЗНИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА.

Выявить физиономию.
Визит серой фигуры.
От хамов нет спасения.
Пишу по чистой совести.
За эту пьесу следовало бы расстрелять.
«Бег» с препятствиями.
Мыслим ли я в СССР?
Оглушительный звонок.
По намыленному столбу.
Голос друга.
Выявить физиономию.
Секретный отдел ОГПУ выловил заметку, появившуюся в ноябрьском номере берлинского журнала «Новая русская книга» за 1922 год. Некто Булгаков Михаил Афанасьевич сообщал, что он затевает составление «полного библиографического словаря современных русских писателей с их литературными силуэтами», и потому просил «всех русских писателей во всех городах России и за границей» присылать ему «автобиографический материал». Автор заметки призывал все газеты и журналы перепечатать его обращение.
Замысел, что и говорить, амбициозный! А главное — самодеятельный, неподконтрольный. Кто этот новоявленный Брокгауз и Эфрон?
За личиной биографа угадывался литератор: «Желателен материал с живыми штрихами», а следующая фраза: «особенная просьба к начинающим, о которых почти или совсем нет материала», — этот акцент на молодых словно намекал, что и сам автор — новичок в литературе.
Впрочем, удостовериться во всем этом не составляло большого труда — тут же был указан адрес: Москва, Большая Садовая, 10, квартира 50.
Кончилась Гражданская война. Грозы военного коммунизма остались позади, советская власть переходила к строительству невиданной, первой в истории, социалистической республики. Начали с отступного маневра — нэпа, новой экономической политики, временного возврата к частному рынку. Однако гибкость в экономике вовсе не означала идейной шаткости. Одолев внешнего врага, хозяева жизни — большевики — обратились к внутреннему. Настал черед интеллигенции, предстояло проверить ее на благонадежность, селекционировать: покорных — подчинить; от непокорных — избавиться: кого выбросить за кордон, кого, наоборот, изолировать и упрятать поглубже; а самых непокорных — к стенке, на революционном жаргоне — пустить в расход.
Затея со словарем русских писателей показалась небезобидной. Она явно шла вразрез с установкой властей. В самом деле, вместо размежевания, разделения литературы по единственно верному, классовому, признаку — на красных и белых, наших и не наших — предлагалось смотреть на нее как на единое целое независимо от государственных границ и политических взглядов.
В этом Лубянка усмотрела крамолу. На Булгакова было заведено досье. Коротенькая заметка в эмигрантском журнале дала толчок для многолетнего надзора за автором, слежки, которая, подобно хватке удава, то сжимает, то дает перевести дыхание, но уже не отпустит до самой смерти.
Что могло узнать тогда ОГПУ о нем, этом самом никому не ведомом Булгакове? Прописался в Москве год назад, тридцати одного года от роду, женат, живет очень бедно, в коммунальной квартире, служит секретарем в литературном отделе Главполитпросвета, перебивается мелкими гонорарами, печатая фельетоны в газетах и журналах. Один из тех литературных поденщиков, которых в столице — пруд пруди. На время Булгакова оставили в покое.
Дело получило продолжение через год. К заметке из «Новой русской книги» прибавилась копия перлюстрированного ОГПУ письма из Берлина писателя Романа Гуля в Москву, другому писателю — Юрию Слезкину. Гуль, который по заказу зарубежного издательства составлял литературный раздел энциклопедического словаря, вспомнив, что Булгаков затевал подобную работу, просит его — через Слезкина — прислать собранные материалы, с уверениями об их непременном возврате. «Дело-то, в конце концов, общее, интересное и всем нужное» (письмо датировано 21 марта 1924 года).
Неизвестно, дошла ли просьба Гуля по назначению и что стало с материалами, которые собирал Булгаков, но из биографии его мы знаем, что к этому времени свою затею со словарем он оставил и больше не возобновлял, видимо поняв ее безнадежность.
Зато на полях письма Гуля проступает для нас другая информация. В ОГПУ приписали: «К делу Булгакова „Биографический словарь“. Гендин…».
Это имя в досье будет попадаться часто. Ибо именно ему, уполномоченному Седьмого отделения Секретного отдела Семену Гендину[50], поручено вести надзор за Булгаковым. И он берется за дело со все возрастающим рвением.
Уже в мае перехвачено и скопировано письмо к Булгакову сотрудника «Красного журнала для всех» Николая Каткова с предложением адресату напечатать главы из его романа «Белая гвардия». Таким образом, выясняется, что М. А. Булгаков — не столько библиограф и не только журналист, но уже и беллетрист, писатель! В литературном полку прибыло!
Вскоре досье пополнилось еще одним документом. Это тоже письмо, но не копия, а подлинник. 22 мая Константин Булгаков, двоюродный брат Михаила, сообщает ему из Киева о своем знакомстве с корреспондентом английской газеты «Дейли кроникл» Лоутоном и о том, что этот господин ищет подходящего спецкора для своей газеты в России. Советует попробовать: «Ты годишься… Не дрейфь… Вообще, пусти арапа…».
К письму приложена рекомендация для Лоутона, в которой Константин Булгаков дает характеристику своему родственнику:
Предъявитель этого письма — мой кузен Михаил Афанасьевич Булгаков… Он молодой русский писатель и уже корреспондировал в нескольких газетах и пишет в толстых журналах.
Он очень краток, но в то же время необычайно ярок и жив в описаниях и рассказах. В Москве он входит в известность. В то же время он очень энергичный человек. Вы увидите, будет ли он Вам полезен, если прочтете некоторые из его книг…
Увы, встреча Михаила Булгакова с господином Лоутоном не произошла. ГПУ вовремя предотвратило нежелательный контакт с иностранцем. Письмо из Киева до адресата не дошло, навсегда осев в архивах Лубянки. Это была первая успешная операция Гендина в биографии своего подопечного.
Так Булгаков не стал корреспондентом английской газеты. А как кстати это пришлось бы ему тогда! В том мае месяце, в очередной раз доведенный до отчаяния безденежьем, нищетой, начинающий писатель признался в одном из своих писем: «Себе я ничего не желаю, кроме смерти, так хороши мои дела!».
Разработка Булгакова органами сыска идет по нарастающей. Следующим этапом стала агентурная слежка за ним. Наладить ее было нетрудно: литературная среда кишела доносчиками. Начало положил в 1925 году неведомый нам секретный агент — имена и клички этого разряда служителей Лубянки засекречены до сих пор и в изученных нами документах отсутствуют, поэтому наречем его просто Гепеухов — словом, изобретенным самим Булгаковым.
Место действия — московская квартира Евдоксии Федоровны Никитиной, литературоведа и издательницы, устраивавшей у себя так называемые «Никитинские субботники» — вечера, на которых писатели читали свои сочинения. В небольшом, уютном зале тесно, стих говор, хозяйка представляет гостям героя вечера — сегодняшнего автора…
А мы послушаем Гепеухова, теперь слово — ему.
Сводка Секретного отдела ОГПУ № 110:
Был 7 марта 1925 г. на очередном литературном «субботнике» у Е. Ф. Никитиной (Газетный, 3, кв. 7, т. 2–14–16).
Читал Булгаков свою новую повесть. Сюжет: профессор вынимает мозги и семенные железы у только что умершего и вкладывает их в собаку, в результате чего получается «очеловечивание» последней.
При этом вся вещь написана во враждебных, дышащих бесконечным презрением к Совстрою тонах:
1) У профессора семь комнат. Он живет в рабочем доме. Приходит к нему депутация от рабочих, с просьбой отдать им две комнаты, так как дом переполнен, а у него одного семь комнат. Он отвечает требованием дать ему еще и восьмую. Затем подходит к телефону и по № 107 заявляет какому-то очень влиятельному совработнику «Виталию Власьевичу» (?), что операции он ему делать не будет, прекращает практику вообще и уезжает навсегда в Батум, так как к нему пришли вооруженные револьверами рабочие (а этого на самом деле нет) и заставляют его спать на кухне, а операции делать в уборной. Виталий Власьевич успокаивает его, обещая дать «крепкую» бумажку, после чего его никто трогать не будет. Профессор торжествует. Рабочая делегация остается с носом.
«Купите тогда, товарищ, — говорит работница, — литературу в пользу бедных нашей фракции». — «Не куплю», — отвечает профессор. «Почему? Ведь недорого. Только пятьдесят копеек. У вас, может быть, денег нет?» — «Нет, деньги есть, а просто не хочу». — «Так, значит, вы не любите пролетариат?» — «Да, — сознается профессор, — я не люблю пролетариат».
Все это слушается под сопровождение злорадного смеха никитинской аудитории. Кто-то не выдерживает и со злостью восклицает: — Утопия!
2) «Разруха, — ворчит за бутылкой Сен-Жульена тот же профессор, — что это такое? Старуха, еле бредущая с клюкой? Ничего подобного. Никакой разрухи нет, не было, не будет и не бывает. Разруха — это сами люди. Я жил в этом доме на Пречистенке с 1902 по 1917-й, пятнадцать лет. На моей лестнице двенадцать квартир. Пациентов у меня бывает сами знаете сколько. И вот внизу, на парадной, стояла вешалка для пальто, калош и т. д. Так что же вы думаете? За эти пятнадцать лет не пропало ни разу ни одного пальто, ни одной тряпки. Так было до 24 февраля, а 24-го украли все: все шубы, моих три пальто, все трости, да еще и у швейцара самовар свистнули. Вот что. А вы говорите — разруха».
Оглушительный хохот всей аудитории.
3) Собака, которую он приютил, разорвала ему чучело совы. Профессор пришел в неописуемую ярость. Прислуга советует ему хорошенько отлупить пса. Ярость профессора не унимается, но он гремит: «Нельзя. Нельзя никого бить. Это — террор, а вот чего достигли они своим террором. Нужно только учить». И он свирепо, но не больно тычет собаку мордой в разорванную сову.
4) «Лучшее средство для здоровья и нервов — не читать газеты, в особенности же „Правду“. Я наблюдал у себя в клинике тридцать пациентов. Так что же вы думаете, не читавшие „Правду“ выздоравливают быстрее читавших…» — и т. д., и т. д.
Примеров можно было бы привести еще великое множество, примеров того, что Булгаков определенно ненавидит и презирает весь Совстрой, отрицает все его достижения.
Кроме того, книга пестрит порнографией, облеченной в деловой, якобы научный вид.
Таким образом, эта книжка угодит и злорадному обывателю, и легкомысленной дамочке и сладко пощекочет нервы просто развратному старичку.
Есть верный, строгий и зоркий страж у Советской власти, это — Главлит, и если мое мнение не расходится с его, то эта книга света не увидит. Но разрешите отметить то обстоятельство, что эта книга (первая ее часть) уже прочитана аудитории в 48 человек, из которых 90 процентов — писатели сами. Поэтому ее роль, ее главное дело уже сделано, даже в том случае, если она и не будет пропущена Главлитом: она уже заразила писательские умы слушателей и обострит их перья. А то, что она не будет напечатана (если не будет), это-то и будет роскошным им, писателям, уроком на будущее время, уроком, как не нужно писать для того, чтобы пропустила цензура, то есть как опубликовать свои убеждения и пропаганду, но так, чтобы это увидело свет…
Мое личное мнение: такие вещи, прочитанные в самом блестящем московском литературном кружке, намного опаснее бесполезно-безвредных выступлений литераторов 101-го сорта на заседаниях «Всер. Союза поэтов».
9 Марта 1925 г.
Надо отдать должное старанию и цепкой памяти осведомителя: пересказывает он — с голоса автора — подробнейшим образом, успевая при этом фиксировать и реакцию слушателей. А какая прицельная точность: подсчитал и число собравшихся, и процент писателей среди них, запомнил даже номер телефона, который набирает герой повести, — на всякий случай… И тут же анализирует, делает выводы, выдает рекомендации — прямо отдел пропаганды ЦК ВКП(б). Ценный кадр — артист своего дела!
Судя по всему, Булгаков читал у Никитиной какой-то ранний вариант своей повести «Собачье сердце» — в гепеуховом пересказе есть разночтения с известным, опубликованным текстом. Там влиятельного совработника зовут не Виталий Власьевич, а Виталий Александрович, номер его телефона не упоминается вовсе, партийные активисты собирают деньги для детей Франции, а не «в пользу бедных нашей фракции», профессор грозит уехать в Сочи, а не в Батум… Возможны тут, конечно, и ошибки не совсем уж безгрешной памяти Гепеухова. Оставим эти загадки булгаковедам.
Через две недели Гепеухов снова на посту.
Сводка Секретного отдела ОГПУ № 122:
Вторая и последняя часть повести Булгакова «Собачье сердце», дочитанная им 21 марта 1925 г. на «Никитинском субботнике», вызвала сильное негодование двух бывших там писателей-коммунистов и всеобщий восторг всех остальных. Содержание этой финальной части сводится приблизительно к следующему: очеловеченная собака стала наглеть с каждым днем все более и более. Стала развратной: делала гнусные предложения горничной профессора. Но центр авторского глумления и обвинения зиждется на другом: на ношении собакой кожаной куртки, на требовании жилой площади, на проявлении коммунистического образа мышления. Все это вывело профессора из себя, и он разом покончил с созданным им самим несчастием, а именно: превратил очеловеченную собаку в прежнего, обыкновеннейшего пса.
Если и подобные грубо замаскированные (ибо все это «очеловечение» — только подчеркнуто заметный, небрежный грим) выпады появляются на книжном рынке СССР, то белогвардейской загранице, изнемогающей не меньше нас от бумажного голода, а еще больше от бесплодных поисков оригинального, хлесткого сюжета, остается только завидовать исключительнейшим условиям для контрреволюционных авторов у нас.
24 Марта 1925 г.
Мавр сделал свое дело. С этого времени ОГПУ уже не выпускает писателя из-под жесткого контроля. Следит за его местопребыванием, сменой квартир («По делу Булгакова. Совершенно секретно… Булгаков ранее проживал по Б. Садовой ул., № 10, кв. № 50 и 29.10.24 г. переехал по адресу: Обухов пер., № 9, кв. № 4»). Перлюстрирует и анализирует переписку, выявляя нездоровый и враждебный душок. Так, на Лубянке, несомненно, с тревогой узнали, что писатель хочет через посредника напечатать свои вещи за рубежом, и были удовлетворены, когда это не удалось. Посредник (фамилия его в досье не указана) 2 января 1925-го сообщал автору, что все попытки «пристроить роман» оказались безуспешными, а по поводу другого произведения — повести — многозначительно остерег: «Содержание ее может быть истолковано в неблагоприятном для СССР смысле… По-моему, издавать ее вне СССР на иностранном языке не стоит. Сатира заслуживает самого осторожного обращения. Не так ли?» На копии другого письма, в котором один из московских знакомых Булгакова (в ОГПУ его подпись предположительно расшифровали как «Ю. Готовский», — возможно, однако, это был писатель Юрий Гайдовский) приглашал его 14 декабря к себе домой, на Маросейку, читать среди друзей «Белую гвардию», сотрудник ОГПУ приписал: «Так как письмо спешное, снял копию, а его направил по адресу…».
Прошедший 1925-й стал для Булгакова последним в череде тех тяжелых лет, которые он назвал позднее «доисторическими временами». Писатель постепенно выбирался из неустроенности и безвестности. Печатался в журнале «Россия» его первый роман «Белая гвардия», вышел в свет сатирический сборник «Дьяволиада». Новое имя заметила критика, запомнил читатель. Молодой автор в полном смысле слова оперился и с надеждой смотрел в будущее.
А для его лубянского опекуна Гендина новый 1926-й начался с неприятности.
На стол начальнику Секретного отдела Терентию Дмитриевичу Дерибасу[51] попала агентурно-осведомительная сводка № 4 за 2 января, поступившая из Седьмого отделения:
В Москве функционирует клуб литераторов «Дом Герцена» (Тверской бульвар, 25), где сейчас главным образом собирается литературная богема и где откровенно проявляют себя: Есенин, Большаков, Буданцев (махровые антисемиты), Зубакин, Савкин[52] и прочая накипь литературы.
Там имеется буфет, после знакомства с коим и выявляются их антиобщественные инстинкты, так как, чувствуя себя в своем окружении, ребята распоясываются.
Желательно выявить физиономию писателя М. Булгакова, автора сборника «Дьяволиада», где повесть «Роковые яйца» обнаруживает его как типичного идеолога современной злопыхательствующей буржуазии.
Вещь чрезвычайно характерная для определенных кругов общества.
Только что, 31 декабря, Москва похоронила Сергея Есенина. Горе для всей земли Русской! Тело поэта при несметном стечении народа пронесли через центр города. Траурный митинг у памятника Пушкину. В газетах — некрологи. Публика наэлектризована слухами и сплетнями. А лубянские служаки отмечают это по-своему — посмертным доносом! И Есенин для них — не великий поэт, а «накипь литературы»!
Старый революционер, опытный чекист Дерибас пришел в ярость. Он устраивает разгон Седьмому отделению, накладывает на донос резолюцию: «Тов. Гендину. Покойников можно оставить в покое! А в чем конкретно выражаются их антисоветские инстинкты? Вообще надо воду прекратить и взяться всерьез за работу по руководству осведомлением».
Другими словами, охоту на писателей, конечно, надо продолжать, но не с такими же глупыми ищейками! Даешь других гепеуховых, под стать нашей литературе!
Автор скандальной сводки, надо думать, получил нагоняй, штат осведомителей был укреплен. И в «Дом Герцена», в котором в то время находился Союз писателей и сосредотачивалась публичная литературная жизнь, — тот самый знаменитый писательский муравейник, с блеском описанный потом Булгаковым в романе «Мастер и Маргарита» как «Дом Грибоедова», — посылаются квалифицированные агенты.
Какой-то переполох, во всяком случае, произошел на лубянской кухне, ибо отныне Гендин, а вместе с ним и булгаковское досье перекочевали из Седьмого в Пятое отделение Секретного отдела, под контроль его начальника Александра Славатинского[53]. Теперь и он будет читать все доносы на Булгакова. Пара глаз хорошо, а две — зорче.
Славатинский в сыске над писателями — двойной профессионал, он известен еще и как «пролетарский поэт», широко печатавшийся в первые годы советской власти. Стихи он писал с пафосом и надрывом, но по-своему красноречиво:
Результат усиленного надзора за Булгаковым не замедлил сказаться. Первое же после этого публичное выступление писателя сопровождалось сразу двумя донесениями. Одно из них составил сам Славатинский, выступивший в роли Гепеухова. Он собственной персоной заявился на диспут под названием «Литературная Россия», имевший быть в самом торжественном и престижном Колонном зале Дома союзов 12 февраля 1926 года. Затерявшись в кипящей аудитории, внимательно слушал все от начала до конца и подкреплял память набросками в блокноте. Уходя, захватил трофеи — билет на диспут и ловко перехваченную записку из публики. В последующие дни проштудировал газетные отклики о вечере.
И только тогда, в тиши кабинета, подытожил:
Агентурно-осведомительная сводка № 104.
Отчеты о диспуте, появившиеся в «Известиях» и «Правде», не соответствуют действительности и не дают картины того, что на самом деле происходило в Колонном зале Дома союзов.
Центральным местом или, скорее, камнем преткновения вечера были вовсе не речи т.т. Воронского и Лебедева-Полянского[54], а те истерические вопли, которые выкрикнули В. Шкловский и Мих. Булгаков. Оба последних говорили и острили под дружные аплодисменты всего специфического состава аудитории, и, наоборот, многие места речей Воронского и Лебедева-Полянского прерывались свистом и неодобрительным гулом.
Нигде, кажется, как на этом вечере, не выявилась во всей своей громаде та пропасть, которая лежит между старым и новым писателем, старым и новым критиком и даже между старым буржуазным читателем и новым, советским читателем, который ждет прихода своего писателя.
Смысл речей Шкловского и Булгакова заключался в следующем:
Писателю скучно и читателю скучно, читателю нечего читать, и он принужден питаться иностранщиной. Наша критика ищет и выращивает в своих инкубаторах новых красных Толстых. Когда даже самая скверная бактерия нуждается в бульоне для питания, наш писатель не имеет этого бульона и от литературы бежит в кино. Но… диктатура пролетариата все же для пролетарского писателя еще более опасна, чем для буржуазного, ибо последний может все же найти себе хоть какой-нибудь заработок, составляя коммерческие рекламы для трестов.
Да и вообще скучно и не для кого писать. Ехал как-то Шкловский на извозчике и заинтересовался, почему у него такая плохая кляча. А извозчик говорит: «Кляча по седоку, а хорошая лошадь у меня на конюшне стоит».
Вообще же наша литература похожа сейчас на фабрику резиновых галош, которая стала выпускать галоши с дыркой (понимай — пролетарскую литературу). Публика — потребитель — возмущается, а фабрикант говорит: «Помилуйте, вы обратите внимание на красивую форму галош, на их лоск». А какое дело обывателю до формы и блеска, когда на галошах дырка!
Впрочем, вообще, разве мы можем до чего-нибудь договориться здесь? Это борьба, но не настоящая борьба, когда-нибудь нам надо побороться честно, «по-гамбургски». А гамбургская борьба заключается в следующем: раз в год борцы, которые борются в цирках и жульничают, съезжаются в Гамбург и там, в интимном кругу, устраивают честную борьбу, на которой и устанавливаются категории и ранги борцов.
Таким образом, то, что происходит в зале Дома союзов, — это не борьба по-гамбургски.
В. Шкловский и Мих. Булгаков требуют прекратить фабрикацию «красных Толстых», этих технически неграмотных «литературных выкидышей». Пора перестать большевикам смотреть на литературу с узко-утилитарной точки зрения и необходимо наконец дать место в своих журналах настоящему «живому слову» и «живому писателю». Надо дать возможность писателю писать просто о «человеке», а не о политике.
Несмотря на блестящие отповеди т.т. Воронского и Лебедева-Полянского, вечер оставил после себя тягостное, гнетущее впечатление. Ничего не понял и не уразумел «старый писатель» за 8 лет и посейчас остается для нового читателя чужим человеком. Этот диспут — словно последняя судорога старого, умирающего писателя, который не может и не сможет ничего написать для нового читателя. Отсюда внутренняя неудовлетворенность и озлобленность на современность, отсюда скука, тоска и собачье нытье на невозможность жить и работать при современных условиях.
Начальник 5 Отделения СО ОГПУ Славатинский.
Рядом с этим добротным образцом фискального жанра второе донесение о том же диспуте обычного Гепеухова выглядит куда скромнее, но в сути своей подкрепляет выводы главы Пятого отделения:
…Выступление Булгакова. Он говорит, что «надоело писать о героях в кожаных куртках, о пулеметах и о каком-нибудь герое-коммунисте. Ужасно надоело». «Нужно писать о человеке», — заключил свое выступление Булгаков.
Его речь была восторженно принята сидящей интеллигенцией, наоборот же, выступление Киршона было встречено свистом интеллигенции и бурными аплодисментами рабкоров и служащих.
«Т. Гендину о Булгакове в его формуляр», — расписался Славатинский.
Что-то нужно было делать с этим Булгаковым. Руки давно чесались. А тут и случай подвернулся. С самого верха грянуло: ударить по сменовеховцам! Сеть завели пошире…
«— Верно, верно! — кричал Коровьев в бессмертном романе „Мастер и Маргарита“. — Вы подтверждаете мои подозрения. Да, он наблюдал за квартирой… И другой у подъезда тоже! И тот, что был в подворотне, то же самое!
— А вот интересно, если вас придут арестовывать? — спросила Маргарита.
— Непременно придут, очаровательная королева, непременно! — отвечал Коровьев. — Чует сердце, что придут, не сейчас, конечно, но в свое время обязательно придут…».
7 Мая 1926 года пришли к самому писателю.
Визит серой фигуры.
Днем агентурной разведкой через активотделение уточнили место жительства. Прежнее — в Обуховом переулке. Выделили исполнителя — оперуполномоченного Врачева[55]. Выписали ордер за номером 2287, скрепленный подписью начальника Оперативного отдела Паукера[56]:
«Выдан… Врачеву на производство обыска у Булгакова Михаила Афанасьевича…».

Ордер на обыск М. А. Булгакова. 7 мая 1926 года.
Обыска? Документ этот не так прост.
На одном листе с ордером, через намеченную пунктиром линию обреза, есть «Талон», адресованный начальнику внутренней тюрьмы ОГПУ: «Примите арестованного…» От руки вписан даже номер дела — «числить за 45», проставлена та же дата — 7 мая и подписи — Г. Ягода и Паукер. Остается только вписать фамилию — и носитель ее окажется за решеткой. Ловушка вроде бы открыта, но одно движение руки — и захлопнется!
Вечером — по испытанной стратегии чекистов действовать в темное время — Врачев отправился в Обухов переулок и, захватив в качестве понятого арендатора дома № 9 Градова, постучал в дверь квартиры № 4.
— Кто там? — донесся женский голос.
— Это я, гостей к вам привели! — бодро гаркнул арендатор.
Дверь распахнулась.
Дальнейшее известно: о том, как производилась операция, рассказала в своих воспоминаниях Любовь Евгеньевна Белозерская, в то время жена Булгакова.
Самого Михаила Афанасьевича не оказалось на месте, без него обыск не начинали. Сидели, молчали. Арендатор рассказал анекдот:
— Стоит еврей на Лубянской площади, а прохожий его спрашивает: «Не знаете ли вы, где тут Госстрах?» — «Госстрах не знаю, а госужас — вот!».
Рассказчик захохотал. Опять молчали — до прихода хозяина. И тут гости взялись за дело, не церемонились — переворачивали кресла, кололи их какой-то длинной спицей. Булгаков сказал:
— Ну, Любаша, если твои кресла выстрелят, я не отвечаю…
Словом, сюжет был совершенно булгаковский — для его книг.
Но вот что именно в точности было изъято и доставлено в ОГПУ, об этом мы узнаем лишь сейчас — из протокола обыска. Врачев явно был проинструктирован заранее: из всего вороха бумаг отобрал только «Собачье сердце» — два экземпляра, перепечатанные на машинке, три тетради дневников за 1921–1925 годы, рукопись под названием «Чтение мыслей» да еще два чужих стихотворных текста: «Послание евангелисту Демьяну Бедному» и пародию Веры Инбер на Есенина — образцы самиздата тех лет.
Операция эта была не единственной в Москве. По городу прокатилась целая волна обысков. Среди пострадавших оказался и Исай Лежнев, редактор журнала «Россия», в котором печатался роман Булгакова. Публикация «Белой гвардии» оборвалась: журнал скоро был закрыт, склад и магазин издательства опечатаны, а сам редактор не только обыскан, но и выслан за границу.
А 12 мая раздался выстрел, отозвавшийся громким эхом в литературных кругах. Покончил с собой беллетрист Андрей Соболь. Случилось это не где-нибудь, а на самом бойком месте — на скамейке Тверского бульвара, рядом с тем «Домом Герцена», где помещался Всероссийский Союз писателей, председателем которого несколько лет был Соболь. Это тоже давний и близкий знакомый Булгакова, поддержавший его в черную годину, напечатавший первый из его московских рассказов. Смерть Андрея Соболя восприняли как трагическую демонстрацию.
Была ли какая-нибудь связь между серией обысков и выстрелом на Тверском бульваре — остается только гадать. Но то, что акции ОГПУ — единый замысел, несомненно. И доказательство тому мы находим в досье Булгакова, в позднейшем обзорном документе, пышно именуемом — «Меморандум». «Осенью 1926 года, — говорится там (непростительный для ОГПУ ляп — путать осень с весной), — во время закрытия лежневской „России“ у ряда бывших сменовеховцев, в том числе и у Булгакова, был произведен обыск. У Булгакова были изъяты его дневники, характеризующие автора как несомненного белогвардейца».
Сменовеховцы — такие, как авторы журнала «Россия», отстаивавшего позицию честного, неангажированного издания, — были чужды политике советской власти, но сотрудничали с нею, надеясь на ее перерождение к лучшему. И репрессии против них не были каким-то самодурством ОГПУ — нет, чекисты просто претворяли в жизнь директивы последнего партийного съезда, объявившего решительную борьбу со сменовеховством. Удар по Булгакову — не исключительный акт, а часть большой охоты на независимых писателей. Цель — запугать, сделать послушными, пресечь все попытки несанкционированного общения и объединения.
Конечно, автора «Белой гвардии» записали в сменовеховцы лишь потому, что он печатал свой роман в их журнале. Сам он никогда к этой группировке себя не причислял и даже относился к ней с антипатией. Но можно считать, он на этот раз еще легко отделался! Знал бы Булгаков, какая туча повисла над его головой.
Совсем недавно из секретных архивов всплыла докладная Генриха Ягоды в ЦК ВКП(б), в которой тогдашний зампред ОГПУ предлагал для разгрома сменовеховцев не только произвести у них обыски, но и «по результатам обысков… возбудить следствие, в зависимости от результатов коего выслать, если понадобится, кроме Лежнева, и еще ряд лиц». Седьмым в этом списке значился Михаил Булгаков, литератор[57].
Ирония судьбы: Булгаков оказался на волоске от высылки за границу — и чуть не получил то, чего не смог добиться потом всю жизнь. Как знать, быть может, он тогда и прожил бы дольше, и личная жизнь его сложилась бы безмятежнее. Но вот вопрос: подарил бы он тогда миру «Мастера и Маргариту»?
Писателя не арестовали, но были арестованы его рукописи, в том числе весьма откровенный дневник, имевший название «Под пятой». Органы вели наблюдение за Булгаковым давно, и он это знал. И сам вел за ними «наблюдение». В изъятом у него дневнике была такая запись:
1925 Год. 2 января, в ночь на 3-е.
Забавный случай: у меня не было денег на трамвай, а потому я решил из «Гудка»[58] пойти пешком. Пошел по набережной Москвы-реки. Полулуние в тумане. Почему-то середина Москвы-реки не замерзла, а на прибрежном снеге и льду сидят вороны. В Замоскворечье огни. Проходя мимо Кремля, поравнявшись с угловой башней, я глянул вверх, приостановился, стал смотреть на Кремль и только что подумал «доколе, Господи», — как серая фигура с портфелем вынырнула сзади меня и оглядела. Потом прицепилась. Пропустил ее вперед и около четверти часа мы шли, сцепившись. Он плевал с парапета, и я. Удалось уйти у постамента Александру.
Теперь, с фактом обыска, «серая фигура» прицепилась к Булгакову еще крепче. Писателя решили припугнуть, дали понять, что отныне он на особом счету, на учете, взят на «крючок». Пусть знает — что бы он ни сделал, что бы ни написал — за ним неусыпно наблюдает всевидящее око! А теперь и компромат есть — изъятый дневник.
От хамов нет спасения.
Что же в нем было крамольного, в этом дневнике, если пришлось его арестовывать? Среди современников Булгакова распространялись слухи, что дневник даже ходил по рукам среди членов Политбюро — такую важность в глазах государства он имел. И чем им страшен сам Булгаков? Может быть, тем, что видит всю «затхлую, советскую, рабскую рвань» (это из дневника) и «собачьи сердца» новых вождей? Да еще умеет и талантливо изобразить, открыть глаза на это другим, всем?
Сам Булгаков признавался, что дневник содержал нечто «крайне ценное», отражал его «настроения в прошедшие годы».
И в самом деле, дневник он вел для себя и ничего в нем не скрывал. Это одновременно и мгновенная реакция на события, и творческая мастерская, и копилка сюжетов, и попытка самоанализа. Но из моментальных зарисовок с натуры постепенно лепится образ времени — во всей его пестроте и наготе. Пульс жизни страны бьется под пером Булгакова, как пульс больного под рукой доктора, а поскольку доктор хороший, диагноз он ставит верный и беспощадный.
Из беглых набросков в дневнике складывается и автопортрет самого Булгакова. Молодой писатель — у него еще не вышло ни одной книги — уже познал и меру своего таланта, и меру своей отверженности, и всю грозность выпавшей на его долю судьбы.
Вот несколько записей 1923 года. Для Булгакова это пора самоутверждения, писательского становления, нащупывания собственного пути.
Среди моей хандры и тоски по прошлому иногда, как сейчас, в этой нелепой обстановке временной тесноты, в гнусной комнате гнусного дома, у меня бывают взрывы уверенности и силы. И сейчас я слышу в себе, как взмывает моя мысль, и верно, что я неизмеримо сильнее как писатель всех, кого я ни знаю (2 сентября).
Литература теперь трудное дело. Мне с моими взглядами, волей-неволей <отражающимися>[59] в произведениях, трудно печататься и жить…
Мои предчувствия относительно людей никогда меня не обманывают. Никогда. Компания исключительной сволочи группируется вокруг «Накануне»[60]. Могу себя поздравить, что я в их среде. О, мне очень туго придется впоследствии, когда нужно будет соскребать накопившуюся грязь со своего имени. Но одно могу сказать с чистым сердцем перед самим собой. Железная необходимость вынудила меня печататься в нем. Не будь «Нак<ануне>», никогда бы не увидали света ни «Записки на манжетах», ни многое другое, в чем я могу правдиво сказать литературное слово. Нужно было быть исключительным героем, чтобы молчать в течение четырех лет, молчать без надежды, что удастся открыть рот в будущем. Я, к сожалению, не герой (26 октября).
Я буду учиться теперь. Не может быть, чтобы голос, тревожащий сейчас меня, не был вещим. Не может быть. Ничем иным я быть не могу, я могу быть одним — писателем (6 ноября).
Минул год. Булгаков уже размежевался с основным отрядом советских писателей — верных слуг партийной идеологии, ему тесно и душно в жестких тисках существующего режима, — и потому все неизбежней конфликт с этим режимом, все труднее пройти к читателю сквозь игольное ушко цензуры. Всякий его выход к людям встречает сопротивление и неизменно возвращает назад, к самому себе, к чистому листу, к своему одинокому слову, в котором — единственная опора и спасение.
Только что вернулся с вечера у Ангарского — редактора «Недр»[61]. Было одно, что теперь всюду: разговоры о цензуре, нападки на нее, разговоры о «писательской правде» и «лжи»… Я не удержался, чтобы несколько раз не встрять с речью о том, что в нынешнее время работать трудно, с нападками на цензуру и прочим, чего вообще говорить не следует.
Ляшко, пролетарский писатель, чувствующий ко мне непреодолимую антипатию (инстинкт), возражал мне с худо скрытым раздражением:
— Я не понимаю, о какой «правде» говорит т. Булгаков? Почему все нужно изображать?..
Когда же я говорил о том, что нынешняя эпоха — это эпоха сви<нства>, - он сказал с ненавистью:
— Чепуху вы говорите…
Не успел ничего ответить на эту семейную фразу, потому что вставали в этот момент из-за стола. От хамов нет спасения (26 декабря 1924).
…Вечером у Никитиной читал свою повесть «Роковые яйца». Когда шел туда, ребяческое желание отличиться и блеснуть, а оттуда — сложное чувство. Что это? Фельетон? Или дерзость? А может быть, серьезное? Тогда невыпеченное. Во всяком случае, там сидело человек 30, и ни один из них не только не писатель, но и вообще не понимает, что такое русская литература.
Боюсь, как бы не саданули за все эти подвиги «в места не столь отдаленные» (В ночь на 28 декабря).
Опасения не напрасны: Булгаков ясно различал среди литературной и окололитературной братии «серые фигуры» добровольных и платных агентов. И говорил об этом открытым текстом. Одна из таких «фигур» донесет на Лубянку позднее (10 ноября 1928-го): «О „Никит<инских> субб<отниках>“ Булгаков высказал уверенность, что они — агентура ГПУ». Известен теперь и факт беседы о Булгакове, которую вела с начальником Пятого отделения Секретного отдела ОГПУ Гельфером хозяйка салона — Евдоксия Никитина…
Больной нотой по всему дневнику Булгакова проходит его житейская неустроенность, безденежье. И эти заботы и тяготы он обыгрывает, превращает в художественные формулы: «Пока у меня нет квартиры — я не человек, а лишь полчеловека» (18 сентября 1923), «Второй вопрос — как летнее пальто жены превратить в шубу?» (19 октября 1923).
Все это еще не гасит его врожденного жизнелюбия, не делает его мизантропом. Да, зимнего пальто у жены нет, да, могут запросто «садануть в места не столь отдаленные», но:
«Очень помогает мне от этих мыслей моя жена. Я обратил внимание, когда она ходит, она покачивается. Это ужасно глупо при моих замыслах, но, кажется, я в нее влюблен. Одна мысль интересует меня. При всяком ли она приспособилась бы так же уютно или это избирательно, для меня?» (В ночь на 28 декабря 1924).
И через несколько дней опять тот же мотив:
«Ужасное состояние: все больше влюбляюсь в свою жену. Так обидно — 10 лет открещивался от своего… Бабы как бабы. А теперь унижаюсь даже до легкой ревности. Чем-то мила и сладка. И толстая.
Газет не читал сегодня».
Такие записи сотрудники ОГПУ, к которым попал дневник, проглядывали, вероятно, бегло, по диагонали. Интеллигентская лирика и самокопание! Это для нас автор дневника — Булгаков! Для них — писака, не без гордыни, нашкодивший литератор подозрительного свойства, которого следует проучить. Ничего булгаковского, кроме этих рукописей, они скорее всего и не читали. И искали в них совсем другое. Каково его политическое лицо? С кем он, по какую сторону баррикад? Наш или контра?
И такую информацию Булгаков давал им в избытке. Ибо о политике думал много, почти каждый день. Думал — и доверял дневнику.
…О политике, все о той же гнусной и неестественной политике… В Болгарии идет междоусобица. Идут бои с коммунистами. Врангелевцы участвуют, защищая правительство. Для меня нет никаких сомнений в том, что эти второстепенные славянские государства, столь же дикие, как и Россия, представляют великолепную почву для коммунизма. Наши газеты всячески раздувают события, хотя, кто знает, может быть, действительно мир раскалывается на две части — коммунизм и фашизм.
Что будет — никому не известно (30 сентября 1923).
Впрочем, не так уж не известно. В другой записи того же года Булгаков, задолго до Второй мировой войны, прозревает ход событий: «Возможно, что мир действительно накануне генеральной схватки между коммунизмом и фашизмом».
А вот целый каскад записей о партийных вождях. Сначала о Троцком:
«Сегодня в газетах бюллетень о состоянии здоровья Л. Д. Троцкого. Начинается словами: „Л. Д. Троцкий 5-го ноября прошлого года болел…“, кончается: „Отпуск с полным освобождением от всяких обязанностей на срок не менее 2-х месяцев“. Комментарии к этому историческому бюллетеню излишни.
Итак, 8 января 1924 г. Троцкого выставили. Что будет с Россией, знает один Бог. Пусть он ей поможет!».
Следующая запись в дневнике, 22 января, — уже о Ленине:
«Сейчас только что (пять с половиной часов вечера) Семка сообщил, что Ленин скончался…».
Никаких эмоций, комментариев, слез и клятв, приличествующих советскому человеку, просто констатация факта: «Семка сообщил…».
И в том же году — о Калинине, уже с явной иронией:
«Вчера получилось известие, что в экипаж Калинина (он был в провинции где-то) ударила молния. Кучер убит. Калинин совершенно невредим».
Итак, Троцкого выставили, Ленин скончался, Калинин — невредим! Ну кто может так говорить о советских вождях? Контра!
Вообще, при всей глубокой серьезности Булгакова, юмор из-под его пера брызжет фонтаном, жизнь ему поставляет материал в изобилии, ежедневные происшествия выстраиваются в готовые сценки, фельетоны — только печатай! Хотя, пожалуй, это как раз и не для печати, поскольку здесь, в дневнике, нет цензуры, он здесь до конца откровенен, может называть вещи своими именами. Есть где разгуляться перу и… ОГПУ! Для них тут — сплошь «жареные факты»! Вот вы, оказывается, какой, Михаил Афанасьевич!
Записи касаются всех сторон жизни в Совдепии — на работе, на улице, дома. Вот советский человек приходит на службу…
22 Октября 1923-го:
Сегодня на службе в «Г<удке>» произошел замечательный корявый анекдот. «Инициативная группа беспартийных» предложила собрание по вопросу о помощи германскому пролетариату. Когда Н. открыл собрание, явился комм<унист> Р. и, волнуясь, угрожающе заявил, что это «неслыханно, чтобы беспартийные собирали свои собрания». Что он требует закрыть заседание и собрать общее. Н., побледнев, сослался на то, что это с разрешения ячейки.
Дальше пошло просто. Беспартийные, как один, голосовали, чтобы партийцы пригласили партийных, и говорили льстивые слова. Партийцы явились и за это вынесли постановление, что они дают вдвое больше (беспартийные — однодневный, партийные — двухдневный заработок), наплевав таким образом беспартийным ослам в самую физиономию.
Кончилась служба, и советский человек, отдав дань германскому пролетариату, выходит на улицу. Его захватывает, тащит московская толчея.
Новость: на днях в Москве появились совершенно голые люди (мужчины и женщины) с повязками через плечо «Долой стыд». Влезали в трамвай. Трамвай останавливали, публика возмущалась (12 сентября 1924).
Москва в грязи, все больше в огнях — и в ней странным образом уживаются два явления: налаживание жизни и полная ее гангрена. В центре Москвы, начиная с Лубянки, «Водоканал» сверлил почву для испытания метрополитена. Это жизнь. Но метрополитен не будет построен, потому что для него нет никаких денег. Это гангрена.
Разрабатывают план уличного движения. Это жизнь. Но уличного движения нет, потому что не хватает трамваев, смехотворно — 8 автобусов на всю Москву.
Квартиры, семьи, ученые, работа, комфорт и польза — все это в гангрене. Ничто не двигается с места. Все съела советская канцелярская, адова пасть. Каждый шаг, каждое движение советского гражданина — это пытка, отнимающая часы, дни, а иногда месяцы.
Магазины открыты. Это жизнь. Но они прогорают, и это гангрена.
Во всем так.
Литература ужасна. (В ночь с 20 на 21 декабря 1924).
Это реалии Москвы 20-х. Вечные временные трудности, дурная бесконечность. Через несколько дней — запись:
«Лютый мороз. Сегодня утром водопроводчик отогрел замерзшую воду. Зато ночью, лишь только я вернулся, всюду потухло электричество».
Итак, персонаж булгаковского дневника — советский гражданин — уже дома, в последнем убежище. Но дом этот — коммунальная квартира, родное, социалистическое общежитие.
— Чем все это кончится? — спросил меня сегодня один приятель. Вопросы эти задаются машинально и тупо, и безнадежно, и безразлично, и как угодно. В его квартире как раз в этот момент, в комнате через коридор, пьянствуют коммунисты. В коридоре пахнет какой-то острой гадостью, и один из партийцев, по сообщению моего приятеля, спит пьяный, как свинья. Его пригласили, и он не мог отказаться. С вежливой и заискивающей улыбкой ходит к ним в комнату. Они его постоянно вызывают. Он от них ходит ко мне и шепотом их ругает. Да, чем-нибудь все это да кончится. Верую (5 января 1925).
Под эту повальную пьянку засыпает современник Булгакова. Усни, если сможешь. А утром — снова на службу. Таков круговорот жизни.
И это то, что у нас называется счастьем. Считай, что тебе повезло. Потому что есть еще одна область жизни, которая, дай бог, тебя не коснется, обойдет стороной. Она так же реальна, как водопровод и коммунальная кухня. Обыкновенный стук в дверь — и рухнет все твое зыбкое коммунальное благополучие.
15 Апреля 1924-го Булгаков записывает:
«В Москве многочисленные аресты лиц с „хорошими фамилиями“. Вновь высылки…».
21 Июля того же года:
«Приехали из Самары И<льф> и Ю<рий> О<леша>. В Самаре два трамвая. На одном надпись „Площадь Революции — тюрьма“, на другом — „Площадь Советская — тюрьма“. Что-то в этом роде. Словом, все дороги ведут в Рим!».
И даже булгаковское «Верую», которое он, как заклинание, произносит в своем дневнике, теперь под запретом. Куда ему деться в этой невиданной стране, в которой отменены вечные человеческие ценности?
23 Декабря 1924-го он записывает потрясший его случай:
«В<асилевский>[62] же рассказал, что Демьян Бедный, выступая перед собранием красноармейцев, сказал:
— Моя мать была блядь…».
5 Января 1925-го, в тот же день, когда Булгаков заклинал себя: «Верую», — он просмотрел дома вечером номер журнала «Безбожник». И опять был потрясен. «Соль не в кощунстве, — записал он, — хотя оно, конечно, безмерно, если говорить о внешней стороне. Соль в идее: ее можно доказать документально — Иисуса Христа изображают в виде негодяя и мошенника, именно его. Нетрудно понять, чья это работа. Этому преступлению нет цены».
Какой же вывод могли сделать в ОГПУ, прочитав дневник? Что за человек писал такое? Явная контра! Без всякого сомнения. Хоть сейчас — сажай.
Пишу по чистой совести.
Булгаков безусловно был глубоко оскорблен бесцеремонным вторжением в его дом, надзором за его жизнью, творчеством. Но он не собирался уступать. Принял вызов.
«За справками обращаться в Комендатуру ОГПУ, — предлагалось в протоколе обыска, — Лубянка, дом 2, вход с Лубянской площади». Дверь гостеприимно распахнута. И Булгаков воспользовался этим адресом. Для него невыносимо, что сокровенный дневник может быть присвоен государством и открыт чужим взглядам (тогда же он дал себе слово никогда больше дневников не вести). Уже через десять дней после обыска, 18 мая, он обратился с посланием:
В ОГПУ.
Литератора Михаила Афанасьевича Булгакова.
ЗАЯВЛЕНИЕ.
При обыске, произведенном у меня представителями ОГПУ 7 мая 1926 г. (ордер 2287, дело 45), у меня были изъяты с соответствующим занесением в протокол — повесть моя «Собачье сердце» в 2 экземплярах на пишущей машинке и 3 тетради, написанные мною от руки, черновых мемуаров моих под заглавием «Мой дневник».
Ввиду того, что «Сердце» и «Дневник» необходимы мне в срочном порядке для дальнейших моих литературных работ, а «Дневник», кроме того, является для меня очень ценным интимным материалом, прошу о возвращении мне их.
Мне, моих, меня, мне… На одну фразу четыре «я»! Гордое, несогласное Я личности перед многоликим и безликим Оно государства!
На Лубянке заявление кануло в Пятое отделение Секретного отдела — «т. Гендину, на исполнение». Безответно.
Спустя месяц, 24 июня, — новое послание, того же содержания, но выше — самому Председателю Совета Народных Комиссаров Рыкову. Никакой реакции — глухая стена.
И только осенью — 22 сентября — пригласили в ОГПУ. Булгаков и Гендин встретились лицом к лицу.
Проторенный миллионами путь: донос-обыск-допрос… Что дальше? Выйдет ли переступивший порог Лубянки назад, на улицу, в свою прежнюю жизнь?
Процедура допроса состояла из двух частей: сначала Булгаков собственноручно заполнил анкету и затем отвечал на вопросы по существу дела — ответы фиксировал на бумаге его визави. Непонятно только, в качестве кого он допрашивался, в протоколе записаны два слова: «обвиняемого/свидетеля», и ни одно не вычеркнуто — понимай как хочешь!
Из протокола допроса:
…На первоначально предложенные вопросы показал:
…Год рождения — 1891.
Происхождение — сын статского советника, профессора Булгакова…
Род занятий — писатель-беллетрист и драматург…
Имущественное положение — нет.
Образовательный ценз — Киевская гимназия в 1909 г., Университет, медфак в 1916 г.
Партийность и политические убеждения — беспартийный.
Связавшись слишком крепкими корнями со строящейся Советской Россией, не представляю себе, как бы я мог существовать в качестве писателя вне ее. Советский строй считаю исключительно прочным. Вижу массу недостатков в современном быту и, благодаря складу моего ума, отношусь к ним сатирически и так и изображаю их в своих произведениях.
Где жил, служил и чем занимался —
…С 1914 г. до Февральской революции 1917 г. — Киев, студент медфака до 1916 г., с 1916 г. — врач;
…В Февральскую революцию 1917 г. — село Никольское Смоленской губ. и город Вязьма той же губ.; с Февральской революции 1917 г. до Октябрьской революции 1917 г. — Вязьма, врачом в больнице;
…В Октябрьскую революцию 1917 г. — то же, участия не принимал;
С Октябрьской революции 1917 г. по настоящий день — Киев, до конца августа 1919 г. С августа 1919 до 1920 г. во Владикавказе. С мая 1920 по август в Батуме в РОСТе[63], из Батума — в Москву, где и проживаю по сие время.
Сведения о прежней судимости — в начале мая сего года производился обыск.
Показания по существу дела:
Литературным трудом начал заниматься с осени 1919 г. в гор. Владикавказе, при белых. Писал мелкие рассказы и фельетоны в белой прессе. В своих произведениях я проявлял критическое и неприязненное отношение к Советской России (подчеркнуто в ОГПУ. — В.Ш.). С Освагом[64] связан не был, предложений о работе в Осваге не получал. На территории белых я находился с августа 1919 г. по февраль 1920 г. Мои симпатии были всецело на стороне белых, на отстипление которых я смотрел с ужасом и недоумением.
В момент прихода Красной Армии я находился во Владикавказе, будучи болен возвратным тифом. По выздоровлении стал работать с Советской властью, заведуя ЛИТО Наробраза. Ни одной крупной вещи до приезда в Москву нигде не напечатал.
По приезде в Москву поступил в ЛИТО Главполитпросвета в качестве секретаря. Одновременно с этим начинал репортаж в московской прессе, в частности, в «Правде». Первое крупное произведение было напечатано в альманахе «Недра» под заглавием «Дьяволиада», печатал постоянно и регулярно фельетоны в газете «Гудок», печатал мелкие рассказы в разных журналах. Затем написал роман «Белая гвардия», затем «Роковые яйца», напечатанные в «Недрах» и в сборнике рассказов. В 1925 г. написал повесть «Собачье сердце», нигде не печатавшуюся. Ранее этого периода написал повесть «Записки на манжетах»…
«Белая гвардия» была напечатана только двумя третями и не допечатана вследствие закрытия, т. е. прекращения, толстого журнала «Россия».
«Повесть о собачьем сердце» не напечатана по цензурным соображениям. Считаю, что произведение «Повесть о собачьем сердце» вышло гораздо более злободневным, чем я предполагал, создавая его, и причины запрещения печатания мне понятны. Очеловеченная собака Шарик получилась, с точки зрения профессора Преображенского, отрицательным типом, так как попала под влияние фракции. Это произведение я читал на «Никитинских субботниках», редактору «Недр» т. Ангарскому, и в кружке поэтов у Зайцева Петра Никаноровича, и в «Зеленой лампе». В «Никитинских субботниках» было человек 40, в «Зеленой лампе» человек 15 и в кружке поэтов человек 20. Должен отметить, что неоднократно получал приглашения читать это произведение в разных местах и от них отказывался, так как понимал, что в своей сатире пересолил в смысле злостности и повесть возбуждает слишком пристальное внимание.
— Считаете ли вы, что в «Собачьем сердце» есть политическая подкладка? — добивался нужного ответа Гендин и получил:
— Да, политические моменты есть, оппозиционные к существующему строю.
Зато на другой вопрос: «Укажите фамилии лиц, бывающих в кружке „Зеленая лампа“», — Булгаков отвечать не захотел:
— Отказываюсь по соображениям этического порядка.
Гендин дал ему подписать каждую страницу протокола, что тот и сделал: «Записано с моих слов верно, записанное мне прочитано».
Были и еще вопросы. Больше всего секретного уполномоченного интересовало, почему Булгаков не пишет о рабочих и крестьянах, а только об интеллигенции и отчего у него такое злое перо. И тут допрашиваемый высказался не виляя — настолько открыто и даже резко, что Гендин тут же подсунул ему бумагу и предложил изложить свои взгляды самому. И Булгаков написал на отдельном листе (он приложен к протоколу) размашистым, решительным почерком:
На крестьянские темы я писать не могу потому, что деревню не люблю. Она мне представляется гораздо более кулацкой, нежели это принято думать.
Из рабочего быта мне писать трудно, я быт рабочих представляю себе хотя и гораздо лучше, нежели крестьянский, но все-таки знаю его не очень хорошо. Да и интересуюсь я им мало, и вот по какой причине: я занят, я остро интересуюсь бытом интеллигенции русской, люблю ее, считаю хотя и слабым, но очень важным слоем в стране. Судьбы ее мне близки, переживания дороги.
Значит, я могу писать только из жизни интеллигенции в Советской стране. Но склад моего ума сатирический. Из-под пера выходят вещи, которые порою, по-видимому, остро задевают общественно-коммунистические круги.
Я всегда пишу по чистой совести и так, как вижу. Отрицательные явления жизни в Советской стране привлекают мое пристальное внимание потому, что в них я инстинктивно вижу большую пищу для себя (я — сатирик).
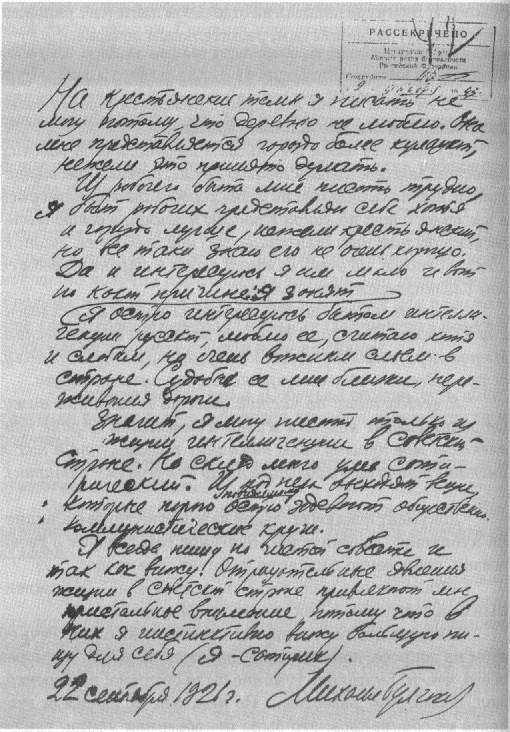
Собственноручные показания М. А. Булгакова.
22 Сентября 1926 года.
Документ исключительной важности! Это не фальшивка лубянских сочинителей, Булгаков сам говорит о своей жизни, откровенно и чеканно излагает свое кредо.
«Физиономия выявлена» исчерпывающе. «Несомненный белогвардеец», — как сказано в «Меморандуме».
О возвращении рукописей в протоколе ни слова. Речь об этом на допросе, конечно, шла, не могла не зайти, и, скорее всего, что-то Булгакову туманно было обещано: разберемся, мол, посмотрим, известим… Но отдавать их на самом деле вовсе не собирались: это была откровенная улика, свидетельство неблагонадежности писателя, а если прибавить сюда протокол допроса, можно крепко держать на крючке и выдернуть — на сковородку — в любой момент.
Сам же колебатель государственных устоев вовсе не собирался делать тайну из навязанного ОГПУ общения. Один из вездесущих гепеуховых донесет, что вызов Булгакова на Лубянку вовсю обсуждается в московских литературных кругах, что Булгаков подробнейшим образом рассказал о допросе известному писателю Смидовичу-Вересаеву. Во время допроса ему казалось, что «сзади его спины кто-то вертится, и у него было такое чувство, что его хотят застрелить», в конце концов ему заявили, что «если он не перестанет писать в подобном роде, то он будет выслан из Москвы», а когда он вышел из ГПУ, то видел, что за ним идут.
«Передавая этот разговор, — добавляет Гепеухов, — писатель Смидович заявил: „Меня часто спрашивают, что я пишу. Я отвечаю: „Ничего“, так как сейчас вообще писать ничего нельзя, иначе придется прогуляться за темой на Лубянку“».
«Таково настроение литературных кругов. Сведения точные. Получены от осведома», — подводят черту чекисты.
Булгаков не только ничего не скрывал, но больше того — предупредил тех, кому, по его мнению, грозила опасность. Сообщил, например, на заседании литературного кружка у Зайцева: вызывали, говорили, что кружок привлекает к себе внимание и его нужно закрыть (об этом свидетельствует в своих мемуарах Зайцев).
Семен Гендин водружает над столом свою многодумную голову. Делает выписку из очередной агентурной сводки № 290 от 5 октября 1926-го:
…Линия борьбы с гегемонией пролетарской идеологии все более и более выкристаллизовывается.
Принимает ли эта «фронда» организационные формы? Вряд ли, хотя кое-какие намеки уже попадались… Михаил Булгаков и еще кое-кто были у Шкловского и совещались о «своем» органе. Возможно, что это совещание ничего не дало, так как шел разговор еще об одной встрече, но, насколько удалось выяснить, вторично эта группа не встречалась…
Во что выльется эта «фронда»? Трудно сказать, но, мне кажется, некоторые из этих журналистов могут свихнуться и скатиться в лагерь корреспондентов «Руля» и «Социалистического вестника»[65]. Левидов[66] замышлял… ехать за границу на пароходе Совторгфлота, минуя административный отдел Моссовета, так как он не уверен, выдадут ли ему паспорт. То же хотел сделать и Юнпроф, и Непомнящий, и многие другие.
Но несомненно одно: пора задуматься об этом «уклоне» части журналистов и литераторов и локализовать его…
«Верно», — удостоверяет выписку Гендин. Его упругая подпись гусеницей переползает с одной бумаги на другую. Булгаковская папка растет не по дням, а по часам.
Гендин наверняка знает, что сегодня, 5 октября, в Московском Художественном театре — премьера пьесы Булгакова «Дни Турбиных». Но и представить себе не может, что этот день станет едва ли не самым важным в судьбе его подопечного. Ибо, как пишут в романах, на следующее утро тот проснется знаменитым.
Успех был оглушительный, триумфальный. Имя Булгакова сразу стало известным. Атмосфера вокруг него раскалилась до предела.
«Направляюсь в ГПУ (опять вызывали)», — сообщает Булгаков 18 октября в письме Вересаеву, должно быть, желая дать знать, куда идет, если с ним что-нибудь случится.
Новый, только что назначенный начальник Пятого отделения Рутковский[67] докладывал в этот же день:
Вся интеллигенция Москвы говорит о «Днях Турбиных» и о Булгакове…
В нескольких местах пришлось слышать, будто Булгаков несколько раз вызывался (и даже привозился) в ГПУ, где по четыре и шесть часов допрашивался. Многие гадают, что с ним теперь сделают: посадят ли в Бутырки, вышлют ли в Нарым или за границу…
Пока на Лубянке переваривают тревожную информацию, туда приходит секретный пакет от наркома просвещения Луначарского.
3 Ноября 1926 г.
ОГПУ, т. Ягоде.
Мною получено заявление гражданина Булгакова, которое и препровождаю.
Заметим: не писателя — «гражданина». Наперсник талантов, садовод искусств, нарком Луначарский ничего не просит и не требует. Просто извещает — а вы уж, товарищи, сами решайте, вам видней.
О чем же заявляет неугомонный Булгаков? Да все о том же. Нет чтобы сидеть тихо — раззвонил на всю страну!
Народному Комиссару просвещения.
ЗАЯВЛЕНИЕ.
…Прошу Вашего ходатайства о возвращении мне «Дневника», не предполагающегося для печати, содержащего многочисленные лично мне интересные и необходимые заметки.
Задержка «Дневника» приостановила работу мою над романом, не имеющим никакого отношения к политике, разрушила вконец весь мой литературный план года на два вперед…
30 Октября 1926 г.
Обе бумаги совершили многоступенчатое нисхождение из кабинета Ягоды, переходя из отдела в отделение, от большего начальника к меньшему, пока не улеглись на стол главного спеца по Булгакову — Гендина, с резолюцией Рутковского:
«Просмотрите его дневники и заметки, имеющие личный характер, можно возвратить (исполните его вызов и пришлите ко мне)».
Кажется, теперь-то уж все решится!
Никаких следов визита в досье нет. Раунд закончился вничью. Рукописи не отдали, но хоть в ссылку не отправили! Зачем же тогда вызывали? Попросить контрамарку на «Дни Турбиных»?
Шум вокруг Булгакова разрастается. В другом ведущем московском театре — имени Вахтангова — пошла еще одна его пьеса — «Зойкина квартира» (печет он их, что ли?), и тоже с аншлагом.
Можно себе представить гордую ответственность скромного уполномоченного, который, с одной стороны, оказался в рабочем контакте с самими товарищами Луначарским и Ягодой, а с другой — держал в руках судьбу возникшей вдруг знаменитости.
Теперь иметь с ним дело стало опасно. Трогать его — в ореоле славы — надо поделикатней. Почешешь затылок: любая неосторожность может стоить карьеры.
Булгаков никак не может примириться с потерей арестованных рукописей. Для него это вопрос принципа, чести! Главная забота — о дневнике, ибо ясно, что оставлять его в руках чекистов опаснее всего. Борьба за его возвращение растянулась на годы. Теперь известно, какими заявлениями писатель бомбардирует Лубянку, и тон их становится все настойчивей.
18 Января 1928-го обращается прямо в Секретный отдел:
Позволю себе в последний раз беспокоить Политическое Управление просьбою вернуть мне не предназначающиеся ни для печати, ни для сообщения кому бы то ни было мои записки.
В случае, если Государственное Политическое Управление не пожелает удовлетворить мою просьбу, прошу известить меня о том, что дневник мой мне возвращен не будет…
Не дождавшись ответа, он возобновляет попытки — на этот раз через Горького. Ощутив поддержку, оформляет доверенность на получение рукописей на имя жены Горького — Екатерины Павловны Пешковой, возглавлявшей Политический Красный Крест[68]. «О рукописях Ваших я не забыла, — пишет Булгакову Екатерина Павловна, всегда готовая помочь попавшим в беду, — и два раза в неделю беспокою запросами о них кого следует. Но лица, давшего распоряжение, нет в Москве. Видимо, потому вопрос так затянулся. Как только получу их, извещу Вас».
Лицом, давшим распоряжение, был, по всей вероятности, не кто иной, как Ягода, ибо именно к нему Булгаков адресуется в конце того же года (12 ноября):
Так как мне по ходу моих литературных работ необходимо перечитать мои дневники… я обратился к Алексею Максимовичу Горькому с просьбой ходатайствовать перед ОГПУ о возвращении мне моих рукописей, содержащих крайне ценное лично для меня отражение моего настроения в прошедшие годы.
Алексей Максимович дал мне знать, что ходатайство его успехом увенчалось и рукописи я получу. Но вопрос о возвращении почему-то затянулся.
Я прошу ОГПУ дать ход моему заявлению и дневники мои мне возвратить…
Судя по интонации, Булгаков почти уверен в успехе — нужно только подтолкнуть чекистов, напомнить о себе…
Но над ним уже снова сгущались тучи. И вскоре грянул гром с политического олимпа — сокрушительная критика самого Сталина. Писатель попал в жестокую опалу. Все его пьесы были сняты со сцены, публикации запрещены. Тут и Пешкова, и Горький были бессильны помочь.
Булгаков уже пережил и первоначальную нищету, бесприютность и безвестность в Москве (в ту пору, когда писался дневник), и первую кратковременную славу — бурный успех пьес и ранней прозы (как раз тогда, когда, на взлете, он лишился этого злополучного дневника), и постигшее потом, все более нарастающее публичное отторжение и травлю, — он явно изгонялся из литературы. Его захлестнула петля, государственная удавка, и чем он настойчивей сопротивляется, тем она затягивается туже.
И вдруг, именно в это время, когда писатель уже доведен до отчаяния, когда он меньше всего этого ожидал, его вызвали в ОГПУ и наконец дневник вернули — 3 октября 1929 года, через три с половиной года после изъятия!..
И что же делает с ним Булгаков?
«Ломая ногти, я раздирал тетради, стоймя вкладывал их между поленьями и кочергой трепал листы. Пепел по временам одолевал меня, душил пламя, но я боролся с ним… Знакомые слова мелькали передо мной, желтизна неудержимо поднималась снизу вверх по страницам, но слова все-таки проступали и на ней. Они пропадали лишь тогда, когда бумага чернела, и я кочергой яростно добивал их…».
Так Мастер сжигал свою великую непризнанную книгу в булгаковском романе. То же сделал и сам Булгаков со своим дневником, отбывшим более чем трехлетний срок на Лубянке, — уничтожил его. Жест красноречивый, означавший и то, что для писателя его сокровенная исповедь уже осквернена грязными руками «серого человека», и то, что он не хочет больше, во избежание повторения пройденного, хранить явный компромат на себя. Дневник прервала сама жизнь, к этому жанру он уже никогда не вернется.
Да и вообще в тот момент он прощался со своим прошлым, был на распутье — места себе на Родине не видел и доверился судьбе.
Но мистический страх за свои рукописи преследовал его до самой смерти в 1940 году. В последние дни перед кончиной Булгакова, как рассказывает его вдова Елена Сергеевна, ему мерещилось, что забирают его рукописи.
— Там есть кто-нибудь? — беспокоился он.
«И однажды заставил меня подняться с постели и, опираясь на мою руку, в халате, с голыми ногами, прошел по комнатам и убедился, что рукописи „Мастера“ на месте. Он лег высоко на подушки и упер правую руку в бедро — как рыцарь».
«— Дайте-ка посмотреть, — Воланд протянул руку ладонью кверху.
— Я, к сожалению, не могу этого сделать, — ответил мастер, — потому что я сжег его в печке.
— Простите, не верю, — ответил Воланд, — этого быть не может. Рукописи не горят».
Знаменитую фразу из «Мастера и Маргариты» подтвердила сама жизнь. Случилось одно из булгаковских чудес. Писатель сжег свой дневник, а мы его читаем. Рукописи не горят!
Дневник Булгакова не исчез, его сохранили там, в дьявольской пасти ОГПУ. Органы, сделав жест, вернули… и не вернули его. Рукопись, прежде чем отдать автору, предусмотрительно сфотографировали, перепечатали и хорошо спрятали — до случая… Случай выдался только через шестьдесят лет, в наши дни, когда архивисты Лубянки извлекли ее на свет, сыграв, таким образом, роль Воланда — и с успехом.
Однако дневником «дело Булгакова» не кончилось. Пока мы работали с рукописью, готовя ее к публикации и радуясь, что удалось выхватить ее из огня, пока преодолевали, с помощью специалистов, все текстологические рифы, булгаковская тема получила неожиданное продолжение.
За эту пьесу следовало бы расстрелять.
«Дни Турбиных» — самая знаменитая пьеса Михаила Булгакова. И особый сюжет в его закулисной жизни.
Лубянка узнала об этой пьесе задолго до того, как она попала на театральные подмостки. И больше того — участвовала в ее сценической судьбе, сопровождала все время — то как молчаливый, но недремлющий конвой, то прямо вмешиваясь и прерывая действие.
Один из сигналов о новой «вредительской» вылазке Булгакова поступил в июле 1926-го, после того как Главный репертуарный комитет (он же Главрепертком, он же ГРК) — официальный орган, контролирующий театры, — просмотрев закрытую репетицию спектакля во МХАТе, потребовал серьезной переделки пьесы. Только при таком условии она могла увидеть свет рампы. Работа — дебют для молодой, обновленной труппы — была в разгаре, шла вдохновенно, в дружном контакте с автором пьесы. Потом этот период назовут весной Художественного театра: лучшая сцена страны наконец-то дождалась блестящего драматурга, а драматург — достойной его сцены.
В советском искусстве назревало большое событие. «В литературных кругах много разговоров о пьесе Булгакова „Белая гвардия“ (первоначальное название. — В.Ш.), — докладывал на Лубянку Гепеухов, причастный к писательской братии. — Антисоветская часть литераторов с торжеством рассказывает, что Главрепертком „просмотрел“ такую явно „белую“ вещь».
Новое заседание Главреперткома было назначено на 17 сентября, вскоре после открытия театрального сезона. МХАТ лихорадило. Перед репетицией главный режиссер Константин Сергеевич Станиславский сделал тактический ход — распорядился раздать контрамарки только своим болельщикам, сочувствующим театру. Подготовилось к схватке и ОГПУ и даже приняло в ней непосредственное участие — послало во МХАТ тройку своих полномочных представителей.
После репетиции начался другой спектакль. Его действующие лица помимо чекистов — пять сотрудников ЦК ВКП(б), театральная секция Главреперткома в лице критиков А. Орлинского и В. Блюма и в качестве статистов несколько партийных посланцев из московских райкомов. Председательствовал солидный — в галстуке и очках, с профессорской бородкой, лысиной и брюшком — начальник Главлита, главный цензор страны Павел Иванович Лебедев-Полянский. Секретарские обязанности взял на себя уполномоченный Пятого отделения Секретного отдела ОГПУ Николай Шиваров[69].
Крепкая подобралась команда! Не проскочит и мышь!
Весь ход этого спектакля нетрудно себе представить, вернув с протокольной бумаги из лубянского досье в уста персонажей их речи.
Вступительное сообщение было поручено Блюму.
— Сейчас мы смотрели второй вариант постановки, в котором учтен целый ряд указаний, данных ГРК театру, — начал он. — Однако множество мест, враждебных нам, не изъято или недостаточно смягчено. Следует, например, убрать картину петлюровского лагеря, так как и для автора, и для постановщика петлюровщина — это псевдоним революции, темная, необузданная стихия…
Перечислив еще несколько «враждебных мест», Блюм нашел все же, что после вторичной переработки может получиться если не революционная, то хотя бы сменовеховская пьеса.
Прения открыл коллега Блюма — Орлинский, который усилил огонь критики:
— У Булгакова крайне идеализированы все белогвардейцы. Представьте, если бы МХАТу предложили пьесу, в которой была бы так идеализирована семья революционеров, что бы произошло? МХАТ отверг бы ее как антихудожественную! «Дни Турбиных» — пьеса не художественно-реалистическая, а грубо-тенденциозная. Это апология белогвардейщины. И контрреволюционность настолько сильна, что ее не удастся смыть никакими переделками. Кроме того, в пьесе сквозит шовинистический дух. Кто единственная отталкивающая фигура среди белогвардейцев? Немец Тальберг!
Выступили один за другим лица из ЦК ВКП(б) — все они нашли пьесу враждебной и высказались против постановки. Ударили и по театру: МХАТ пренебрежительно относится к указаниям партийных органов. Разве допустимо пускать народ на репетицию еще не разрешенной пьесы?
— Что это за «закрытая» репетиция перед тысячной аудиторией «из своих»? — грозно вопрошал товарищ Розе. — Репетиция, на которой демонстрируется сомнительная в цензурном отношении вещь? Нелегальное собрание! Мы сами прибегали когда-то к таким способам и знаем, что это такое. Овации, устроенные артистам и автору, — это политическая манифестация. Мы не можем мириться с тем, что МХАТ дает пищу мелкой буржуазии…
«Идеализация белогвардейщины», «предельная тенденциозность», «враждебность» — подобные же ярлыки навешивал и представитель ОГПУ Шиваров.
— Белогвардейцы вызывают сочувствие зрителей! — возмущался он. — И тем больше, чем лучше игра артистов! Не наша забота, товарищ Блюм, перерабатывать белогвардейские пьесы в сменовеховские. Это политическая ошибка! Сменовеховцы отнюдь не безопаснее белогвардейцев. Пьесу нужно безусловно снять!
Перепуганный Блюм бросился оправдываться: да, да, он был слишком мягок, товарищ Шиваров конечно же прав — пьесе не место на сцене…
Товарищи рангом пониже, посланцы райкомов, скромно молчали, солидаризируясь с мнением вышестоящих товарищей.
Товарищ Лебедев-Полянский подвел итог:
— Не стоит говорить о мелких переделках и недостатках пьесы. Мнение о ее политической вредности и недопустимости разделяется всеми выступившими. Нашей классовой правды в пьесе нет. Пьеса несомненно враждебная и, конечно, недопустима… А овации публики — это маневр театра с целью воздействовать на нас. Такая практика недопустима, я дам соответствующее административное распоряжение, чтобы это не повторялось…
Приходится, однако, считаться с различными посторонними влияниями при рассмотрении таких вопросов, — продолжал Лебедев-Полянский, — тем более что вопрос касается первого выступления МХАТа на современные темы…
Оратор явно имел в виду поддержку пьесы наркомом просвещения Луначарским, уже высказавшимся в печати за разрешение ее. Да и со Станиславским нельзя не считаться — корифей и слава русской сцены, мировая известность!
Искушенный в таких делах Лебедев-Полянский вносит предложение, как сказано в протоколе (дай бог выговорить!), «проведение которого имеет целью обеспечить снятие пьесы с постановки вопреки возможных посторонних влияний»… Говоря нормальным языком, придумал какой-то хитрый маневр. Какой?
«Постановили: исходя из единодушной оценки пьесы Булгакова „Дни Турбиных“, — пьесу с постановки снять».
И опять лукаво-мудреное: «Данное постановление осуществить порядком, указанным в предложении т. Лебедева-Полянского, а именно…» — тут на самом интересном месте текст обрывается, в протоколе зияет белое пятно. Дальше, стало быть, — секрет, государственная тайна.
В чем же состояло предложение главного цензора, о котором нельзя было даже писать в документе и которое так тщательно скрывалось? Что это за тайны мадридского двора?
Переделать не пьесу, а самого автора, заставить подчиниться? Или другое, привычное в партийной практике средство — организовать общественное мнение: спустить с цепи всегда и на все готовых псов-критиков, мобилизовать печать, покатить волну негодующих собраний, разбудить праведный пролетарский гнев? Или и то и другое — комплекс мер? Судя по дальнейшим событиям, именно так.
— Если не разрешат эту пьесу, я уйду из театра, — сказал актерам после заседания бледный Станиславский.
Но не опустил руки.
18 Сентября театр как ни в чем не бывало репетирует.
19 Сентября должна состояться генеральная репетиция, но ее отменяют.
22 Сентября, понедельник. На этот день назначена фотосъемка участников спектакля — в гриме и костюмах. Сохранился снимок — автор пьесы в центре, изысканно одет, гордая осанка, руки скрещены на груди. А между тем в этот день с ним произошло экстраординарное событие, о котором мы теперь знаем из архивного досье: именно 22 сентября его в сопровождении сотрудника ОГПУ увозят на Лубянку и учиняют там допрос.
23 Сентября. Сегодня решится, идет пьеса или нет. Полная генеральная репетиция с публикой. В зале — представители правительства, Главрепертком, пресса. На этот раз Станиславский вынужден был сделать противоположный ход: накануне обращается к труппе с инструкцией, — ввиду «серьезных обстоятельств» он категорически запрещает появляться в театре артистам и служащим, не занятым в спектакле. Приходит письмо от его учеников, больше похожее на соболезнование: «Сегодня, в трудный для Вас и для театра день, все мы, как один, хотим передать Вам и всему театру — нашу тревогу и нашу душевную преданность…».
Начало спектакля — публика очень холодна, потом постепенно оттаивает, теплеет, и к финалу — зал побежден.
— Пьеса, может и наверное, пойдет, — пообещал после спектакля Луначарский. И добавил: — Впрочем, пока это мое личное мнение…
Несмотря на все усилия противников пьесы, она была поставлена. 5 октября с триумфом прошла премьера.
Проглотили, но не смирились. Готовили контратаку. Тут-то и обрушился на автора и на театр умело отрежиссированный шквал общественного мнения. Партактивисты и чекисты, тайные агенты и официальные критики, гласные и негласные стукачи объединились, чтобы добиться снятия спектакля. Парадокс: бешеный успех у публики — и многогласное осуждение в печати. Булгаков не успевал вырезать и развешивать по стенам, наклеивать в специальный альбом отзывы один ругательней другого.
Как велась эта кампания, видно по материалам лубянского досье. Испытанный прием — побить писателя руками его коллег. Вот закрытая рецензия драматурга Бориса Ромашова, по-видимому заказанная ОГПУ.
У него, как и у Булгакова, только что поставлена (в студии Малого театра) первая пьеса «Федька-есаул», тоже посвященная событиям Гражданской войны на юге России. Кандидатура подобрана умело: вот, мол, такой же молодой драматург и пишет о том же, но какая разница!
И Ромашов старается оправдать доверие:
Пьеса Булгакова явилась первым опытом старого МХАТа в области современного репертуара. Опыт, должно подчеркнуть, не удался во многих отношениях.
«Дни Турбиных» пытаются дать «эпическое полотно» эпохи Гражданской войны… но вместо эпического полотна перед зрителем ряд несвязанных эпизодов… Сосредоточивая внимание на жизни Турбиных (совершенно из «Трех сестер» Чехова), автор совершает грубейшую ошибку, пытаясь показать подобным образом белогвардейщину, в розовых, уютных красках рисуя ее «героев»… Отсутствие социального подхода, стремление уйти в уютное гнездышко, спрятав голову подобно страусу, делает всю картину нарочито фальшивой и идеологически неприемлемой.
И никакой эпохи не может быть за кремовыми шторами, ибо нельзя и смешно пытаться дать эпическое полотно, не поднявшись на те колосники, откуда видны социально-классовые корни и границы революции…
МХАТ ставит эту пьесу со всеми атрибутами чеховщины. Система Станиславского возобновляется во всей своей широте (хотя сам создатель системы недавно в своей книге отказался от нее). Получается урок из давнего прошлого. И все эти приемчики натуралистической игры, виртуозное ведение диалога, истерия и т. п. производят впечатление на публику. Большое мастерство и культура несомненно налицо в актерском исполнении. Но тем хуже для спектакля. Как раз этот подход усиливает фальшивость самой пьесы…
Никак нельзя говорить о современности в этом спектакле, совершенно чуждом новому зрителю!..
Новый театр должен противопоставить подобным пьесам действительно здоровую вещь, написанную во всеоружии классового анализа событий без «турбинских» извращений.
«Здоровые вещи», стало быть, пишут такие драматурги, как Ромашов, ушедшие далеко вперед от «чеховщины» (ну и словечко — из писательских уст!).
Доносы на Булгакова в эти дни сыпались как из рога изобилия. Из них делаются выжимки — агентурные сводки — и посылаются наверх — начальству.
От интеллигенции злоба дня перекинулась к обывателям и даже рабочим… Около Художественного театра стоит целая стена барышников, предлагающих билеты на «Дни Турбиных» по тройной цене, а на Столешниковом, у витрины фотографа весь день не расходится толпа, рассматривающая снимки постановки…
Сам Булгаков получает теперь с каждого представления 180 руб. (проценты), вторая его пьеса («Зойкина квартира») усиленным темпом готовится в студии имени Вахтангова, а третья («Багровый остров») уже начинает анонсироваться Камерным театром. На основании этого успеха Московское общество драматических писателей выдало Булгакову колоссальный аванс, который, конечно, не будет возвращен, если даже две остальные пьесы Главрепертком и запретит к постановке… Шумиха, поднятая в московской печати, способствовала тому, что «Зойкина квартира» в Киеве идет ежедневно при переполненных сборах…
Сущее бедствие этот Булгаков! Уже и на Украину перекинулся. И вот что хуже всего: меры, принятые против него, дают обратный результат. Получается, что сами чекисты добавляют ему популярности.
Гепеухов, близко стоящий к театру, жалуется:
Начали такую бомбардировку, что заинтересовали всю Москву… Проведено так организованно, что не подточишь и булавки, а все это — вода на мельницу автора и МХАТа… Пьеса ничего особенного не представляет… Всю шумиху подняли журналисты и взбудоражили обывательскую массу…
Во всяком случае, «Дни Турбиных» — единственная злоба дня за эти лето и осень в Москве среди обывателей и интеллигенции. Какого-нибудь эффектного конца ждут все с большим возбуждением…
Но самое интересное в подобных сочинениях, конечно, не оценки и суждения их авторов, а те выхваченные из летящего времени мгновенья, в которых проступает сам Булгаков с живым лицом и живой речью.
Вот он в «интимной беседе», на ужине после генеральной репетиции «Дней Турбиных», рассказывает, какую экзекуцию устроили его пьесе:
— Реперткому не нравится какая-то фраза, слишком обнаженная по содержанию. Она, конечно, немедленно выбрасывается. Тогда предыдущая фраза, а за ней и последующая становятся немыслимыми логически, а в художественном отношении абсурдными. Они тоже выбрасываются, механически. В конце концов целое место становится примитивом, обнаженным до лозунга, — и пьеса получает характер однобокий, контрреволюционный…
Вот он приходит в театр и, увидев новые цензурные сокращения в пьесе, сокрушенно спрашивает:
— Почему многие места пропущены?
И слышит ответ:
— Они именно не пропущены…
Идет спектакль. В антракте к Булгакову подходит маленький, беспокойный человек и с ходу заявляет:
— Вас за эту пьесу следовало бы расстрелять!
— А вы кто такой? — недоумевающе спрашивает Булгаков.
— Я Карл Радек!
— Простите, но я и вас не знаю и не знаю, кто такой Карл Радек…
Известному партийному деятелю, идеологу и публицисту, нечем крыть. Но такое не забывается и не прощается…
8 Февраля 1927 года Гендин отправился в театр Мейерхольда на диспут, посвященный постановкам «Дней Турбиных» и пьесы Тренева «Любовь Яровая», и представил потом в ОГПУ обстоятельный отчет. По существу, вечер этот был общественным судом над Булгаковым под видом дискуссии при переполненном зале.
Председательствующий — Анатолий Васильевич Луначарский — пробовал защищать «Дни Турбиных»:
— По своему содержанию пьеса не контрреволюционна, и хорошо, что она разрешена к постановке. Нельзя требовать от квалифицированной интеллигенции, чтобы она сдала все свои позиции и сделалась коммунистической. Но из-за поднятого вокруг пьесы шума и больших споров при разрешении постановки она превратилась в запретный плод, возбуждающий всеобщий интерес…
В роли прокурора выступил все тот же Орлинский из Главреперткома — один из самых ярых хулителей Булгакова. Суть его речи — запальчивой и длинной — сводилась к тому, что «Дни Турбиных» плод не запретный, а, к сожалению, незапрещенный.
— Это белая пьеса, кое-где подкрашенная под цвет редиски, но сердцевина-то у нее все-таки белая! И все идет от этой белой сердцевины. Характерный признак пьесы — боязнь массы. В ней нет рабочих, нет даже денщика, прислуги… Там, в этой пьесе, не хватает только хороших генералов, чтобы двинуть в поход белую гвардию…
«Совершенно неожиданно и любопытно было выступление Булгакова, — записывает в отчете Гендин. — Начав с того, что с 5 октября 1926 года критик Орлинский всячески преследует его, он хитро и довольно остроумно стал защищать своих героев».
Что же ответил Булгаков на придирки своего обвинителя?
— Уступая настойчивым требованиям Орлинского, я ввел в свою пьесу следующую фразу: Лена просит Алексея позвать горничную Аннушку, Алексей сообщил, что Аннушка уехала в деревню… Что касается денщика, то его нельзя было достать в Киеве в то время даже на вес золота. А большевиков я не мог показать, во-первых, потому, что нельзя на сцену вывести полк солдат, во-вторых, пьесу надо уложить с таким расчетом, чтобы публика могла поспеть к трамваю, и, в-третьих, большевики надвигались с севера и до Киева еще не дошли…
«Любопытно отметить, — пишет Гендин, — что две трети партера аплодировали Булгакову, между тем как галерка кричала ему, что он неприкрытый враг. В антракте Булгаков собрал вокруг себя большую толпу, где продолжал идеализацию и защиту своей пьесы».
Поведение писателя поразило не только Гендина, но и матерого, видавшего виды марксиста-полемиста Луначарского. В заключительном слове он отметил, что выступление Булгакова «носило исторический интерес». Он «очень хитро и с большой дерзостью защищал свою пьесу».
Узнал Гендин и о том, как вел себя Булгаков после вечера. Один из гепеуховых, несший караул в «Доме Герцена», удачно оказался с ним рядом за ресторанным столиком.
Булгаков был взволнован диспутом, с которого он удрал, не дождавшись конца. Он выступил на самозащиту, так как какой-то оратор врал на него, приводя несуществующие цитаты из «Дней Турбиных». Когда публика начала кричать, что Булгаков в театре, его попросили на сцену, и он «отругнулся».
В общем, к спору о его пьесе (мы говорили около часу) он равнодушен. Его выводит из себя только одно — запрещение пьесы всюду, кроме Художественного театра. Он мог бы заработать громадные деньги, но… даже «Зойкину квартиру» везде запретили (хотя она и проскочила в Киеве шесть раз). Настроение, в отличие от «эмигрантствующих» писателей, менее агрессивное. Никаких выпадов против власти и никаких «метаний». В голосе, подергивании мускулов лица (едва заметном) чувствуется, правда, какая-то злоба, не совсем от бюджета исходящая. Если враг, то сдержанный и тайный…
Не расстреляли, как предлагал Радек, но в начале осени Добились своего — пьесу сняли. Ненадолго: сторонники ее уже в октябре перетянули канат на себя. «Дни Турбиных» шли еще полтора года, пока их не сняли опять, вместе со всеми другими пьесами Булгакова. «Турбины» вновь вернулись на сцену только через пять лет.
Пьеса пульсировала, то затихая, как задушенная, то вновь обретая дыхание.
«На этой пьесе, как на нити, подвешена теперь вся моя жизнь, — признался в одном из писем Булгаков, — и еженощно я воссылаю моления судьбе, чтобы никакой меч эту нить не перерезал».
«Бег» с препятствиями.
В июле 1927-го, в разгар баталий вокруг «Дней Турбиных», ОГПУ узнало, что Булгаков замышляет еще одну пьесу. Беседуя с другими писателями, он заявил:
— Меня считают контрреволюционером, ну так я им напишу революционную пьесу!
Вскоре он уехал в Крым, где и засел за работу.
Пьеса — она получила название «Бег» — была закончена в конце года. И тогда же в МОДПИКе (Московское общество драматургов, писателей и композиторов), в котором состоял Булгаков, разразился страшный скандал. Сигналы о нем, зарегистрированные сразу в двух отделах ОГПУ — Секретном и Информационном, — позволяют подробнейшим образом восстановить этот эпизод.
Началось с того, что в МОДПИК поступило заявление Булгакова: он покидает эту организацию и переходит в Драмсоюз (Союз драматургов). Член правления МОДПИКа Гольденвейзер тут же позвонил Булгакову, чтобы разъяснить неприятный сюрприз. Состоялся следующий разговор (изложен он в агентурной сводке столь обстоятельно, будто записан на магнитную ленту):
— Почему вы ушли из МОДПИКа? Ведь вы фигура одиозная. Ваш уход в Драмсоюз будет всячески комментироваться, и имя ваше будет трепаться.
— Я это знаю. Я на это шел. Во-первых, я не могу состоять в том обществе, почетным председателем которого состоит Луначарский, не как Анатолий Васильевич, а как Наркомпрос, который всячески ставит препятствия к продвижению моих пьес, и в частности, препятствовал постановке «Дней Турбиных» во Франции. Во-вторых, в правлении МОДПИКа имеются коммунисты, а они — мои враги, не могу я с ними состоять в одном обществе.
— Значит, вы намерены бороться?
— Да, я встаю на путь борьбы. Вся современная литература пишется из-под кнута, и я так не могу работать. Я знаю, что идет борьба за снятие «Дней Турбиных». Я этому всячески буду сопротивляться, и, если пьесу снимут, я буду активно бороться несмотря ни на что.
— Вы решили, значит, активно бороться?
— Да, активно. Кроме того, есть еще причина, которая побудила меня выйти из МОДПИКа. Там слишком большая демократичность. Не делается различия между старым, заслуженным писателем и молодым. Ко всем одинаковое отношение. Я даже не должен приходить за деньгами в МОДПИК, а мне их должны посылать на дом. Один из членов правления ходит в свитере, в то время как член правления должен быть одет с иголочки. И к председателю уж очень свободен доступ, а он должен быть как бог…
«Конечно, последняя причина ухода Булгакова не имеет значения, — резюмирует сводка Информационного отдела, — а главное то, что этот внутрисоветский эмигрант показал свое настоящее лицо. Даже Гольденвейзера (совсем не советский человек) возмутил разговор Булгакова».
Действительно, пораженный телефонным разговором, Гольденвейзер имел неосторожность поделиться чувствами с другим членом правления — Новокшеновым[70] (к несчастью, тем самым, который ходит в свитере), тот потребовал повторить рассказ в присутствии членов ВКП(б) товарищей Киршона, Сольского-Панского и Полосихина, а дальше уж, как говорят, ситуация вышла из-под контроля. Кто из этих товарищей побежал в ОГПУ, не так уж важно, — должны были все, по партийному долгу.
«Уход Булгакова из общества рассматривается партийной частью правления как политический акт», — констатирует сводка Секретного отдела.
Начальство отреагировало мгновенно: потребовало усилить «разработку Булгакова». Исполнители те же — Гендин и Шиваров.
Пока знатоки стараются, «Бег» уже набирает скорость — прочитан и принят в Художественном театре. Главрепертком приходит в себя и бросается наперерез: остановить! Пьеса прославляет не коммунистов, а эмигрантов и белых генералов. К резолюции присоединяется Наркомпрос: запретить! — на Луначарского больше рассчитывать не приходится.
Но пьеса неожиданно обретает новых защитников.
Соруководитель МХАТа Владимир Иванович Немирович-Данченко, взявший в свои руки постановку «Бега», собрал в начале октября заседание художественного совета и пригласил на него вершителей театральной политики, а главное, приехавшего из Италии Горького. Пьесу — под взрывы смеха — читает сам автор, потом начинается обсуждение.
Горький добродушно заявляет:
— Никакого раскрашивания белых генералов не вижу. Превосходнейшая комедия, великолепная вещь, которая будет иметь анафемский успех, уверяю вас!
Горькому вторит начальник Главного управления по делам искусств Свидерский:
— Термины — «советская» и «антисоветская» — надо оставить. Такие пьесы, как «Бег», лучше, чем архисоветские. Пьесу эту нужно разрешить, нужно, чтобы она поскорее была показана на сцене.
— Главрепертком ошибся, — дожимает Немирович-Данченко, — когда пьеса будет показана на сцене, вряд ли кто-нибудь станет возражать…
И растерявшийся Главрепертком отменил свое решение, пропустил «Бег».
На следующий же день начались репетиции.
Тем временем Лубянка накапливала очередную дозу компромата на Булгакова.
В литературных и артистических кругах Ленинграда усиленно обсуждается вопрос о постановке новой пьесы Булгакова «Бег», — доносится из колыбели революции голос Гепеухова. — У Булгакова репутация вполне определенная. Советские люди смотрят на него как на враждебную Советской власти единицу, использующую максимум легальных возможностей для борьбы с советской идеологией… Из кругов, близко соприкасающихся с работниками Гублита и Реперткома, приходилось слышать, что «Бег» несомненно идеализирует эмиграцию и является, по мнению некоторых ленинградских ответработников, глубоко вредной для советского зрителя…
«Нужно выяснить через Информационный отдел о судьбе этой пьесы и помешать ее постановке», — приказывает на полях новый начальник Пятого отделения — уже третий по счету в булгаковском досье! — Гельфер.
«Замечается брожение в литературных кругах по поводу „травли“ пьесы Булгакова „Бег“, — перекликается с Питером Гепеухов-москвич, — иронизируют, что пьесу топят драматурги-конкуренты, а дают о ней отзыв рабочие, которые ничего в театре не понимают и судить о художественных достоинствах пьесы не могут».
«О пьесе дать обзорную сводку», — чеканит Гельфер.
24 Октября «Правда» сообщает, что «Бег» снова запрещен. И газеты, как по взмаху дирижерской палочки, начинают вопить и улюлюкать: «Ударим по булгаковщине! Разоружим классового врага в театре и литературе!» Сценарий уже знакомый по «Дням Турбиных».
Художественный театр продолжает репетиции.
«Булгаков получает письма и телеграммы от друзей и поклонников, сочувствующих ему в его неприятностях…» «К нему приходил переводчик, предлагавший что-то перевести для венских театров…».
Захлебываются гепеуховы. Свирипеет Лубянка. Журнал «Современный театр» сообщает: «Бег» будет поставлен до конца сезона!
Наступил Новый, 1929-й.
Совершенно секретно… Булгаков рассказывает, что «делается фантастика», пьеса запрещена, но репетиции идут… Горький поддерживал пьесу в «сферах», кто-то (Сталин, Орджоникидзе) сказал Ворошилову: «Поговори, чтоб не запрещали, раз Горький хвалит, пьеса хороша», — но эти слова, по мнению Булгакова, не более чем любезность по отношению к Горькому, последнего окружили поклонением, выжали из него все (поддержку режима в прессе и т. п.) и на том попрощались. Горький не сумел добиться даже пустяка — возвращения Булгакову его рукописей, отобранных ГПУ.
Недавно рассекреченные партийные документы подтверждают грандиозный масштаб сражения, которое разыгралось вокруг булгаковской пьесы. Судьба «Бега» дважды — 14 и 30 января 1929-го — обсуждалась на заседании Политбюро ЦК как дело особой важности! Была создана сановная «тройка» в лице К. Ворошилова, Л. Кагановича и А. Смирнова[71], которая, ознакомившись с содержанием пьесы, признала «политически нецелесообразной» постановку ее в театре. Этот «приказ» был напечатан на бланке «Народного комиссара по военным и морским делам и Председателя революционного военного совета СССР»…
А в феврале грянул гром с самого олимпа — пьесу прочел Сталин. И высказал свое мнение о «Беге» и о драматурге Булгакове во всеуслышание и абсолютно в духе и стиле ГПУ: «„Бег“ есть проявление попытки вызвать жалость, если не симпатию, к некоторым слоям антисоветской эмигрантщины, — стало быть, попытка оправдать или полуоправдать белогвардейское дело. „Бег“ в том виде, в каком он есть, представляет антисоветское явление» (письмо драматургу Билль-Белоцерковскому).
Сталин, правда, давал шанс: «Впрочем, я бы не имел ничего против постановки „Бега“, если бы Булгаков прибавил…» — и далее шли наставления, что и как надо прибавить, — но шансом этим тот не воспользовался.
«Бег» — любимая пьеса Булгакова — был похоронен. Автор обречен. Другую его пьесу, «Багровый остров», вождь назвал «макулатурой». А о пьесе, которую он, как подсчитали летописцы МХАТа, посмотрел за свою жизнь не менее пятнадцати раз, отозвался так: «На безрыбье даже „Дни Турбиных“ — рыба».
В марте были сняты с репертуара все пьесы Булгакова. На Лубянке могли торжествовать: «Вот видите, как мы были правы. Не зря хлеб едим!» Критика объявила на всю страну, что с Булгаковым покончено. А в Театре имени Всеволода Мейерхольда почти ежедневно шла пьеса Маяковского «Клоп» и осмеивалось со сцены имя Булгакова, занесенное автором комедии в «словарь умерших слов»: «Бюрократизм, богоискательство, бублики, богема, Булгаков…».
Год 1929-й вошел в советскую историю как «год великого перелома». Одной из первых жертв этого «перелома» стал Михаил Булгаков. Сам он назовет этот год «годом катастрофы».
«Писатель Булгаков говорит, что занимается правкой старых рукописей и закрывает драматургическую лавочку», — шлет победную реляцию Секретный отдел.
«Бег», прерванный на сцене на тридцать лет, возобновился только в 1957 году, когда самого писателя уже давно не было в живых.
Мыслим ли я в СССР?
Всю жизнь Булгакова мучил один неосуществленный вариант судьбы. Еще во время Гражданской войны, скитаясь по Кавказу, он пробирается в черноморский порт Батум — его манит эмиграция. Тогда не получилось. Но постоянно сосущая ностальгия по большому миру вне границ его страны и периодически настигавшие на родине — один сильнее другого — удары, делавшие жизнь невыносимой, — все это возвращало мысли к тому же. Бежать!.. Не арестант же он?! Хоть на время вырваться из железных тисков!
Первую попытку в Москве он сделал в 1928 году: просил власти о двухмесячной поездке за границу, обосновав ее литературными делами — изданием книг и постановкой пьес. Собирался изучать Париж — для «Бега», четвертое действие которого происходит там. Заявление подано 21 февраля, а уже на следующий день в ОГПУ поступило бдительное предостережение.
Непримиримейшим врагом Советской власти является автор «Дней Турбиных» и «Зойкиной квартиры».
М. А. Булгаков, бывший сменовеховец, — начинал издалека очередной Гепеухов. — Можно просто поражаться долготерпению и терпимости Советской власти, которая до сих пор не препятствует распространению книги Булгакова (изд. «Недра») «Роковые яйца». Эта книга представляет собой наглейший и возмутительнейший поклеп на Красную власть. Она ярко описывает, как под действием красного луча родились грызущие друг друга гады, которые пошли на Москву. Там же есть подлое место, злобный кивок в сторону покойного т. Ленина, что лежит мертвая жаба, у которой даже после смерти осталось злобное выражение на лице.
Как эта книга свободно гуляет — невозможно понять. Ее читают запоем. Булгаков пользуется любовью молодежи, он популярен. Заработки его доходят до 30 000 р. в год. Одного налога он заплатил 4000 р.
Потому заплатил, что собирается уезжать за границу.
На днях его встретил Лернер[72]. Очень обижается Булгаков на Советскую власть и очень недоволен нынешним положением. Совсем работать нельзя. Ничего нет определенного. Нужен обязательно или снова военный коммунизм, или полная свобода. Переворот, говорит Булгаков, должен сделать крестьянин, который наконец-то заговорил настоящим родным языком. В конце концов, коммунистов не так уж много (и среди них много «таких»), а крестьян, обиженных и возмущенных, десятки миллионов. Естественно, что при первой же войне коммунизм будет вымещен из России и т. д.
Вот они, мыслишки и надежды, которые копошатся в голове автора «Роковых яиц», собравшегося сейчас прогуляться за границу. Выпустить такую «птичку» за рубеж было бы совсем неприятно…
В постскриптуме доносчик приводит еще одну фразу Булгакова о политике властей:
— С одной стороны, кричат — «сберегай!», а с другой, начнешь сберегать — тебя станут считать за буржуя. Где же логика?
«Автора этого доклада тоже смущает этот вопрос, — признается агент, озабоченный, куда бы пристроить денежки, свои тридцать сребреников, полученных за тайную службу. — Хорошо бы, если бы кто-нибудь из компетентных лиц разъяснил бы этот вопрос в газетах».
Разумеется, Булгакова за границу не пустили.
Следующую попытку он сделал через полтора года, в конце лета 1929-го. К тому времени его положение резко ухудшилось: вокруг имени Булгакова кипели страсти, он стал запрещенным автором и был уверен, что как писатель уничтожен, а как человек — обречен.
Теперь он направляет просьбу на самый верх, сразу в несколько адресов: председателю ВЦИК Калинину, начальнику Главискусства[73] Свидерскому (памятуя о его поддержке «Бега»), Горькому и — самому Сталину. И просит уже не о короткой поездке, а о разрешении выехать «на тот срок, который будет найден нужным», вместе с женой, потому что у себя на родине не в силах больше существовать.
В ответ — молчание.
Осенью возобновляет попытки достучаться. Снова пишет: секретарю ЦИК Енукидзе[74], Горькому — копия письма тут же попадает в досье. Как и другого письма, из Франции, от брата Булгакова — Николая, ученого-бактериолога, успевшего эмигрировать. Тот словно дразнит Михаила, изображая в красках «благородное тело старого, классического Парижа» и «хаос новых кварталов», облепивших его, «как комки грязи», «Montparnasse — кварталы бедноты, гуляк, бездельников, повес и жуликов (но и пролетариев из всех слоев и концов Земли) и Montmartre — квартал служителей искусствам (всяким, Миша, разнообразнейшим), Quartier Latin — студенческий и т. д., и т. д.»…
Если выглянуть в окно с верхнего этажа дома, где я живу, — наслаждается Николай, — то во все стороны видно море (именно бесконечное море) домов — крыш, труб, куполов, среди которых опознаешь более или менее известные постройки, по которым и ориентируешься в главных направлениях. Итак, наряду с интересными, классически красивыми памятниками бывшего Парижа можно встретить дом и домишко любого стиля, размера, возможности и окраски.
Для наглядности постараюсь иллюстрировать снимками, если ты это хочешь, и это можно сделать…
Приходит письмо из Америки — предлагают поставить и напечатать «Дни Турбиных» на английском языке…
Всё собирают на Лубянке, всё идет в дело.
А в Москве — аресты. Причем в ближайшем окружении Булгакова, ОГПУ отправляет в ссылку друзей из питающей его «пречистенской», интеллигентской среды — художников Сергея Топленинова и Бориса Шапошникова.
Семен Гендин, дослужившийся к тому времени до старшего уполномоченного, в связи с письмом Булгакова к Сталину выполняет поручение государственной важности — составляет «Меморандум», обзорный документ о своем подопечном. Еще раз пережевывает все досье, выхватывает изюминки из протоколов, сводок, писем, агентурных записок и добавляет кое-что свежее. Получается портрет из серии «Разыскивается преступник», составленный из словесных описаний свидетелей:
…38 Лет, сын профессора… Имеет звание врача. В годы Гражданской войны примыкал к белогвардейскому лагерю…
«Собачье сердце» представляет наиболее яркий по своей контрреволюционности памфлет на Советскую власть и партию и в печати не было…
В 1923 г. …вошел в антисоветскую, нелегальную литературную группу «Зеленая лампа»… и состоял в этой группе до ее ликвидации в 1927 г.
Некоторые из своих пьес Булгаков пересылает за границу для постановки в театрах. У него есть брат — белоэмигрант, с которым он поддерживает регулярную переписку…
После снятия с постановки пьес Булгакова его материальное положение сильно обострилось, он считает, что в СССР ему делать нечего, и вопрос о поездке за границу приобретает для него весьма актуальное значение…
Булгаков тщетно ждет ответа на свои многочисленные послания — тщетно…
И все же это только поверхность жизни, а на самой глубине, минуя опасности и невзгоды, — сокровенный писательский труд — несмотря ни на что.
Это новая пьеса — «Кабала святош», о Мольере. Герой избран не случайно: Булгаков находит соответствия своей судьбе и опору для себя в образе славного французского сатирика.
11 Февраля 1930 года он читал новое сочинение в Союзе драматургов. Агентурная сводка об этом мало кому известном в Москве событии, в общем, объективно, почти зеркально отражает реакцию коллег-литераторов и на пьесу, и на ее автора:
Обычно оживленные вторники в Драмсоюзе ни разу не проходили в столь напряженном и приподнятом настроении большого дня, обещающего интереснейшую дискуссию, как в отчетный вторник, центром которого была не только новая пьеса Булгакова, но и главным образом он сам — опальный автор, как бы возглавляющий (по праву давности) всю опальную плеяду Пильняка, Замятина[75], Клычкова и Ко.
Собрались драматурги с женами и, видимо, кое-кто из посторонней публики, привлеченной лучами будущей запрещенной пьесы. В том, что она будет обязательно запрещена, почему-то никто не сомневался даже после прочтения пьесы, в цензурном смысле вполне невинной. Останавливаться на содержании пьесы не стоит. Это, в общем, довольно известная история «придворного» творчества Мольера, гибнущего в результате интриг клерикального окружения Людовика 14-го. Формально (в литературном и драматургическом отношении) пьеса всеми ораторами признается блестящей, первоклассной и проч. Страстный характер принимает полемика вокруг идеологической стороны. Ясно, что по теме пьеса оторвана от современности, и незначительный антиклерикальный элемент ее не искупает ее никчемности в нашу эпоху грандиозных проблем социалистического строительства…
Спор расколол аудиторию на две партии. Первая (сексот называет ее «правыми») защищала пьесу как «мастерски сделанную картину наглядной разнузданности нравов и придворного раболепства одной из ярчайших эпох империализма», вторая («левые») заклеймила пьесу как вредную, аполитичную, как безделушку, в которой герои — и даже король! — получились симпатичными.
Вслед за этим доносом летит еще один, от другого литератора, с которым Булгаков неосмотрительно поделился своими неудачами.
— Полное безденежье, — сказал он сексоту, — проедаю часы, остается еще цепочка. Пытался снова писать фельетоны, дал в медицинскую газету — отклонили, требуют политического и «стопроцентного». А я уже не могу позволить себе «стопроцентное» — неприлично… Что же до моей пьесы о Мольере, то ее судьба темна и загадочна. Когда я читал ее во МХАТе, актеров не было, — нарочно назначили читку, когда все заняты. Но зато художественно-политический совет (рабочий) был в полном составе. Члены совета проявили глубокое невежество, один называл Мольера Миллером, другой, услышав слово «maitre» («учитель», обычное старофранцузское обращение), принял его за «метр» и упрекнул меня в незнании того, что во времена Мольера метрической системы не было… Я сам погубил пьесу! Кто-то счел ее антирелигиозной (в ней отрицательно выведен парижский архиепископ), а я сказал, что пьеса не является антирелигиозной…
Прошло всего полмесяца после того, как слова эти достигли ушей ОГПУ, — и предсказание Булгакова сбылось: пьеса его была к представлению запрещена.
Булгаков мучительно обдумывает варианты спасения. Несовместимость с советской жизнью для него уже совершенно ясна. Как вырваться? Кому еще писать заявления? И приходит к выводу: разрешить его головоломку может только один человек. Взгляд скользит по уступам несокрушимой властной пирамиды, от самого подножья, куда он скинут, — к вершине, обстоятельства вновь и вновь толкают его на прямой диалог с «кремлевским горцем».
Собственно, они уже встречались, и не раз. Тогда, когда вождь приходил в Художественный театр смотреть его пьесу. Считалось даже, что Булгаков — его любимый драматург. Странно любил, по-сталински, — любовью насильника, ломая через колено…
Но до сих пор они следили друг за другом, вели диалог на расстоянии: писатель — устами своих героев, а Сталин — через своих идеологов и жандармов, и это исчерпывало их отношения, делало ненужными личные свидания.
Пора открыть забрало, нарушить дистанцию!
28 Марта Булгаков пишет свое знаменитое письмо Правительству СССР, и по тону, и по смыслу обращенное именно к Сталину. Один экземпляр посылает через ОГПУ — чтобы дошло наверняка. Это не просто личное послание, а, по существу, документ большой общественной важности, манифест независимого художника, доведенного до отчаяния, до последней грани существования.
Теперь Булгаков готов к любому повороту событий. Прежде чем отправить письмо, он сжигает свой заветный труд — первый вариант романа о Мастере и Христе, видимо, опасаясь репрессий и повторного обыска.
«ВЧК — ГПУ — ОГПУ — НКВД — НКГБ — МГБ — МВД — КГБ»… — сверху на тонкой папке. «Совершенно секретно».
И ниже — «Дело по Секретному отделу ОГПУ. Письмо драматурга М. Булгакова (автора пьесы „Дни Турбиных“), адресованное Правительству СССР об ограждении его от необоснованных критических нападок печати и о помощи в устройстве на работу».
«Начато — апрель 1930 г. Окончено — апрель 1930 г. Срок хранения — постоянный».
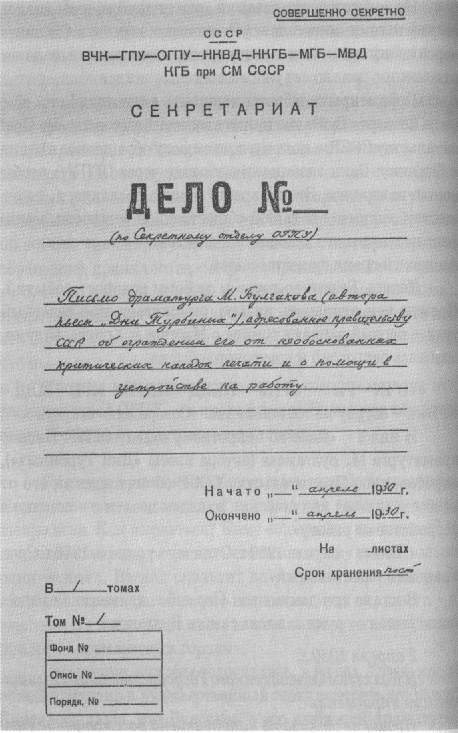
Обложка дела по Секретному отделу ОГПУ М. А. Булгакова.
1930.
В папке три документа. Первый — неизвестная ранее, написанная от руки записка самого Булгакова:
2 Апреля 1930 г.
В Коллегию Объединенного Государственного Политического Управления.
Прошу не отказать направить на рассмотрение Правительства СССР мое письмо от 28 марта 1930 г., прилагаемое при этом.
М. Булгаков.
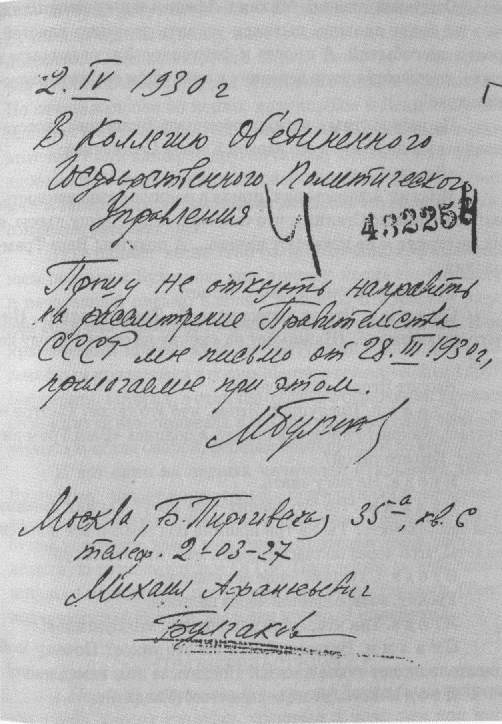
Заявление М. А. Булгакова в Коллегию ОГПУ.
2 Апреля 1930 года.
Отправив письмо, Михаил Афанасьевич размышлял, что же будет дальше, пытался угадать реакцию властей, развитие событий. А иногда и фантазировал, разыгрывал свою, художественную версию — в присущем ему сатирическом духе…
Из невероятных устных рассказов Булгакова, восстановленных по памяти его вдовой Еленой Сергеевной:
«Будто бы.
Михаил Афанасьевич, придя в полную безнадежность, написал письмо Сталину, что так, мол, и так, пишу пьесы, а их не ставят и не печатают ничего… А подпись: Ваш Трампазлин.
Сталин получает письмо, читает.
Сталин. Что за штука такая?.. Трам-па-злин… Ничего не понимаю!.. (Нажимает на кнопку на столе.) Ягоду ко мне!
Входит Ягода, отдает честь.
Сталин. Послушай, Ягода, что это такое? Смотри — письмо. Какой-то писатель пишет, а подпись „Ваш Трам-пазлин“. Кто это такой?
Ягода. Не могу знать.
Сталин. Что это значит — не могу? Ты как смеешь мне так отвечать? Ты на три аршина под землей все должен видеть! Чтоб через полчаса сказать мне, кто это такой!
Ягода. Слушаю, ваше величество!
Уходит, возвращается через полчаса.
Ягода. Так что, ваше величество, это Булгаков!
Сталин. Булгаков? Что же это такое? Почему мой писатель пишет такое письмо? Послать за ним немедленно!
Ягода. Есть, ваше величество! (Уходит.)».
Теперь попытаемся представить, как все было в действительности — исходя из материалов секретного досье.
Второй документ в нем — то самое знаменитое письмо Булгакова правительству, напечатанное на машинке, с его подписью. Содержание этого письма известно — оно уже не раз публиковалось, а перед этим долго ходило в самиздате. Но печаталось оно по копии, хранящейся в Ленинской библиотеке. Никто не знал, был ли отослан Булгаковым именно этот текст или какой-то другой самому Сталину или другим адресатам. У меня в руках впервые оказался оригинал письма — и теперь, спустя шестьдесят лет после его написания, все сомнения рассеивались.
Но в папке — весна 1930-го. И об отчаянном, вызывающем послании Булгакова еще никому, кроме самого автора и печатавшей письмо Елены Сергеевны Шиловской (через два года она станет его женой), ничего не известно. В тот критический момент крах литературный совпал для него с семейным кризисом, и в жизнь Мастера вошел «тайный друг», Маргарита, которая, в отличие от своего отражения в романе, не покинула его, привезла в его дом на Пироговку свой «Ундервуд» и стала опорой, верным помощником во всех делах.
И вот один из первых читателей открывает письмо Булгакова, читает внимательно, подчеркивая и отчеркивая важные для него строчки. Этот читатель — Генрих Ягода. Не будем повторять здесь весь текст, приведем лишь часть, выделенную руководителем ОГПУ. Проследим за действиями жирного карандаша, прочитаем письмо его глазами. (Текст, подчеркнутый Ягодой, выделен жирным шрифтом.).
ПРАВИТЕЛЬСТВУ СССР.
…После того, как все мои произведения были запрещены, среди многих граждан, которым я известен как писатель, стали раздаваться голоса, подающие мне один и тот же совет:
Сочинить «коммунистическую пьесу» (в кавычках я привожу цитаты), а кроме того, обратиться к Правительству СССР с покаянным письмом, содержащим в себе отказ от прежних моих взглядов, высказанных мною в литературных произведениях, и уверения в том, что отныне я буду работать, как преданный идее коммунизма писатель-попутчик.
Цель: спастись от гонений, нищеты и неизбежной гибели в финале.
Этого совета я не послушался…
Созревшее во мне желание прекратить мои писательские мучения заставляет меня обратиться к Правительству СССР с письмом правдивым…
Моя цель — гораздо серьезнее.
Я доказываю с документами в руках, что вся пресса СССР, а с нею вместе и все учреждения, которым поручен контроль репертуара, в течение всех лет моей литературной работы единодушно и с НЕОБЫКНОВЕННОЙ ЯРОСТЬЮ доказывали, что произведения Михаила Булгакова в СССР не могут существовать.
И я заявляю, что пресса СССР СОВЕРШЕННО ПРАВА…
Отправной точкой этого письма для меня послужит мой памфлет «Багровый остров»… Я не берусь судить, насколько моя пьеса остроумна, но я сознаюсь в том, что в пьесе действительно встает зловещая тень и это тень Главного Репертуарного Комитета. Это он воспитывает илотов, панегиристов и запуганных «услужающих». Это он убивает творческую мысль. Он губит советскую драматургию и погубит ее…
Но когда германская печать пишет, что «Багровый остров» — это «первый в СССР призыв к свободе печати»… она пишет правду. Я в этом сознаюсь. Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти она ни существовала, мой писательский долг, так же как и призывы к свободе печати. Я горячий поклонник этой свободы и полагаю, что, если кто-нибудь из писателей задумал бы доказывать, что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично уверяющей, что ей не нужна вода…
ВСЯКИЙ САТИРИК В СССР ПОСЯГАЕТ НА СОВЕТСКИЙ СТРОЙ.
Мыслим ли я в СССР?..
Я прошу принять во внимание, что невозможность писать равносильна для меня погребению заживо…
Я ПРОШУ ПРАВИТЕЛЬСТВО СССР ПРИКАЗАТЬ МНЕ В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ ПОКИНУТЬ ПРЕДЕЛЫ СССР В СОПРОВОЖДЕНИИ МОЕЙ ЖЕНЫ ЛЮБОВИ ЕВГЕНЬЕВНЫ БУЛГАКОВОЙ.
Я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя, в отечестве, великодушно отпустить на свободу…
Если же и то, что я написал, неубедительно и меня обрекут на пожизненное молчание в СССР, я прошу Советское Правительство дать мне работу…
Я предлагаю СССР совершенно честного, без всякой тени вредительства, специалиста — режиссера и актера, который берется добросовестно ставить любую пьесу, начиная с шекспировских пьес и кончая вплоть до пьес сегодняшнего дня…
Если же и это невозможно, я прошу Советское Правительство поступить со мной, как оно найдет нужным, но как-нибудь поступить, потому что у меня, драматурга, написавшего 5 пьес, известного в СССР и за границей, налицо, В ДАННЫЙ МОМЕНТ, — нищета, улица и гибель…
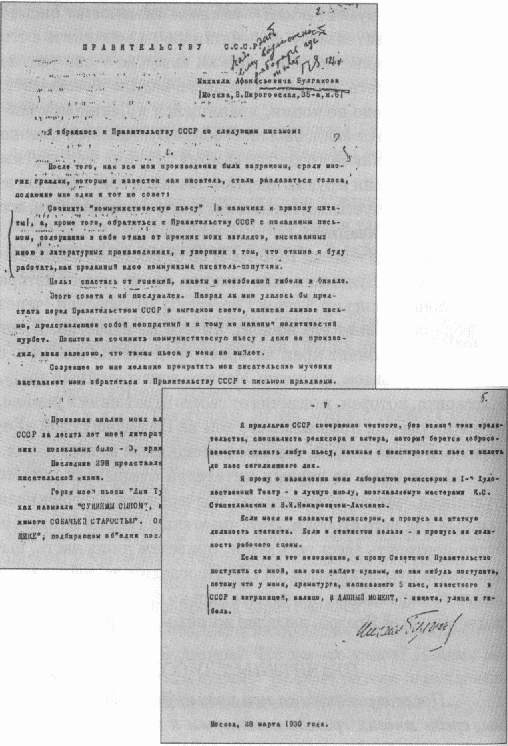
Письмо М. А. Булгакова Правительству СССР.
28 Марта 1930 года.
Причина письма ясна — общественная травля Булгакова, равносильная гражданской смерти его как писателя. Это самый драматический узел его биографии, развязать — или разрубить — может только Сталин. Выхода нет — и Булгаков вступает в диалог с вождем.
И что тоже вполне понятно — письмо это не только о возможности существования в советской стране писателя Булгакова, но и всякого истинного, независимого художника. Булгаков защищает не одного себя, он отстаивает в принципе право писателя на жизнь и свободу выражения. Так что это не просто личное послание, а демонстрация, общественный вызов. И ответная реакция неминуемо должна стать не простым, житейским, а общественным жестом, принципиально важным для литературы фактом.
Автор письма имеет основания рассчитывать на ответ: всем известно особое, пристальное внимание Сталина к нему — вождь давал понять, что считает Булгакова едва ли не самым, а может, и самым талантливым и значительным драматургом страны. Этот сталинский прицел сохранится на всю жизнь — вспомним, что «Дни Турбиных» вождь смотрел пятнадцать раз (!) (зафиксировано в канцелярии МХАТа). Одобрительные аплодисменты из правительственной ложи слышит вся Москва.
Но Булгакову мало аплодисментов — теперь он приглашает Сталина на прямой разговор, начинает опасный спектакль, переносит действие с подмостков сцены — в жизнь.
Вызов брошен — каким же будет ответ?
Оглушительный звонок.
Версия Булгакова:
«Будто бы…
Мотоциклетка — дззз!!! И уже в Кремле! Миша входит в зал, а там сидят Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович, Микоян, Ягода.
Миша останавливается в дверях, отвешивает поклон.
Сталин. Что это такое? Почему босой?
Булгаков (разводя горестно руками). Да что уж… нет у меня сапог…
Сталин. Что такое? Мой писатель без сапог? Что за безобразие! Ягода, снимай сапоги, дай ему!
Ягода снимает сапоги, с отвращением дает Мише. Миша пробует натянуть — неудобно!
Булгаков. Не подходят они мне…
Сталин. Что у тебя за ноги, Ягода, не понимаю!..
Наконец сапоги Молотова влезают на ноги Мише.
Сталин. Ну, вот так! Хорошо. Теперь скажи мне, что с тобой такое? Почему ты мне такое письмо написал?..».
Что же случилось в жизни — по секретному досье?
Судьба Булгакова была решена через полмесяца после написания письма. Любого пассажа из отмеченных Ягодой хватило бы, чтобы переселить Булгакова на Лубянку. Однако произошло иное. Подчеркнув жирно фамилию писателя, Генрих Григорьевич наносит над ней резолюцию: «Надо дать возможность работать, где он хочет. Г. Я. 12 апреля».
Конечно же, руководитель ОГПУ единолично, без разговора со Сталиным, не мог вынести такое решение — ведь послание-то адресовано правительству, да и знал он об особом отношении вождя к Булгакову. И сам стиль резолюции очень уж напоминает сталинский…
Вызов был принят — ответ подготовлен, несмотря на всю фантастическую дерзость Булгакова — положительный. Это был жест на примирение. А вот почему — станет ясно дальше, после прочтения еще одного документа из секретного досье.
Третий документ в папке — отзыв-донесение в ОГПУ под названием «Письмо М. А. Булгакова». Даты нет, автор неизвестен, но, судя по тексту, это лицо, близкое к литературным и театральным кругам. Писал ли он свое сочинение по прямому заданию ОГПУ или добровольно, остается только гадать. Видно, однако, что этот человек не был близок самому Булгакову, а пользовался услугами информагентства «Как говорят», то есть пересказывал чужие мнения.
ПИСЬМО МЛ. БУЛГАКОВА.
В литературных и интеллигентских кругах очень много разговоров по поводу письма Булгакова.
Как говорят, дело обстояло следующим образом.
Когда положение Булгакова стало нестерпимым (почему стало нестерпимым, об этом будет сказано ниже), Булгаков в порыве отчаяния написал три письма одинакового содержания, адресованные на имя товарища И. В. Сталина, Ф. Кона (в Главискусство) и в ОГПУ.
В этих письмах со свойственной ему едкостью и ядовитостью Булгаков писал, что он уже работает в советской прессе ряд лет, что он имеет несколько пьес и около 400 газетных рецензий, из которых 398 ругательных и граничащих с травлей и с призывом чуть ли не физического его уничтожения. Эта травля сделала из него какого-то зачумленного, от которого стали бегать не только театры, но и редакторы и даже представители тех учреждений, где он хотел устроиться на службу. Создалось совершенно нестерпимое положение не только в моральном, но и чисто в материальном отношении, граничащее с нищетой. Булгаков просил или отпустить его с семьей за границу, или дать ему возможность работать.
Феликс Кон, получив это письмо, написал резолюцию: «Ввиду недопустимого тона, оставить письмо без рассмотрения…».
Прервем здесь рассказ информатора ОГПУ, чтобы проследить развитие сюжета, дальнейший ход событий.
По Булгакову:
«Будто бы…
Сталин.…Теперь скажи мне, что с тобой такое? Почему ты мне такое письмо написал?
Булгаков. Да что уж!.. Пишу, пишу пьесы, а толку никакого!.. Вот сейчас, например, лежит в МХАТе пьеса, а они не ставят, денег не платят…
Сталин. Вот как! Ну, подожди, сейчас! Подожди минутку.
Звонит по телефону.
Сталин. Художественный театр, да? Сталин говорит. Позовите мне Константина Сергеевича[76] (Пауза.) Что? Умер? Когда? Сейчас? (Мише.) Понимаешь, умер, когда сказали ему.
Миша тяжко вздыхает.
Сталин. Ну, подожди, подожди, не вздыхай.
Звонит опять.
Сталин. Художественный театр, да? Сталин говорит. Позовите мне Немировича-Данченко. (Пауза.) Что? Умер?! Тоже умер? Когда?.. Понимаешь, тоже сейчас умер. Ну, ничего, подожди.
Звонит.
Сталин. Позовите тогда кого-нибудь еще! Кто говорит? Егоров[77]? Так вот, товарищ Егоров, у вас в театре пьеса лежит (косится на Мишу), писателя Булгакова пьеса. Что? По-вашему, тоже хорошая? И вы собираетесь ее поставить? А когда вы думаете?
Прикрывает трубку рукой, спрашивает у Миши: ты когда хочешь?
Булгаков. Господи! Да хыть бы годика через три!
Сталин. Ээх!.. (Егорову.) Я не люблю вмешиваться в театральные дела, но мне кажется, что вы (подмигивает Мише) могли бы ее поставить… месяца через три… Что? Через три недели? Ну что ж, это хорошо. А сколько вы думаете платить за нее?..
Прикрывает трубку рукой, спрашивает у Миши: ты сколько хочешь?
Булгаков. Тхх… да мне бы… ну хыть бы рубликов пятьсот!
Сталин. Аайй!.. (Егорову.) Я, конечно, не специалист в финансовых делах, но мне кажется, что за такую пьесу надо заплатить тысяч пятьдесят. Что? Шестьдесят? Ну что ж, платите, платите! (Мише.) Ну, вот видишь, а ты говорил…».
Мы уже знаем, что Сталин — Ягода, несмотря на «недопустимый тон» письма Булгакова, не оставили его без рассмотрения. 12 апреля писателю разрешили жить и работать.
А через два дня оглушительно, на всю страну прогремел самоубийственный выстрел Маяковского. Еще одна трагическая демонстрация, еще один вызов счастливой жизни, устроенной вождем! И, может быть, по прихоти рока именно этот выстрел поторопил Сталина, заставил его обратить на Булгакова снисходительное внимание. Требовалось успокоить публику. Сталин делает новый, хорошо рассчитанный шаг, «движение на сближение», как говорят на Кавказе.
Слово — безымянному информатору ОГПУ:
Проходит несколько дней, в квартире Булгакова раздается телефонный звонок.
— Вы товарищ Булгаков?
— Да.
— С вами будет сейчас говорить товарищ Сталин (!).
Булгаков был в полной уверенности, что это мистификация, но стал ждать.
Через 2–3 минуты он услышал в телефоне голос:
— Я извиняюсь, товарищ Булгаков, что не мог быстро ответить на ваше письмо, но я очень занят. Ваше письмо меня очень заинтересовало. Мне хотелось бы с вами переговорить лично. Я не знаю, когда это можно сделать, так как, повторяю, я крайне загружен, но я вас извещу, когда смогу принять. Но во всяком случае постараемся для вас что-нибудь сделать.
Булгаков по окончании разговора сейчас же позвонил в Кремль, сказав, что ему сейчас только что звонил кто-то из Кремля, который назвал себя Сталиным.
Булгакову сказали, что это был действительно товарищ Сталин. Булгаков был страшно потрясен.
Через некоторое время, чуть ли не в этот же день, Булгаков получил приглашение от Ф. Кона пожаловать в Главискусство. Ф. Кон встретил Булгакова с чрезвычайной предупредительностью, предложив стул и т. п.
— Что такое? Что вы задумали, Михаил Афанасьевич, как же все это так может быть, что вы хотите?
— Я бы хотел, чтоб вы меня отпустили за границу.
— Что вы, что вы, Михаил Афанасьевич, об этом и речи быть не может, мы вас так ценим… — и т. п.
— Ну, тогда дайте мне хоть возможность работать, служить, вообще что-нибудь делать.
— Ну а что вы хотите, что вы можете делать?
— Да все что угодно, могу быть конторщиком, писцом, быть режиссером, могу…
— А в каком театре вы хотели бы быть режиссером?
— По правде говоря, лучшим и близким мне театром я считаю Художественный. Вот там бы я с удовольствием.
— Хорошо, мы об этом подумаем.
На этом разговор с Ф. Коном был кончен.
Вскоре Булгаков получил приглашение явиться во МХАТ, где уже был напечатан договор с ним как с режиссером…
Можно заметить, что донесение это составлено весьма лукаво: оно одновременно полно и уважения к Булгакову, и неприкрытой лести к Сталину, к тому же в нем не названо ни одной конкретной фамилии из тех, «кто говорит». Такое мог написать человек, который хотел бы отвлечь внимание от серьезности поединка Булгакова с властью, от самого содержания его письма и «замазать» всю эту историю, обратив ее в удобную легенду о мудром правителе, окруженном зловредными слугами. Очень типично для атмосферы того времени!
Нам, однако, документ интересен и ценен как еще одна версия, еще один черновик исторической сцены — Мастер и Вождь. Рассказ этот о нашумевшей телефонной встрече достоверен, он подтверждается свидетельством двух женщин, стоявших около Булгакова в то время, — Елены Сергеевны и Любови Евгеньевны. Нет только в диалоге Сталина с писателем ни слова о просьбе последнего уехать за границу — это не соответствовало бы радужной картинке.
Документ доказывает, что Сталин действовал точно и хитро. Жесты его были совершенно определенно нацелены на одно — на создание мифа о себе как о великодушном и мудром правителе, покровителе искусств.
Вернемся к донесению:
Вот и вся история, как все говорят, похожая на красивую легенду, сказку и которая многим кажется просто невероятной.
Необходимо отметить те разговоры, которые идут про Сталина сейчас в литературных интеллигентских кругах.
Такое впечатление — словно прорвалась плотина, и все вокруг увидали подлинное лицо тов. Сталина.
Ведь не было, кажется, имени, вокруг которого не сплелось больше всего злобы, мнения как о фанатике, который ведет к гибели страну, которого считают виновником всех наших несчастий и т. п., как о каком-то кровожадном существе, сидящем за стенами Кремля.
Сейчас разговор:
— А ведь Сталин действительно крупный человек и, представьте, простой, доступный.
Один из артистов Театра Вахтангова… говорил:
— Сталин раза два был на «Зойкиной квартире». Говорил с акцентом: «Хорошая пьеса. Не понимаю, совсем не понимаю, за что ее то разрешают, то запрещают. Хорошая пьеса. Ничего дурного не вижу».
Рассказывают про встречи с ним, когда он был не то Наркомнацем, не то Наркомом РКИ[78]: совершенно был простой человек, без всякого чванства, говорил со всеми, как с равными. Никогда не было никакой кичливости.
А главное, говорят о том, что Сталин совсем ни при чем в разрухе. Он ведет правильную линию, но кругом него сволочь. Эта сволочь и затравила Булгакова, одного из самых талантливых советских писателей. На травле Булгакова делали карьеру разные литературные негодяи, и теперь Сталин дал им щелчок по носу.
Нужно сказать, что популярность Сталина приняла просто необычайную форму. О нем говорят тепло и любовно, пересказывая на разные лады легендарную историю с письмом Булгакова.
Захлопнем секретную папку.
Итак, хеппи-энд, счастливая развязка.
Версия Булгакова:
«Будто бы…
После чего начинается такая жизнь, что Сталин прямо не может без Миши жить — все вместе и вместе. Но как-то Миша приходит и говорит:
Булгаков. Мне в Киев надыть бы поехать недельки бы на три.
Сталин. Ну вот видишь, какой ты друг? А я как же?
Но Миша уезжает все-таки. Сталин в одиночестве тоскует без него.
Сталин. Эх, Михо, Михо!.. Уехал. Нет моего Михо! Что же мне делать, такая скука, просто ужас!.. В театр, что ли, сходить?..».
Эта идиллия, конечно, только пародировала действительность. На самом деле все было, как говорят, с точностью до наоборот. Поединок продолжался.
Кто же победил в нем, Булгаков или Сталин? Никто? Или оба?
Вождь сумел обмануть свое время. Булгаков получил право жить и написать лучшую свою вещь — «Мастера и Маргариту».
После разговора со Сталиным писатель был принят во МХАТ режиссером-ассистентом, возобновились постановки «Дней Турбиных», так что он мог заработать себе кусок хлеба. Но не шли все другие его пьесы, а печатать его стали только посмертно и после того, как Сталин сошел со сцены.
Тысячу раз повторяя в памяти свой разговор со Сталиным, Булгаков будет сокрушаться, что сплоховал, растерялся, застигнутый врасплох голосом с вершины власти.
— Что, может быть, вам действительно нужно ехать за границу, мы вам очень надоели? — спросил тогда Сталин, по версии уже не информатора ОГПУ, а жены писателя.
И Булгаков, вместо того чтобы подтвердить свою просьбу, вдруг сказал:
— Я очень много думал над этим, и я понял, что русский писатель вне родины существовать не может…
— Я тоже так думаю, — удовлетворенно подытожил Сталин. — Нам бы нужно встретиться, поговорить с вами…
— Да, да! Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с вами поговорить.
— Да, нужно найти время и встретиться, обязательно. А теперь желаю вам всего хорошего.
Выбор был сделан. Вождь продемонстрировал внимание к литературе и трогательную заботу о писательской судьбе. Булгаков получил вместо заграницы работу на родине — должность режиссера-ассистента в Художественном театре.
Потом он будет проигрывать множество других возможных вариантов этого разговора, проклинать себя за робость, за малодушие, сочтет свой ответ одной из главных ошибок в жизни — все напрасно, шанс был единственный и больше не повторится. И как знать, может быть, зря он сокрушался: подсознание неожиданно для него самого подсказало ему как раз правильное, спасительное решение — еще неизвестно, что сделал бы с ним Сталин, ответь он по-иному. Ведь жизнь Булгакова, как и миллионов других подданных советской державы, была всецело в руках его собеседника. И порхать булгаковской душе было предписано только в пределах этой державы.
По Москве ползали слухи, диалог Сталина со скандальным писателем обсуждался на все лады, постепенно превращаясь в легенду. И все версии оседали в лубянском досье.
Так, в одной агентурной записке говорилось:
…Булгаков по натуре замкнут… Ни с кем из советских писателей он не дружит… Характер у него настойчивый и прямой…
Приводят интересный случай с его карьерой. Когда запретили «Дни Турбиных», не стали печатать его трудов, он написал письмо в ЦК товарищу Сталину, примерно такого содержания:
«Дорогой Иосиф Виссарионович!..
Я писатель, и мои произведения не печатают, пишу пьесы — их не ставят. Разрешите мне выехать из СССР, и я даю слово, что никогда против СССР — моей родины — не выступлю, иначе Вы всегда сумеете меня моим письмом разоблачить как проходимца-подлеца!».
Через несколько дней он был вызван в Кремль и имел беседу со Сталиным, после чего он получил работу в Первый МХАТ литератором-режиссером…
Элементы мифа налицо: никакого слова Сталину Булгаков не давал и встречи в Кремле не было, просто каждый информатор проигрывал эту сцену по-своему, в меру своего разумения и испорченности.
У Булгакова, так же как и у Маяковского, был револьвер. И он, по воспоминаниям жены писателя Елены Сергеевны, после разговора со Сталиным бросил эту опасную вещицу в пруд у Ново-Девичьего монастыря — от греха подальше. Решил, в отличие от Маяковского, жить.
По намыленному столбу.
Ажиотаж вокруг случившегося не утихал долго. Летом, когда писатель уехал в Крым и засел за работу — инсценировку «Мертвых душ» Гоголя, — вдруг пришел вызов в ЦК партии, весьма подозрительного вида. И хорошо, что Булгаков ему не поверил. Это был «дружеский розыгрыш» Юрия Олеши. Трагедия одного писателя стала для другого лишь поводом к неуместной хохме.
А Булгакову было вовсе не до шуток. Вакуум вокруг него, как вокруг прокаженного, все разрастался. Истинные, надежные друзья исчезали. Осенью арестовали и выслали из Москвы еще одного очень близкого ему человека — филолога Павла Попова[79]. Да и положение его самого после разговора со Сталиным мало изменилось. Разве что определили на службу, дали прожиточный минимум. Как был, так и остался опальным автором, и сцена и печать были для него закрыты.
Он еще не закончил свои «Мертвые души», а враги уже вели подкоп под пьесу, готовили исподволь ее провал. Едва в печати мелькнуло известие о том, что Художественный театр собирается ставить «Мертвые души», как Секретно-политический отдел ОГПУ получил соответствующий предостерегающий сигнал и направил его высшему начальству:
…Булгаков известен как автор ярко выраженных антисоветских пьес, которые под давлением советской общественности были сняты с репертуара московских театров. Через некоторое время после этого советское правительство дало возможность Булгакову существовать, назначив его в Художественный театр в качестве помощника режиссера. Это назначение говорило за то, что советское правительство проявляет максимум внимания к своим идеологическим противникам, если они имеют культурный вес и выражают желание честно работать.
Но давать руководящую роль в постановке, особенно такой вещи, как «Мертвые души», Булгакову весьма неосмотрительно. Здесь надо иметь в виду то обстоятельство, что существует целый ряд писателей (Пильняк, Большаков, Буданцев и др.), которые и в разговорах, и в своих произведениях стараются обосновать положение, что наша эпоха является чуть ли не кривым зеркалом Николаевской эпохи 1825–1855 годов. Развивая и углубляя свою абсурдную мысль, они тем не менее имеют сторонников среди части индивидуалистически настроенной советской интеллигенции.
Булгаков несомненно принадлежит к этой категории людей, и поэтому можно без всякого риска ошибиться сделать предсказание, что все силы своего таланта он направит к тому, чтобы в «Мертвых душах» под тем или иным соусом протащить все то, что когда-то протаскивал в своих собственных пьесах. Ни для кого не является секретом, что любую из классических пьес можно, даже не исправляя текста, преподнести публике в различном виде и в различном освещении.
И у меня является опасение, что Булгаков из «Мертвых душ», если он останется в числе руководителей постановки, сделает спектакль внешне, может быть, очень интересный, но по духу, по существу враждебный советскому обществу.
Об этих соображениях я считаю нужным сообщить Вам для того, чтобы Вы могли заранее принять необходимые предупредительные меры.
Меры были приняты: «Мертвые души» не увидели сцены ни в этом, ни в следующем, ни в послеследующем сезоне. Свое состояние в канун нового, 1931 года Булгаков выразил в стихотворном наброске, недвусмысленно названном «Funeraille» («Похороны»):
«Подпольные крысы» — не просто поэтический оборот, а те вполне реальные гепеуховы и их вожаки с Лубянки, которые стерегли и травили его всю жизнь и от «свиста» которых могла избавить одна только смерть.
Что он постоянно живет под их жадным, зловещим надзором, для Булгакова давно не секрет. Как и то, что его переписку читает кто-то еще, кроме адресатов. Создается впечатление, что он начинает намеренно вносить в свои письма кое-какие ловкие обороты (например, брату за границу), рассчитанные именно на такой посторонний взгляд, чтобы повлиять на события в свою пользу. А порой с неистребимой фантазией комедиографа даже дурачит своих соглядатаев, сочиняет целые истории, устраивает настоящие мистификации в жанре черного юмора.
Иначе не объяснишь, например, такое сообщение, поступившее от «источника», со слов литератора Лернера, начальнику СПО ОГПУ Агранову[80]:
Лернер рассказывал Вашему источнику, что Булгакову определенно зажимают глотку. И он уже сам знает, — что бы он ни написал, его не напечатают.
Тогда Булгаков пошел на хитрость.
Он представил новую пьесу «Блин», будто бы написанную каким-то рабочим. Все шло как по маслу, и пьеса прошла уже все инстанции и мытарства.
Но… Булгаков в самый критический момент проговорился об этом, поднялась буча, и пьеса была провалена…
Откуда взялась эта умопомрачительная история, вполне в духе булгаковских рассказов, не известная ни одному его биографу и явно пародирующая его истинную ситуацию? Похоже, без участия самого Михаила Афанасьевича тут не обошлось. Слегка пофантазировал, пошутил где-нибудь в писательской компании, а там пойдет само, можете не сомневаться, донесут куда следует. Кушайте мой «Блин» на здоровье! Вы не пускаете мои пьесы на сцену, ну что ж, я буду ставить их в жизни, с вашим участием!
В мае 1931 года Булгаков делает еще одну попытку докричаться до Сталина — направляет ему просьбу о заграничном отпуске. В черновом варианте начинает с того, что просит вождя быть первым своим читателем (вспоминается николаевская эпоха, когда сам Царь стал цензором новых произведений Пушкина), но отбрасывает этот пассаж — слишком опасная аналогия. И пишет заново. Он откровенно называет себя одиноким волком на широком поле советской словесности, волком, который ныне вконец затравлен и прикончен. Ему, Булгакову, «привита психология заключенного». Вывод: «Мне нужно видеть свет и, увидев его, вернуться. Ключ в этом». «Неужели я до конца моей жизни не увижу других стран?» Он напоминает Сталину его же собственную фразу, сказанную по телефону: «Может быть, вам действительно нужно ехать за границу?..».
Другими словами, одинокий, затравленный волк просится погулять в лес, чтобы отдышаться, прийти в себя — до осени…
И в конце свое, ставшее уже идеей-фикс, желание — встретиться, лично поговорить, как того предлагал Сталин: «Писательское мое мечтание заключается в том, чтобы быть вызванным лично к Вам…».
В ответ — гробовое молчание. И чем дольше оно длится, тем все сильнее Булгаковым овладевает беспокойство, переходящее в отчаянье. Теперь он уже действительно серьезно болен — нервное переутомление, неврастения, с припадками бессилия, страха и тоски, вплоть до того, что он уже не может выйти на улицу.
Его неотступно гнетут исступленные мысли о встрече с генсеком и о загранице — желание переупрямить, преодолеть судьбу. Ведь говорил же Сталин, говорил: «Нужно найти время и встретиться»! Ведь говорил же: «Может, вам действительно нужно ехать за границу?».
Ведь было все это! Не галлюцинация же! Почему теперь молчит? Остается только шаг, один шаг — увидеть его и узнать судьбу!..
А ведь что ему стоит — только дать телеграмму: «Отправить завтра…» И все. И потоки солнца над Парижем…
Ответа не было.
Старый опытный Вересаев, которому Булгаков написал обо всем, открыл душу, советует: не мучайтесь безумными надеждами, ну представьте, объявили человеку: «У вас не может быть детей…».
А тут еще внезапная новость — Евгений Замятин получил разрешение уехать за границу. Тоже после письма Сталину. Чем взял? Тем, что Горький ему помогал? Или написал лучше?
Так, в бессильном метании, в угасании надежд, прошел этот год.
А в начале следующего, 1932-го вдруг забрезжил свет. Случилось это после того, как Сталин в очередной раз осчастливил Художественный театр своим посещением. Посмотрев спектакль и расслабившись, спросил между прочим:
— А что это «Дней Турбиных» у вас не видно?
Гром среди ясного неба! И завертелось…
Сводка Секретного отдела ОГПУ № 181:
21 Января 1932 года во Всероскомдрам[81] зашел Булгаков. На вопрос о разрешении постановки его пьесы сказал: «Я потрясен. Сейчас буду работать так, как и раньше. В настоящее время я утром работаю над „Мольером“, днем над „Мертвыми душами“, а вечерами над переделкой „Дней Турбиных“. Играть в пьесе буду я сам, так как со мной могут выкинуть какой-нибудь новый фортель, и я хочу иметь твердую профессию».
«Актера» — добавляет для ясности «источник».
Булгаков не лукавил, когда говорил, что впрягся сразу в три упряжки. И что сделался актером — тоже правда, хотя собирался играть не в «Днях Турбиных», а в «Пиквикском клубе», по Диккенсу, — роль судьи. И вскоре сыграл — совершенно блестяще!
Он отдался на волю судьбы, вернее, вошел в русло большой работы. Кроме прозаической книги о Мольере и доработки «Мертвых душ» (получено разрешение и на эту постановку) заканчивал новую пьесу — «Адам и Ева» и там выдернул наконец из себя язвящее жало социального вожделения заключительным пассажем, обращенным к одному из героев: «Ты никогда не поймешь тех, кто организует человечество… Иди, тебя хочет видеть генеральный секретарь!».
Пусть этот персонаж вместо него отправляется к генсеку. С автора хватит! Место автора — за кулисами. Автору некогда, он захвачен романом о Мастере и Христе, погубленном было собственными руками, воскрешает его из пепла, пишет заново.
Между тем неистощимая на выдумки жизнь затевает с ним еще один сюжет: посылает навстречу ему нового персонажа, имя которого рифмуется с ОГПУ, — Бенабу, господина Сиднея Бенабу. Дело пахнет шпионажем…
В Секретно-политический отдел ОГПУ летит служебная записка из Особого отдела:
Секретно.
В Москве проживает прибывший по делам Главконцескома[82] британский подданный Бенабу Сидней, являющийся, по нашим данным, агентом «Интеллидженс сервис».
В последних числах марта с.г. Бенабу устроил у себя вечер в честь приглашенного им драматурга Булгакова. О проведенном в присутствии Булгакова вечере Бенабу старается никому не говорить, предупреждая об этом и своих знакомых.
Просьба сообщить, имеются ли у вас какие-либо компрометирующие сведения о Булгакове, его связях и окружении, а также не является ли он вашим секретным сотрудником.
Лихой поворот темы! Как жаль, что сам Булгаков ничего об этом не знает, — должно быть, не упустил бы случая развить сюжет, потешиться. Одни подписи под документом чего стоят — Правдин и Чертов!
Увы, на этом архивный сюжет обрывается, остается неизвестным, что ответствовал в Особый отдел отдел Секретно-политический.
Зато жизнь дарит Булгакову еще одну встречу с иностранцем. И не с кем иным, как с самим Эдуаром Эррио, экс-премьером Франции, симпатизирующим СССР. Об этом со слов мужа рассказала Елена Сергеевна Булгакова в своем дневнике.
Художественный театр. Дают «Дни Турбиных». В первом ряду партера — высокие гости во главе с Эррио. Он в восторге от спектакля. В антракте зовут автора. Поздравления. И вдруг неожиданный вопрос:
— Были ли вы когда-нибудь за границей?
— Никогда.
— Но почему?
— Нужно приглашение, а также разрешение советского правительства.
— Так я вас приглашаю!..
Звонки прерывают разговор. Спектакль продолжается.
А на дворе своя, суровая действительность: арестован еще один близкий друг Булгакова, драматург Николай Эрдман[83]. «Ночью М.А. сжег часть своего романа», — записывает Елена Сергеевна. Сейчас Булгакова если бы куда и послали, то совсем не в ту сторону, в какую поманил его Эррио.
Знакомый партиец спросил его однажды:
— А вы не жалеете, что в вашем разговоре со Сталиным вы не сказали, что хотите уехать?
— Это я вас могу спросить, жалеть мне или нет. Если вы говорите, что писатели немеют на чужбине, то мне не все ли равно, где быть немым — на родине или на чужбине?
Другой коммунист, дальний родственник Михаила Афанасьевича, сказал на ту же тему иначе:
— Послать бы на Днепрострой, да не кормить, тогда бы он переродился…
— Есть еще способ — кормить селедками и не давать пить, — прокомментировал Булгаков.
В марте 1934 года Сталин вновь осчастливил своим визитом МХАТ. И опять спрашивает, между прочим, о Булгакове: как он, работает в театре? Это возрождает новые надежды — Булгаков делает еще одну попытку прорваться в большой мир, подает прошение о двухмесячной заграничной поездке вместе с женой. Просит поддержки у Горького. На этот раз можно было, казалось, рассчитывать на успех. Уже заполнили анкеты, получили заверения чиновников: дело ваше решено, есть распоряжение, скоро получите паспорта. Уже сыплются поздравления. Итак, Париж! Бонжур, господин Мольер!..
— Значит, я не арестант, — ликует Булгаков, — значит, увижу свет!
Потом — отсрочка за отсрочкой. Но вот курьер от Художественного театра покатил за паспортами, привозит целую груду — всем артистам, кто подавал заявления, всем… Булгакову — отказать…
На улице, когда они с женой вышли из театра, ему стало плохо. Добрались до ближайшей аптеки, уложили на кушетку, дали сердечные капли…
И вновь — черная полоса: нервный срыв, боязнь пространства, одиночества, смерти.
Оскорбление, обида были так велики, что не выдержал, еще раз написал Сталину, рассказав все, что случилось, прося о заступничестве.
Приводил слова чиновника: «паспорта вы получите очень скоро, так как относительно вас есть распоряжение… Вы сами понимаете, я не могу сказать, чье это распоряжение, но распоряжение относительно вас и вашей жены есть…» (выделено М. А. Булгаковым. — В.Ш.).
Ответа он, конечно, не дождался. И все же год спустя снова подал заявление на заграничную поездку — чтобы получить отказ. Надеяться больше было не на что.
И, как обычно у Булгакова, боль и беда жизни, претворившись через творчество, вытесняются на страницы рукописи. В тетради романа появляются черновые записи главы «Ночь». Мастер и Сатана-Воланд летят на черных конях над землей. Внизу сверкает огнями неведомый город. «Я никогда ничего не видел. Я провел свою жизнь заключенным. Я слеп и нищ», — говорит Мастер.
И дальше, в черновике главы «Последний путь», Воланд навсегда определяет судьбу Мастера:
«— Ты награжден… Тебя заметили, и ты получишь то, что заслужил… Я получил распоряжение. Преблагоприятное. Так вот, мне было велено… велено унести вас…».
На этом фраза обрывается.
«Уносят» в могилу… Или на небеса.
Булгаков болен каким-то нервным расстройством, — доносит на Лубянку 23 мая 1935-го секретный агент. — Он говорит, что не может даже ходить один по улицам и его провожают даже в театр, днем. Работает много, кончил «Мертвые души» для кино, «Ревизора» для кино и сейчас заканчивает пьесу для Театра сатиры. Подписал договор с Театром Вахтангова.
Два основных мотива его настроений:
«Меня страшно обидел отказ в прошлом году в визе за границу. Меня определенно травят до сих пор. Я хотел начать снова работу в литературе большой книгой заграничных очерков. Я просто боюсь выступать сейчас с советским романом или повестью. Если это будет вещь не оптимистическая — меня обвинят в том, что я держусь какой-то враждебной позиции. Если это будет вещь бодрая — меня сейчас же обвинят в приспособленчестве и не поверят. Поэтому я хотел начать с заграничной книги — она была бы тем мостом, по которому мне надо шагать в литературу. Меня не пустили. В этом я вижу недоверие ко мне, как к мелкому мошеннику.
У меня новая семья, которую я люблю. Я ехал с женой, а дети оставались здесь. Неужели бы я остался или позволил себе какое-нибудь бестактное выступление, чтобы испортить себе здесь жизнь окончательно. Я даже не верю, что это ГПУ меня не пустило. Это просто сводят со мной литературные счеты и стараются мне мелко пакостить».
Второй мотив:
«Работать в Художественном театре сейчас невозможно. Меня угнетает атмосфера, которую напустили эти два старика — Станиславский и Данченко. Они уже юродствуют от старости и презирают все, чему не двести лет. Если бы я работал в молодом театре, меня бы подтаскивали, вынимали из скорлупы, заставили бы состязаться с молодежью, а здесь все затхло, почетно и далеко от жизни. Если бы я поборол мысль, что меня преследуют, я ушел бы в другой театр, где, наверное бы, помолодел».
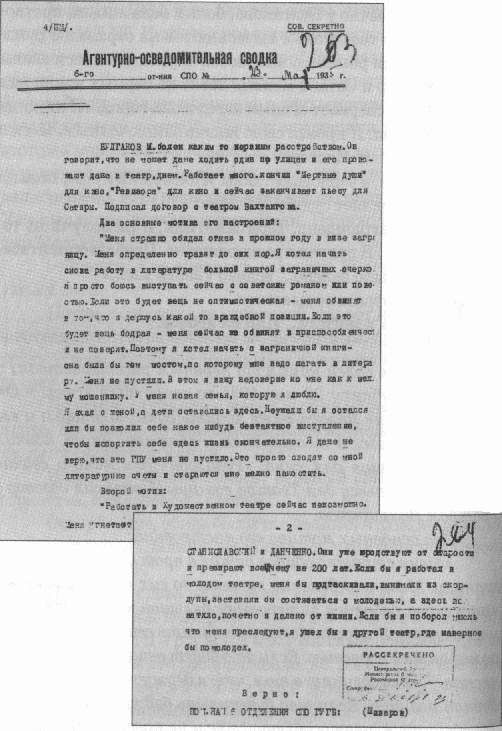
Агентурно-осведомительная сводка на М. А. Булгакова.
23 Мая 1935 года.
А преследовали его уже буквально на каждом шагу. Однажды, рассказывает Елена Сергеевна, в светлую минуту решили куда-нибудь пойти развлечься. Сели на удачу в автобус, а он возьми и остановись у ресторана «Националь» — вот туда и забрели. Вдруг навстречу — здрасьте! — шофер, который возит одного знакомого американца. Подозрительно любезен, желает приятного аппетита, предлагает после отвезти домой.
Дальше — больше.
В ресторане дикая скука, но еда вкусная. Тут входит какой-то дурно одетый молодой человек, вальяжно, как к себе домой. Заказал бутылку пива, но не пьет, уставился, не спускает с нашей парочки глаз.
— По мою душу, — сказал Михаил Афанасьевич.
Расплатились, вышли. Оглянулись: молодой человек, свесившись с лестницы, следит за ними в упор. Они — на улицу, а он, раздетый, — мимо, шепнув что-то на ухо швейцару. Должно быть, хотел зафиксировать, не уедут ли на какой-нибудь иностранной машине…
В метро хохотали: вот черт понес! Захотели съесть котлету де-воляй!
В феврале 1936 года во МХАТе наконец-то была поставлена пьеса о Мольере, с громадным успехом. Но радость была короткой. Началась привычная газетная атака. Налетели по-кавалерийски, с неодобрительными отзывами братья-писатели — Олеша, Всеволод Иванов, Афиногенов. Не прошло и месяца после премьеры, как разгром довершила «Правда» статьей «Внешний блеск и фальшивое содержание». Статья без подписи, редакционная, стало быть, выпущенная по указке или с одобрения Сталина. Автор «пытается… протащить реакционный взгляд на творчество художника как „чистое искусство“»…
— Конец «Мольеру»! — сказал Михаил Афанасьевич.
В тот же день спектакль сняли с репертуара. Нахлынули друзья, все в один голос:
— Пишите письмо самому! Оправдайтесь! Покайтесь!
В чем? Хватит с него! Не будет он больше писать!
После статьи в «Правде» и последовавшего за ней снятия с репертуара пьесы Булгакова, — изводил бумагу доносчик, — особенно усилились как разговоры на эту тему, так и растерянность. Сам М. Булгаков находится в очень подавленном состоянии, у него вновь усилилась его боязнь ходить по улице одному, хотя внешне он старается ее скрыть. Кроме огорчения от того, что его пьеса, которая репетировалась 4,5 года, снята после семи представлений, его пугает его дальнейшая судьба как писателя (снята и другая его пьеса — «Иван Васильевич», которая должна была пойти на этих днях в Театре сатиры), он боится, что театры не будут больше рисковать ставить его пьесы, в частности, уже принятую театром Вахтангова — «Александр Пушкин», и, конечно, не последнее место занимает боязнь потерять свое материальное благополучие. В разговорах о причине снятия пьесы он все время спрашивает: «Неужели это действительно плохая пьеса?» — и обсуждает отзывы о ней в газетах, совершенно не касаясь той идеи, какая в этой пьесе заключена (подавление поэта властью). Когда моя жена сказала ему, что, на его счастье, рецензенты обходят молчанием политический смысл его пьесы, он с притворной наивностью (намеренно) спросил: «А разве в „Мольере“ есть политический смысл?» — и дальше этой темы не развивал. Так же замалчивает Булгаков мои попытки уговорить его написать пьесу с безоговорочной советской позиции, хотя, по моим наблюдениям, вопрос этот для него самого уже не раз вставал, но ему не хватает какой-то решимости или толчка. В театре ему предлагали написать декларативное письмо, но это он сделать боится, видимо, считая, что это «уронит» его как независимого писателя и поставит на одну плоскость с «кающимися и подхалимствующими». Возможно, что тактичный разговор в ЦК партии мог бы побудить его сейчас отказаться от его постоянной темы (в «Багровом острове», «Мольере» и «Александре Пушкине») — противопоставления свободного творчества писателя и насилия со стороны власти, темы, которой он в большой мере обязан своему провинциализму и оторванности от большого русла текущей жизни.
Этого Гепеухова, пожалуй, можно вычислить, назвать настоящим именем. Донос датирован 14 марта. А накануне, 13-го вечером, к Булгаковым заявился гость — Эммануил Жуховицкий[84] и, как всегда, испортил настроение своими неприятными расспросами.
Этот назойливый, хлопотливый человек уже несколько лет крутился возле Булгакова и появлялся обычно вместе с иностранцами, в странной роли то ли ненадежного литературного агента, то ли переводчика, то ли просто советчика.
Булгаков не любил его, сразу начинал нервничать.
— Не то вы делаете, Михаил Афанасьевич, не то! — вразумлял Жуховицкий. — Вам бы надо с бригадой на какой-нибудь завод или на Беломорский канал. Взяли бы с собой таких молодцов, которые все равно писать не могут, зато они ваши чемоданы бы носили…
— Я не то что на Беломорский канал — в Малаховку не поеду, так я устал, — отмахивался Булгаков.
— Вы несовременный человек, Михаил Афанасьевич!
Жуховицкий исчезал, а потом неожиданно звонил с кинжальным вопросом:
— Что вам пишут из Парижа?
Или брался хлопотать за Булгаковых о разрешении в соответствующих органах на заграничную поездку. Или принимался уговаривать Михаила Афанасьевича написать заявление, что тот принимает большевизм. Он явно упивался второй своей ролью, причастностью к скрытым рычагам жизни, не просто стучал — идеологически обрабатывал:
— Вы должны высказаться, должны показать свое отношение к современности…
Михаил Афанасьевич, догадываясь, кто стоит за спиной его собеседника, откровенно предлагал:
— Сыграем вничью. Высказываться я не буду. Пусть меня оставят в покое.
О тайной миссии Жуховицкого Булгаковы не только подозревали — были в ней уверены, числили его в своем «домашнем ГПУ». В конце концов не выдержали, отлучили его от дома, но он снова влез. Почему-то пришел поздним вечером, ближе к полуночи, злой и расстроенный («Ну, ясно, потрепали его здорово в учреждении», — записала в дневнике проницательная Елена Сергеевна). И начал с угрозы, явно внушенной ему: Булгаков должен написать агитационную пьесу, иначе его «Дни Турбиных» снимут.
— Ну, я люстру продам, — усмехнулся Михаил Афанасьевич.
«Словом, полный ассортимент: расспросы, вранье, провокация», — комментирует Елена Сергеевна. Чтобы как-то от него отделаться, Булгаков ушел в свой кабинет, взял бинокль и начал разглядывать луну.
Можно было бы, вероятно, вычислить и других стукачей, но нет охоты. Кто они? Как говорил Осип Мандельштам, — «Не все ли равно. Не этот, так другой».
Работать во МХАТе, родном когда-то для Булгакова театре, где он теперь стал белой вороной, было для него уже невыносимо, и он принял другое приглашение — поступил в Большой театр на должность либреттиста.
Круг близких для него к тому времени еще больше сузился — до тех, кто помещался в свете семейного абажура. Еще весной чекисты арестовали Николая Лямина[85], филолога, знатока европейской литературы, в квартире которого Булгаков читал все свои новые сочинения и которого называл лучшим своим другом. «Уничтожь Макины письма», — шепнул Лямин жене, прощаясь. А летом в стране началось — с процесса над Каменевым и Зиновьевым — то, что получило потом название Большого террора, — массовая вакханалия арестов, кровавая мясорубка, повальная жатва смерти.
И дом давно уже не был безопасной крепостью. 7 ноября, в день Октябрьского праздника, к Булгаковым пришли какие-то гости, шел обычный разговор, но содержание его тут же легло на стол оперуполномоченного ОГПУ Шиварова в виде агентурного донесения:
— Я сейчас чиновник, которому дали ежемесячное жалованье, — говорил в этот день Булгаков, — пока еще не гонят с места, и надо этим довольствоваться. Пишу либретто для двух опер — историческое и из времени Гражданской войны. Если опера выйдет хорошая — ее запретят негласно, если выйдет плохая — ее запретят открыто. Мне все говорят о моих ошибках и никто не говорит о главной из них: еще с 29–30-го года мне надо было бросить писать вообще. Я похож на человека, который лезет по намыленному столбу только для того, чтобы его стаскивали за штаны вниз для потехи почтеннейшей публики. Меня травят так, как никого и никогда не травили: и сверху, и снизу, и с боков. Ведь мне официально не запретили ни одной пьесы, а всегда в театре появляется какой-то человек, который вдруг советует пьесу снять, и ее сразу снимают. А для того, чтобы придать этому характер объективности, натравливают на меня подставных лиц.
В истории с «Мольером» одним из таких людей был Олеша, написавший в газете МХАТа ругню. Олеша, который находится в состоянии литературного маразма, напишет все, что угодно, лишь бы его считали советским писателем, поили-кормили и дали возможность еще лишний год скрывать свою творческую пустоту.
Для меня нет никаких событий, которые бы меня сейчас интересовали и волновали. Ну, был процесс — троцкисты, ну, еще будет — ведь я же не полноправный гражданин, чтобы иметь свое суждение. Я поднадзорный, у которого нет только конвойных. Что бы ни происходило в стране, результатом всего этого будет продолжение моей травли. Об испанских событиях читал всего три-четыре раза. Мадрид возьмут, и будет резня. И опять-таки если бы я вдохновился этой темой и вздумал бы написать о ней — мне все равно бы, этого не дали.
Об Испании может писать только Афиногенов[86], любую халтуру которого будут прославлять и находить в ней идеологические высоты, а если бы я написал об Испании, то кругом закричали бы: ага, Булгаков радуется, что фашисты победили!
Если бы мне кто-нибудь прямо сказал: Булгаков, не пиши больше ничего, а займись чем-нибудь другим, ну, вспомни свою профессию доктора и лечи, и мы тебя оставим в покое, я был бы только благодарен. А может быть, я дурак и мне это уже сказали и я только не понял…
Хронологически это последний из документов лубянского досье Булгакова, которые мне удалось увидеть. Были наверняка и другие — слежка за писателем шла до конца его жизни, — но их или уничтожили, или еще не нашли. Но и этого достаточно для нашего рассказа.
Булгакову оставалось жить три года, четыре месяца и три дня. Впереди его ждал фанатичный одинокий труд, тяжкая болезнь, все искупляющая любовь жены, редкие удачи и всплески радости, новые столкновения с сильными мира сего, удары и неизбежные компромиссы.
Противостояние бесчеловечной власти, диалог со Сталиным продолжались до смертного часа и даже после — устами булгаковских героев. Когда однажды Елена Сергеевна заметила мужу по поводу какой-то рукописи:
— Опять ты про него… —
Михаил Афанасьевич ответил:
— Я его в каждую пьесу буду вставлять!..
Понятно, почему при допросе еще одного друга Булгакова, Сергея Ермолинского, следователь орал на него:
— Вы не знаете, в чем ваше преступление?! В пропаганде антисоветского, контрреволюционного, подосланного белоэмигрантской сволочью так называемого писателя Булгакова, которого вовремя прибрала смерть!..
Да, Булгакова не арестовали, но он всю жизнь прожил с ожиданием стука в дверь, «под пятой» власти. В этом его судьба похожа на судьбу многих писателей, к которым власть так или иначе все равно находила и применяла «меры пресечения» — если не арест, то другие, более изощренные способы репрессий: захват рукописей, запрет печататься и выезжать за границу (разновидность домашнего ареста), лишение заработка, а значит, и средств к существованию, — и в итоге, деформируя психику и переделывая на свой лад, ускоряла гибель. И хоть Булгаков считал, что он — не герой, чтобы остаться писателем в этих условиях, надо, увы, быть героем. Анна Ахматова в стихотворении памяти Булгакова назвала это иначе — «великолепное презренье».
В конечном же счете в поединке с Вождем победа была за Мастером, вот только отпраздновать эту победу ему не довелось.
Кажется, весь мир ополчился против художника, чтобы остановить его перо. Все голоса, зазвучавшие из лубянского досье, клеймили и осуждали.
Но был там один голос, который выбивался из хора, единственный голос «за», который в конечном счете перевесил все, голос, который не только восхищался и оправдывал, но и утверждал правоту писателя — перед лицом будущего.
Голос друга.
Зовут этого человека — Софья Сергеевна Кононович. В самый отчаянный момент в жизни Булгакова, в год 1929-й, который он сам назовет «годом катастрофы», когда были запрещены все его пьесы и он, став проклятым писателем, был подвергнут общественной травле, эта двадцативосьмилетняя женщина, писавшая стихи, — филолог, скромный библиотекарь Политехнического музея в Москве — обратилась к нему с письмом. Письмо было перлюстрировано и стало добычей ОГПУ. Имя отправителя и адрес там, разумеется, жирно подчеркнули и, вероятно, приняли надлежащие меры. Насколько мне известно, Софья Кононович впоследствии была арестована и несколько лет находилась в заключении в лагерях.
Неизвестно в точности, получил ли это многостраничное исповедальное послание Булгаков, но мы сегодня можем его прочитать. Приведу его в возможно большем объеме — оно того стоит.
Поводом для письма явилась статья о Булгакове в «Литературной энциклопедии» — официальная оценка писателя («…апофеоз белого героизма… реабилитация прошлого… не сумел понять… эпигонство… юмор дешевого газетчика…»), с волчьим билетом под конец, абсолютно в стиле ОГПУ: «Весь творческий путь Булгакова — путь классово-враждебного советской действительности человека. Булгаков — типичный выразитель тенденций „внутренней эмиграции“».
Со всем этим Софья Кононович решительно не согласилась.
Многоуважаемый Михаил Афанасьевич!
Давно хочется написать Вам, да все не могла начать… Думать о Ваших произведениях невозможно без мыслей о большом, о России и, следовательно, в конечном счете и о собственной жизни.
Вас хвалят и ругают. Есть худшее — Вас нарочито замалчивают, Вас сознательно искажают, Вас «вытерли» из всех журналов, Вам приписывают взгляды, которых у Вас нет. Последнее, впрочем, не только враги, но и почитатели. Возвращая мне «Белую гвардию», один сослуживец заметил: «Хорошая вещь, но очень ясно, по какую сторону баррикады стоит автор». Не думаю, что это было верно. Ваши произведения выше тех небольших преград, которые называются баррикадами и которые сверху кажутся такими маленькими. Не могу без сердечного движения, без трепета, не укладывающегося в мои грубые и слабые слова, вспомнить сон Алеши Турбина и эти слова: «Для меня вы все одинаковые, все в поле брани убиенные». Эти слова рождают чувство глубокой и светлой благодарности к тому, кто их написал…
Не могу похвастать хорошим знанием современной литературы. Но не думаю, что ошибусь, если скажу, что между Вами и всеми прочими писателями расстояние неизмеримое. Разумеется, главным образом шкурный страх пред большим талантом и заставляет упрекать Вас в «монархизме», «черносотенстве» и бог ведает еще в чем. Впрочем, тут есть и многие другие, быть может, еще более глубокие причины, о которых не стану распространяться…
Вообще, мне кажется, что Вас будут читать и читать, когда уже нас давным-давно не будет, и даже розовые кусты на наших могилах засохнут и погибнут, это первое, второе еще важнее. Русская литература, после великих потрясений, должна сказать свое великое и новое слово. Думается, это слово скажется или Вами, или кем-нибудь — кто пойдет по пути, Вами проложенному. Потому что манера Ваша есть нечто новое и настоящее, нечто соответствующее темпу нашего времени…
Мысль не успевает и не хочет, и не должна успевать оформить впечатление и образы; мелькая, соединяясь и скрещиваясь — они дают тот воздух, дыша которым дышишь современностью, но не ежедневной, а в художественном преломлении, чуешь и чувствуешь не только ее поверхность, но и те взволнованные волны вопросов, которые под этой поверхностью мечутся.
То, что есть в Ваших произведениях своего, кроме своей, особенной манеры, — выражаясь схематически: их содержание (в противоположность форме) тоже так разнообразно и глубоко, что я и думать не могу охватить его. Ведь я пишу не критическую статью и, следовательно, не имею права быть неискренней и повторять общие места…
К Вашим произведениям. Один из важных вопросов, ими поднимаемых, — вопрос о чести и тесно связанный с ним вопрос о силе, сильном человеке, о тех требованиях, которые в этом отношении предъявляются главным образом к мужчине, — где граница между трусостью и естественным страхом за свою жизнь? Впрочем, такая постановка вопроса по-женски пассивна. У Вас — больше: когда человек должен и может быть активен, во имя чего и как обязан он бороться? Дело тут не в «рецепте», не в указании идеала и пути к нему — дело тут в огромном вопросе, поставленном один на один самому себе, вопросе о праве на самоуважение, о праве гордо носить голову. До какой степени может дойти унижение? Ответ — в «Дьяволиаде». И последняя эта фраза — «Лучше смерть, чем позор» — новым светом озаряет весь трагикомический, фантастически-реальный путь героя, и видишь ясно, что в его унижении — гордость и в пассивности — активность (хотя бы в отказе от «удобного» выхода из тупика)… Русский героизм не похож на французский, слишком трудна и спутанна, слишком непонятна была всегда наша жизнь… В том-то и беда, что с одной стороны — практическое, жизненное, а с другой — знания, культура, высота духа. И моста нет…
Но не обо всем будешь говорить, да и кончать пора. Хочется пожелать — нам прежде всего, — чтоб Вы писали и печатались, чтоб голос Ваш доходил до нас. Тяжкая вещь культурная разобщенность, отсутствие спаянного общества, разрозненность и подозрительная враждебность людей. Грустное, грозное, трудное время.
Между прочим: мне б не очень хотелось, чтоб Вы кому-нибудь мое письмо показали. Разумеется — какой тут секрет. Но когда пишешь для одного — не хочется, чтоб читали другие…
9 Марта 1929 г.
Пусть это письмо прозвучит как запоздалое поминальное слово над могилой Михаила Булгакова. Все-таки главным в его жизни было — не диалог с вождем, а разговор с читателем. Он состоялся, и этому не смогли помешать ни Сталин, ни его ОГПУ.
Русский Леонардо. ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ.

Бывшие.
Умрет вместе со мной.
Удел величия.
Бывшие.
Воюя с собственным народом, советская власть пресекала его историю, рушила материальный и духовный уклад, посягала на само сознание и основу основ — родной язык. Языкоборчество, равнопреступное душегубству, началось с первых лет новой власти и выражалось по-разному: уничтожались основные хранители и творцы языка — крестьянство и интеллигенция, обескровливался и обеднялся словарь, сводимый к советскому волапюку — жаргону из дежурных пропагандистских фраз и элементарной бытовщины, происходило массовое засорение речи иностранными заимствованиями и всевозможными сокращениями-уродами вроде ВКП(б) и ВЦИК, ЦК и ЧК, Наркомпрос и Агитпроп, ликбез и культпросвет, Ревтрибунал, КИМ, колхоз, сельмаг… несть им числа! И даже вместо привольного и певучего естественного выдоха — Россия, занозой в языке засело — РСФСР…
Хлебное поле родной речи стало похоже на вытоптанный, заваленный хламом и отбросами, поросший сорняками пустырь, где тоскует сердце и нищает разум. Прекрасные и насущные, как спелые колосья, слова редели и исчезали, потому что уходили из жизни те понятия, которые они выражали: милосердие, душа, вечность, покаяние…
Святость — еще одно слово, чуть не покинувшее наш словарь, почти устаревшее в советское время. До святости ли, когда трудно сохранить само человеческое лицо, когда надо быть чуть ли не святым, чтобы остаться просто человеком!
Пухлый том следственного дела. Открыл — и сразу захлопнул. Лица, лица, молодые и старые, мужские и женские — несколько страниц, сплошь заклеенные фотографиями — и уже знаешь: все эти люди обречены, так или иначе, рано или поздно — погублены…
Захлопнул и, собравшись с духом, открыл снова.
Восемьдесят человек — богословы, священники, монахи, ученые, мастеровые, торговцы, медсестры, крестьяне — всех их объединила карающая рука ОГПУ и общая «вина» — вера в Бога. Единственная достоверная «вина», ибо все другие обвинения выдуманы, фальшивы. Вчитываюсь в ворох ордеров, протоколов, справок, квитанций, пытаюсь разглядеть в пучине, которая поглотила всех этих людей, — судьбы.
Одно имя среди них — великое: Павел Александрович Флоренский, «русский Леонардо да Винчи», как его называют сегодня.
Крупнейший мыслитель, религиозный философ, богословский труд которого — «Столп и утверждение истины» — стал событием в культуре Серебряного века и прославил автора еще в молодом возрасте. «В отце Павле, — писал другой философ, друг Флоренского Сергей Булгаков[87], - встретились культурность и церковность, Афины и Иерусалим…».
Универсальный ученый — математик, физик, изобретатель, инженер, соединивший исследования с огромной практической работой: преподаванием, сотрудничеством в журналах, службой в научных учреждениях и экспериментальных лабораториях.
Но еще и писатель, поэт, филолог, историк, искусствовед, архивист…
И кроме того, как сам он считал, — главным образом священник, пастырь Церкви, выходивший к народу с проповедью любви и добра, имевший свой творческий опыт общения с Богом и ставший живым мостом между Церковью и интеллигенцией. Вокруг Флоренского сложился общественный круг, во многом определивший духовную атмосферу его времени. А ныне имя отца Павла Флоренского Русская православная церковь чтит так высоко, что помышляет канонизировать его как святого — мученика двадцатого века.
Современников Флоренского помимо его талантов и трудов особо поражал сам образ этого человека — чистый и цельный, как бы приподнятый над всеми, нездешний, устремленный к совершенству, к Небу, по словам того же Сергея Булгакова, сравнимый с истинным произведением искусства.
Интересы Флоренского-ученого столь же многообразны, сколь и глубоки: биосфера и пневматосфера («особая часть вещества, вовлеченная в круговорот… духа»), анализ пространства и времени, теория относительности, проблемы языка и народного быта, музееведение, греческие символы, электротехника, материаловедение, геология. Даже простое перечисление его трудов удивляет: «У водоразделов мысли» (статьи об искусстве) и «Диэлектрики», «Число как форма» и «Философия культа», «Древнерусские названия драгоценных камней» и «Заливочные составы для кабельных муфт»…
Но дело не столько в перечислении, сколько в значении его работ — везде он проявил себя как новатор, открыватель целых течений и направлений в науке и культуре. Беда наша, что работы эти — в большинстве своем — не увидели света при жизни автора и с опозданием доходят до нас, восполняя зияющие провалы нашего сознания, что имя Флоренского замалчивалось и вычеркивалось из истории, и только теперь открывается его истинное значение и величие.
Причина всего этого стара, как мир: он слишком опередил свое время. И сам это прекрасно сознавал, не тешил себя иллюзиями. В одном из последних писем Флоренский дал такую горькую арифметику своей трагедии: «Оглядываясь назад, я вижу, что у меня никогда не было действительно благоприятных условий работы, частью по моей неспособности устраивать свои личные дела, частью по состоянию общества, с которым я разошелся лет на 50, не менее, — забежал вперед, тогда как для успеха допустимо забегать вперед не более чем на 2–3 года».
Казалось бы, такой человек мог составить славу России еще при жизни. Но, как сказано, — нет пророка в своем Отечестве. Древний закон о побитии пророка камнями, увы, не стареет.
В чем же разошелся Флоренский с обществом, в котором жил? Ведь он не был открытым противником революции, не боролся с советской властью, относясь к ним как к неизбежности, внешним обстоятельствам, при которых — каковы бы они ни были — всегда есть более важные дела. Голос вечности вообще звучал для него сильнее любой злобы дня.
Но именно поэтому злоба дня и обрушилась на него.
В эпоху попрания всех святынь он отстаивал общечеловеческие, христианские ценности — «вечности заложник, у времени в плену», как выражался Борис Пастернак. В век раздробленности сознания и узкой специализации наук искал синтез религии, науки и искусства и пролагал пути к будущему цельному мировоззрению. В пору, когда безверие было единственной разрешенной верой, высоко поднял святой крест и не опустил его даже под угрозой смерти. Среди людей, которые более чем когда-либо стали общественными животными, отстаивал право на свободное творчество.
Могла ли потерпеть такого человека Совдепия?
Это сегодня мы видим его истинное лицо. А в следственном деле Флоренский — преступник, опасный для общества элемент, мракобес, который состоял под постоянным жестким надзором, преследовался — до самой кончины.
Последний период жизни Флоренского — наиболее скрытый от нас, спрятанный в секретных хранилищах, овеянный домыслами и легендами. Неизвестна была даже точная дата смерти, как и где погиб…
Так было до тех пор, пока нынешние сотрудники Лубянки не вынули из своих несгораемых сейфов целую пирамиду страшных папок-томов трех следственных дел Павла Флоренского. Пала темная завеса, последнее десятилетие жизни его открылось свету гласности.
Весна 1928-го. Дело контрреволюционного центра Троице-Сергиевой лавры…
Колокольный звон плывет над цветущими садами, куполами древних храмов, возносится к небу, вместе с церковным песнопением и молитвами. Троице-Сергиева лавра — духовная крепость русского православия. У кого из ступивших под ее своды не дрогнет сердце!
Шесть веков собирала она по нашей земле зерна мудрости и добра и возвращала обратно — умноженным посевом, была, по словам Павла Флоренского, «сердцем России», притягательным для тысяч и тысяч паломников, стекавшихся сюда очиститься, обрести твердость духа и мужество, приобщиться Божией мудрости. В Лавре — исконном центре государственного и культурного обновления — вершилась наша история. Отсюда святой подвижник, духовный вождь Руси преподобный Сергий Радонежский благословил князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву — спасение от ненавистного татаро-монгольского ига. Отсюда излучалось просвещение: в Лавре создавались шедевры архитектуры и музыки, хранились древние рукописи и книги, развивались кустарные ремесла. В Лавре глазам людей открылась «Троица» Андрея Рублева — прекраснейшее творение нашей иконописи.
«Среди мятущихся обстоятельств времени, среди раздоров, междоусобных распрей, всеобщего одичания и татарских набегов, среди этого глубокого безмирия, растлившего Русь, открылся духовному взору бесконечный, невозмутимый, нерушимый мир» — так писал Флоренский об Андрее Рублеве. То же можно сказать и о самом Флоренском, только век другой и иго — не иноземное, а большевистское, свое.
С Троице-Сергиевой лаврой связана вся жизнь отца Павла Флоренского. Здесь, в Духовной академии, он учился и потом преподавал, здесь стал священником и служил в церкви, здесь, в деревянном домике возле Лавры, жил, в постоянных трудах, вместе со своей семьей, большой и дружной, с любимой женой и детьми. И лучшего места для себя не видел и не искал. Мечтал: «Мне представляется Лавра в будущем русскими Афинами, живым музеем России, в котором кипит изучение и творчество, и где, в мирном сотрудничестве и благожелательном соперничестве учреждений и лиц, совместно осуществляются высокие предназначения — дать целостную культуру… явить новую Элладу».
Злоба дня грубо разрушила все эти мечтания. Советская власть объявила Лавре беспощадную войну.
Весна 1928-го. Антирелигиозная пропаганда — в самом разгаре. Газеты и журналы печатают из номера в номер обличительные памфлеты и фельетоны, захлебываются от ярости, брызжут слюной.
Русские Афины? Черносотенное подполье!
Новая Эллада? Рассадник поповщины!
И вот уже Троице-Сергиева лавра становится «так называемой», святость с издевкой берется в кавычки, а вполне живые люди называются бывшими. Таков кровожадный новояз — советский словарь.
В «Рабочей газете» от 12 мая некто А. Лясс пишет: «В так называемой Троице-Сергиевой лавре свили себе гнездо всякого рода „бывшие“, главным образом князья, фрейлины, попы и монахи. Если раньше попы находились под защитой князей, то теперь князья находятся под защитой попов… Вскоре после Октябрьской революции монастыри — эти гнезда дармоедов и паразитов — были разогнаны. Однако монахи решили иначе и приспособились к существующим условиям. Такое положение дальше терпимо быть не может. Гнездо черносотенцев должно быть разрушено. Соответствующие органы должны обратить на Сергиев особое внимание…».
Ретивое перо услужливо — доносит во всеуслышание. Попрание святынь, публичное стукачество — основа советского воспитания, ясно, какие плоды оно может дать, — растление народной души, превращение ее в податливую глину, из которой можно лепить все, что угодно.
Ляссу подпевает спецкор «Рабочей Москвы» М. Ам-ий (17 мая):
«Древние стены бывшей Троице-Сергиевой лавры — безмолвные свидетели седой старины. Сколько могли бы они поведать миру о тех безобразиях, которые здесь совершались! Революционный штурм почти не тронул вековых стен бывшей цитадели разврата. На западной стороне феодальной стены появилась только вывеска: „Сергиевский государственный музей“. Прикрывшись таким спасительным паспортом, наиболее упрямые „мужи“ устроились здесь, взяв на себя роль двуногих крыс, растаскивающих древние ценности, скрывающих грязь и распространяющих зловоние».
Дальше тот, кто скрывается за нелепым псевдонимом «М. Ам-ий», переходит на личности, добирается и до Павла Флоренского:
«Некоторые „ученые“ мужи под маркой государственного научного учреждения выпускают религиозные книги для массового распространения. В большинстве случаев это просто сборники „святых“ икон, разных распятий и прочей дряни. Вот один из таких текстов. Его вы найдете на странице 17 объемного „научного“ труда двух ученых сотрудников музея — П. А. Флоренского и Ю. А. Олсуфьева[88], выпущенного в 1927 г. в одном из государственных издательств под названием „Амвросий Троицкий, резчик XV века“. Авторы этой книги, например, поясняют: „Из девяти темных изображений (речь идет о гравюрах, приложенных в конце книги. — М. А.) восемь действительно относятся к событиям из жизни Иисуса Христа, а девятое — к усекновению головы Иоанна“.
Надо быть действительно ловкими нахалами, чтобы под маркой „научной книги“ на десятом году революции давать такую чепуху читателю советской страны, где даже каждый пионер знает, что легенда о существовании Христа не что иное, как поповское шарлатанство».
И вот торжествующий возглас вырывается у М. Ам-ия:
«Наконец-то!.. На днях в связи с шумом, поднятым газетами о Сергиеве, сюда прибыла комиссия Главнауки и опечатала архив». «Но вот, — заканчивает автор со скрежетом зубовным, — попробуйте теперь, проверьте и найдите виновников, когда главный хранитель архива, происходящий из князей, бывший тоже какой-то „преосвященный“ отец Серафимович, кажется, на второй же день приезда комиссии взял да и умер…».
Насколько же должны быть извращены все человеческие понятия, чтобы даже смерть человека ставилась ему в вину! Виноват, что умер, ушел от возмездия, нашел лазейку.
Однако эта громогласная кампания была лишь артподготовкой к намечаемому погрому. Все приведенные мной выдержки взяты из следственного дела, туда они перейдут прямо со страниц газет и журналов, будут пришиты к делу как изобличающий материал. Так пресса использовалась в качестве доносчика и провокатора.
Общественное мнение было подготовлено. Дальше уже заработали сами Органы, машина ОГПУ.
В двадцатых числах мая 28-го года ОГПУ провело масштабный налет на Троице-Сергиеву лавру и ее окрестности: арестовало и перевезло в Бутырскую тюрьму большую группу верующих — служителей церкви и мирян. Операция планировалась как двойной удар — по церкви, уже основательно обескровленной, и по остаткам дворянского сословия — в том числе высшей аристократии, — которые спасались возле Лавры, как во все времена спасались люди в храмах — от последней погибели.
К Флоренскому нагрянули рано утром 21 мая. Ордер на арест подписал сам глава ОГПУ Генрих Ягода, исполнил предписание «комиссар активного отделения» Жилин: арестовал Флоренского и произвел в его доме обыск. Рукописи, слава богу, не тронул, да и вряд ли полуграмотный оперативник, писавший с грубыми ошибками, что-нибудь понял в них. Ересь увидел в жетоне Красного Креста и в фотокарточке царя — их забрал в качестве компромата. Сообщение об успешном «изъятии» Флоренского было передано в Москву в десять часов утра.
На Лубянке, в комендатуре ОГПУ, арестованному, по обычной процедуре, дали заполнить анкету. Флоренский Павел Александрович, русский, 46 лет, из дворян, сын инженера, родился в местечке Евлах (Азербайджан), окончил Московский университет и Духовную академию. Семья — жена, три сына и две дочери. Профессия — научная деятельность, место работы — завотделом материаловедения Государственного электротехнического института, редактор «Технической энциклопедии». Бывший профессор Духовной академии.
Привлекался ли к судебной ответственности? «Да, привлекался, в 1906 году за проповедь против казни лейтенанта Шмидта», — записал арестованный мелкими буквами, стремительной, трудноразборчивой вязью.
Дело лейтенанта Шмидта — это был единственный случай, когда Флоренский позволил себе выступление с политическим оттенком — против расстрела революционера, восставшего на царя. Теперь, пожалуй, факт этот можно было поставить себе в заслугу, — но Флоренский этого не сделал. Он не хотел превратных толкований, не искал для себя выгоды ни в чем: его выступление за Шмидта было чисто нравственным поступком, защитой не политической доктрины, а человеческой личности.
Что же до политики, то своего отношения к ней Флоренский никогда не скрывал. За год до ареста он писал в своей автобиографии: «По вопросам политическим мне сказать почти нечего. По складу моего характера, роду занятий и вынесенному из истории убеждению, что исторические события поворачиваются совсем не так, как их направляют участники, а по до сих пор не выясненным законам общественной динамики я всегда чуждался политики и считал, кроме того, вредным для организации общества, когда люди науки, призванные быть беспристрастными экспертами, вмешиваются в политическую борьбу. Никогда в жизни я не состоял ни в какой политической партии».
Автобиография была написана не в стол, а представлена в официальное советское учреждение. Те же взгляды он отстаивал и сейчас, на Лубянке.
При заполнении анкеты Флоренский объяснил и происхождение изъятого у него «компромата»: «При обыске взяты жетон Красного Креста, полученный после возки раненых с фронта, и фотографический снимок царской встречи, переданный мне, вместе с другими снимками, после смерти одного духовного лица».
Никакого обвинения заключенному предъявлено не было.
25 Мая состоялся единственный допрос. Ответы на вопросы следователя Флоренский записал собственноручно.
На свет была извлечена и предъявлена все та же фотография царя: почему вы ее храните, как это понимать?
Ответ Флоренского:
— Фотокарточка Николая II хранится мною как память епископа Антония[89].
— Как вы относитесь к царю?
— К Николаю я отношусь хорошо, и мне жаль человека, который по своим намерениям был лучше других, но который имел трагическую судьбу царствования.
— Ваше отношение к советской власти?
— К советской власти я отношусь хорошо и веду исследовательские работы, связанные с военным ведомством секретного характера. Эти работы я взял добровольно, предложив эту отрасль работы. К советской власти я отношусь как к единственной реальной силе, могущей провести улучшение положения массы. С некоторыми мероприятиями советской власти я не согласен, но безусловно против какой-либо интервенции, как военной, так и экономической.
— С кем вы обсуждали свое несогласие с советской властью?
— Никаких разговоров с кем-либо о тех мероприятиях, с которыми я не согласен, я не вел…
В те же дни допрашивали и других арестованных по делу Троице-Сергиевой лавры. Большинство из них тоже заявили о своей лояльности к власти или, во всяком случае, об аполитичности («всякая власть — от Бога», «Советская власть меня не трогает, и я к ней не касаюсь»). Некоторые были настроены фатально, как Софья Тучкова[90] — (по отцу — графиня Татищева), сестра милосердия: «Я никогда и нигде не говорила против Советской власти, так как я считаю, что в жизни такой переворот явился естественным образом в процессе хода истории. Об осквернении храмов со стороны Советской власти я также нигде не говорила, что я также считаю естественным событием истории, хотя первое время для меня, как религиозной, было тягостно».
Пожалуй, только игумен Параклитова монастыря Ларин твердо заявил: «От служения церкви, пока существую на свете, не откажусь!» И Александра Мамонтова — художница и наследница имения Абрамцево[91] — показала характер: «Сторонницей Советской власти не являюсь, вследствие гонения на религию и притеснения верующих. Кто у меня бывал, предпочитаю не называть…».
С Александрой Мамонтовой Флоренского связывала давняя дружба. Она была одной из тех, кого он убеждал во времена, когда призывают «сбросить Пушкина с корабля современности», этого корабля не покидать. Еще в 1917-м, в разгар революции, он написал ей пророческое письмо: «Все, что происходит кругом нас, для нас, разумеется, мучительно. Однако я верю и надеюсь, что, исчерпав себя, нигилизм докажет свое ничтожество, всем надоест, вызовет ненависть к себе, и тогда, после краха всей этой мерзости, сердца и умы уже не по-прежнему, вяло и с оглядкой, а наголодавшись, обратятся к русской идее… Я уверен, что худшее еще впереди, а не позади, что кризис еще не миновал. Но я верю в то, что кризис очистит русскую атмосферу».
На первый взгляд такое неприятие современного нигилизма противоречит его собственному ответу следователю: «К советской власти отношусь хорошо». Но вспомним и продолжение ответа: «…как к единственной реальной силе… С некоторыми мероприятиями советской власти я не согласен».
И никакого противоречия здесь нет. Это взгляд мыслителя, а не политического бойца: Флоренский принимает советскую власть — и всякую принял бы так же! («Как вы относитесь к царю?» — «Хорошо».) — как неизбежную реальность, данность, но с существенными оговорками. Это не противоречие, а полифония, характерная для гармоничных людей.
Человек богатой внутренней организации, постигший сложную диалектику мира, Флоренский как раз не раздваивался, а оставался собой. С Органами он старался говорить как можно меньше, короче. Серьезный диалог с ними был просто невозможен — они бы все равно его не услышали. Нет, его ответы следователю не были ложью — это был тот поверхностный уровень, примитивно-обобщенный слой сознания, на котором он только и мог общаться с представителями власти — сотрудниками ОГПУ, когда надо выбирать между «да» и «нет», без всяких сложностей.
И совсем другое дело — близкие по духу люди вроде Александры Мамонтовой. С ними он мог открыться, говорить серьезно, зная, что его поймут. Только в таком общении и проявилось его истинное, глубинное отношение к кровавой сумятице революции.
По-разному вели себя на следствии подельники Флоренского, но результат был один — все они, как и он сам, были отнесены к социально вредным элементам. Формулировалось это однотипно и безграмотно: «…как бывший монах, не сочувствующий соцстроительству, принимая во внимание его службу монахом, подходит к монархическому строю» или: «…как бывшая дворянка, принимая во внимание сочувственное отношение к монархии». Оказаться священником или дворянином было уже преступлением, а еще хуже, если найдут при обыске фотографию царя или царской семьи (искали специально) — это уже вещественное доказательство. Одному иеромонаху поставили в вину то, что поминал на богослужении царя, старику-инвалиду — что носит николаевскую медаль и «форменный кафтан времен царизма».
Правда, среди этих разноликих людей попался и один бывший жандармский подполковник — Михаил Банин, который когда-то «вербовал секретных сотрудников, руководил их деятельностью и производил аресты революционеров». Так он и в советское время, как гласит вшитая в дело справка, «состоял секретным осведомителем ОГПУ по Сергиеву уезду». Банину и тут «было предложено помочь ОГПУ, однако он от этого отказался», за что, видимо, и получил жестокий приговор — десять лет Соловков.
Дело прокручивалось быстро и скопом. 29 мая уже готово обвинительное заключение:
Согласно имеющимся агентурным данным, Секретному отделу ОГПУ было известно, что нижепоименованные граждане, будучи по своему социальному происхождению «бывшими» людьми (княгини, князья, графы и т. п.), в условиях оживления антисоветских сил начали представлять для Соввласти некоторую угрозу, в смысле проведения мероприятий власти по целому ряду вопросов. Имеющиеся в распоряжении ОГПУ агентурные данные стали подтверждаться на страницах периодической печати.
Вот, собственно, и все доказательства обвинения: агентурные данные — то есть доносы, и печатные нападки, приравненные к ним. Этого достаточно для приговора. В конце концов, власть должна быть последовательной: если все эти люди, отбросы социализма, признаны «бывшими», они и должны стать бывшими. Все равно они только мешают и рано или поздно придется от них избавиться — чем раньше, тем лучше.
Следователь Полянский предлагает не церемониться — передать дело на рассмотрение тройки при Секретном отделе ОГПУ. Известно, чем это грозит: концлагерем или даже высшей мерой — расстрелом. Нет, решает осмотрительное начальство, пожалуй, это слишком, такая крайность может вызвать нежелательный резонанс, отпугнет от нас массы. Будет с них и ссылки. Убьем сразу двух зайцев — и накажем, и покажем гуманизм.
8 Июня судьба всех арестованных по этому делу была решена — высылка. В протоколе заседания Особого совещания при Коллегии ОГПУ Флоренский идет под номером 25: «Из-под стражи освободить, лишив права проживания в Москве, Ленинграде, Харькове, Киеве, Одессе, Ростове-на-Дону, означенных губерниях и округах с прикреплением к определенному месту жительства, сроком на три года».
14 Июля Флоренский, простившись с семьей и друзьями, отправляется в выбранный им как место жительства Нижний Новгород, «в распоряжение Нижегородского ОГПУ». (Пройдет более полувека, и в том же городе, переименованном в Горький, по случайному совпадению окажется в ссылке другой ученый и великий сын России — академик А. Д. Сахаров.).
Служебная записка разъясняет процедуру высылки: «Выезд каждого из осужденных должен быть произведен с таким расчетом, чтобы последние не имели возможности разгуливать свободно по городу, а были бы сопровождаемы на поезда сотрудниками».
К счастью, ссылка Флоренского длилась недолго, всего несколько месяцев. В те годы у нас еще не совсем исчезли рудименты прошлого — сострадание к жертвам политических гонений. За Флоренского еще было кому заступиться. В результате ходатайства руководительницы Политического Красного Креста Екатерины Павловны Пешковой удалось добиться отмены наказания. Последовало новое постановление Особого совещания: «…досрочно от наказания освободить, разрешив свободное проживание по СССР».
Флоренский вернулся домой. Пока Органы оставили его в покое, дали передышку — на несколько лет.
Умрет вместе со мной.
Приехав в Москву, Флоренский сказал:
— Был в ссылке — вернулся на каторгу.
Внешне — будто не было Лубянки и ссылки — снова потекла трудовая жизнь, наполненная до предела, накаленная до страсти. Этот человек-университет не изменил ни одной из своих ипостасей, он по-прежнему в центре интеллектуальной Москвы, с головой погрузился в изучение мира — анализирует, экспериментирует, пишет, читает лекции, служит — в Электротехническом институте и в церкви.
Но необычная фигура его все больше привлекает внимание, все чаще становится притчей во языцех. Слишком выделяется она на общем фоне бодро-уравнительного социалистического марша. Фигура заметная — даже внешне: ходит в рясе и камилавке, сгорбившись, опустив долу глаза, погруженный в какие-то неведомые раздумья. Голос тихий, нежный, лицо — древнего египтянина. В лучшем случае — неисправимый чудак, в худшем — явно не наш.
— Кто это? — удивленно спросил однажды Лев Троцкий, увидев белую рясу Флоренского.
Вождь мировой революции, считая себя семи пядей во лбу, среди множества своих постов руководил еще и Главэлектро. Во время одного из обходов вверенных ему учреждений он и заметил в лаборатории подвального этажа белую рясу.
— Профессор Флоренский! — объяснили ему.
— Ага, знаю.
Троцкий подошел к Флоренскому и сделал широкий жест — пригласил его участвовать в съезде инженеров.
— Только, разумеется, не в этом костюме…
— Я не слагал с себя сана священника и другую одежду надевать не могу, — сказал Флоренский.
— Да, не можете, ну что ж, тогда в этом костюме…
Когда на съезде Флоренский взошел на сцену, по залу пронесся недоуменный ропот: поп на кафедре! И хоть доклад был блестящий и заслужил аплодисменты, больше поразило собравшихся другое: поп-профессор, загадка — совершенный идеалист и такие познания в точных науках!
Белая ряса, светлая голова, святая душа — поистине белая ворона!
И вскоре в нее полетели камни. Травлю начали свои же коллеги, ученые. Это случилось после опубликования Флоренским книги «Мнимости в геометрии», в которой он, анализируя «Божественную комедию» Данте и теорию относительности Эйнштейна, дал свое, оригинальное и смелое толкование мироздания, и статьи «Физика на службе математики» — в ней был описан электроинтегратор — прототип современных аналоговых вычислительных машин. Опять на голову автора обрушился набор вульгарной ругани, причем критики не столько отвергали научные взгляды Флоренского, сколько стремились представить его как заклятого врага. Классовый подход царил тогда повсюду, и споры в науке кончались не открытием истины, а тюремной решеткой.
Над головой Флоренского снова сгустились тучи, загрохотал гром. Поэтому новый арест уже не стал для него неожиданностью.
Он произошел 26 февраля 1933 года. «Поп-профессор, по политическим убеждениям крайне правый монархист» — такая характеристика дана в справке на арест.
Тут уж Органы работали грамотнее: на московской служебной квартире Флоренского изымались и рукописи, и книги, и даже семейные реликвии его армянского рода по линии матери: клинки, шашка, тесак — в протоколе они обозначены как «холодное оружие».
Вел дело уполномоченный Секретно-политического отдела ОГПУ Московской области Шупейко.
«Член центра контрреволюционной организации „Партия Возрождения России“, — писал он об арестованном, — уличается показаниями обвиняемого, профессора Гидулянова[92]».
И что из того, что такой партии вообще не существовало?!
— Есть такая партия! — как сказал когда-то Владимир Ленин. А нет, так будет, решило верное его заветам ОГПУ.
И про эту партию, и про профессора Гидулянова Флоренский услышал впервые здесь, на Лубянке.
Но прошло несколько дней, и на свет появляется совершенно невероятный документ — его собственноручные показания.
В этом месте листы дела подмочены, поэтому текст, написанный красными чернилами, поплыл, страницы будто залиты кровью. Писал Флоренский мучительно: сначала черновик на трех страницах, потом — на пяти — развитие версии и, наконец, дополнение — схема «контрреволюционной организации».
«Сознавая свои преступления перед Советской властью и партией, настоящим выражаю глубокое раскаяние в преступном вхождении в организацию национал-фашистского центра…».
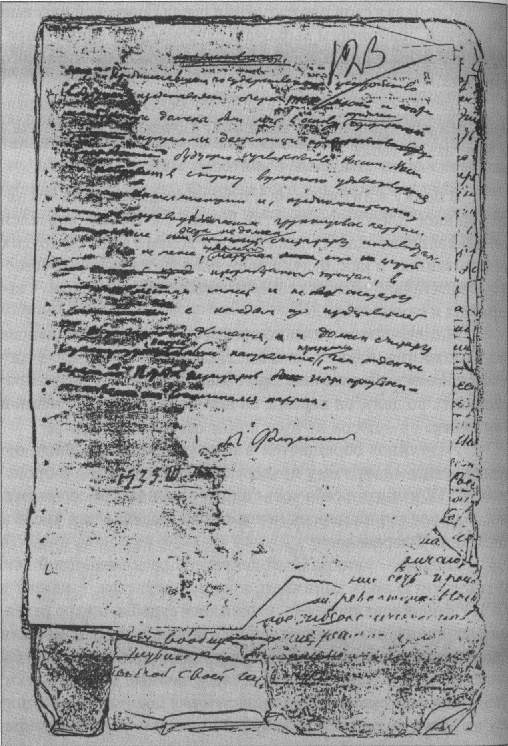
Страница следственного дела П. А. Флоренского с его собственноручными показаниями.
Что же случилось с Павлом Флоренским? Откуда взялась вся эта чудовищная нелепица? Почему он вдруг начал клеветать на себя?
В папку вшит материал, проливающий свет на это неожиданное преображение отца Павла, на то, как оказался он повязанным одним следственным делом с судьбой других арестованных и как, будучи поставлен перед выбором совести, сознательно взвалил на себя тяжкую ношу греха — неправды и самооговора.
Материал этот — письмо профессора-юриста Гидулянова из Казахстана, куда он был выслан после окончания следствия сроком на десять лет. Арестовали его раньше всех, проходящих по делу, он первым из них попал на следственный конвейер.
Гидулянов обращается в прокуратуру в надежде открыть глаза советскому правосудию на бесчинства и произвол ОГПУ и снять с себя хоть толику зла, которое совершил, возведя поклеп на многих неповинных людей, в том числе и на Павла Флоренского.
Письмо — уникальный документ, раскрывающий всю подноготную того циничного изобретательства, с каким в ОГПУ фабриковались дела, вершились судьбы, щедро раздавались наказания, распределялись жизнь и смерть. Его как своеобразное, раскрывающее глаза пособие, ключ нужно бы знать всем, кто берется изучать следственные дела Лубянки. Никакие протоколы, собственноручные показания и подписи не есть еще залог пресловутой правды и только правды, которую человек должен раскрыть перед правосудием, как перед последней инстанцией суда людского, за которым стоит высший, Божий суд.
Гидулянов в своей жалобе-исповеди подробно излагает весь ход следствия, вернее, как самим следствием создавалось дело — с использованием всего арсенала иезуитских средств: запугивания, принуждения, угрозы расстрела и расправы с семьей, подкупа, провокаторов — и как в конце концов было выжато из арестованного признание своей «вины» и оговор других.
Все правдивые заявления и просьбы проверить их, свидетельствует Гидулянов, «встречались смехом и всякого рода издевательствами над моей личностью», а правдивые рукописания «рвались, комкались и часто бросались в лицо». И дальше:
Мой следователь — молодой человек Шупейко — сам формулировал мои контрреволюционные убеждения в таком стиле, от которого я пришел бы в ужас на воле, и заставлял меня их подписать, заявляя, что убеждения у нас не наказуемы, и в случае, если я не подпишу его формулировку, то он за меня сам распишется…
Пока дело шло о насилиях и глупостях, я держался стойко. Тогда перешли на другой путь. Отношение ко мне стало необычайно доброжелательным и мягким, меня перевели в камеру с улучшенным питанием, Шупейко заявил, что я — жертва, что я не знаю, что такое ОГПУ, что не надо никому верить, но только ему одному, ибо он — мой судья, и следователь, и прокурор, и защитник, что мне ничто не угрожает, что меня выпустят на свободу и дадут по-прежнему заниматься наукой, но что мне нужно разоружиться, отдать себя целиком во власть и на милость ОГПУ. Но для доказательности действительного разоружения мне нужно признать самого себя участником контрреволюционной организации, причем чем серьезней будут возводимые на себя самого преступления, тем, значит, будет рассматриваться чистосердечнее — мое признание и искреннее — раскаяние.
Апологетом этой теории саморазоружения был некий агроном Калечиц[93], в камеру которого я был посажен. Через Калечица корректировались мои показания, указывалось, что я должен исправить, и Калечиц разъяснял, по его собственному выражению, «эзоповский язык ОГПУ». Лейтмотивом всего этого было то, что от меня в целях разоружения требуется не правда, а правдоподобие.
Как ученый, историк-процессуалист, во всем этом я узрел своеобразную форму очистительного процесса, каким в раннее средневековье была purgatio vulgaris, а позднее — purgatio canonica…
Разъясним, что упомянутое Гидуляновым purgato canonica — каноническое очищение — предусматривало: подозреваемый не считается невиновным даже при отсутствии всяких улик, невиновность свою он должен доказать сам, совершив действия, которые бы обелили его. Казалось бы, небольшая перестановка: не следователи доказывают вину, а подследственный доказывает свою невиновность — но весь смысл правосудия вывернут наизнанку, что при неравенстве сторон ведет к неминуемой расправе. К таким феодальным вершинам поднялось самое прогрессивное в мире советское правосудие!
Усыпив себя учеными параллелями, — продолжает Гидулянов, — и будучи совершенно не искушен в приемах подобного образа действий следственных органов и во всякого рода провокациях, я уверения о разоружении принял за чистую монету и, чтобы угодить ОГПУ, стал «стараться» и, чем больше требовали доказательства моего раскаяния, тем больше я сам на себя клепал…
Обработка меня Шупейко производилась таким образом, что он вызывал меня к себе и путем наводящих вопросов и подсказываний натаскивал в желательном ему направлении, затем все это я «переваривал». Таким образом получалось «литературное произведение» (выражение самого Шупейко), которое излагалось мною на бумагу, как «сущая» или «истинная» правда, под которой подписывался: «писал собственноручно и в соответствии с действительностью». С течением времени откровенность Шупейко доходила до того, что я под его диктовку писал все, что ему хотелось, и все это мною делалось и воспринималось как разоружение. В награду за это обещалась свобода…
При таких обстоятельствах я всецело отдал себя во власть Секретно-политического отдела ОГПУ и сделался режиссером и первым трагическим актером в инсценировке процесса националистов, превращенных волею ОГПУ в национал-фашистов. В целях саморазоружения я объявил себя организатором Комитета национальной организации, которая после ряда попыток в стенах ОГПУ была окрещена «национальным центром», причем членами этого мифического комитета были указанные мне и уже сидевшие в ОГПУ мои коллеги Чаплыгин, Лузин[94] и Флоренский…
Итак, имя Флоренского указывают Гидулянову следователи, тогда как сам он в письме прокурору признается, что «из названных лиц с профессором Флоренским я никогда не был знаком и видел его в первый раз в жизни во время очной ставки в ОГПУ, почему принужден был ему отрекомендоваться».
Гидулянов стал настоящей находкой для ОГПУ. Он назвал десятки людей из среды интеллигенции — всех, кого мог вспомнить и кого подсказали следователи, и всех привязал, втянул в дело. Потом его формулировки следователь внедрял в показания других осужденных — слово в слово. Выстраивалась целая цепочка самооговоров, которая связывала всех вместе в единый преступный узел:
В видах вящего раскаяния главную роль пришлось мне взять на себя. Я-де снесся с Флоренским в Загорске, а через него вступил в связь с Чаплыгиным и Лузиным. Так создался мифический комитет! Председатель — Чаплыгин, я — секретарь, Флоренский — идеолог и Лузин — для связи с заграницей.
Платформу партии националистов я же сам состряпал при любезном содействии начальника СПО Радзивиловского[95], собственноручно записавшего мое «развернутое показание». Партия националистов открывает свои действия после взятия Москвы и военной оккупации России немцами, причем в основу платформы был положен принцип «Советы без коммунистов», под покровом буржуазного строя.
В результате этого фантастического «развернутого показания» Радзивиловским была мне обещана свобода и возврат к моим научным занятиям…
Так обещанная свобода одного покупалась ценой несвободы многих.
По отношению к Флоренскому фантазия Гидулянова особенно разрезвилась: «Идеологом идеи национализма в духе древнемосковского православия, государственности и народности на правом крыле нашего ЦК был профессор Флоренский как выдающийся философ и богослов. Флоренский по нашему плану являлся духовным главой нашего „Союза“, с одной стороны, и с другой — организатором подчиненных ему в порядке духовной иерархии троек среди духовенства московских „сорока сороков“ и на периферии, а равно троек среди сохранившегося кое-где монашества».
Нужные следствию показания дали и несколько других арестованных. Дело состряпано. Свит терновый венец. Флоренскому предстояла еще тяжкая душевная пытка — встреча с запуганным, загнанным, униженным и завравшимся человеком. Следствие организует очную ставку его и Гидулянова.
Гидулянов: «На устроенном мне Радзивиловским свидании я убеждал профессора Флоренского последовать нашему примеру и чистосердечно сознаться, ибо он своим упорством препятствует нашему освобождению».
Тут-то и произошел перелом в поведении подследственного Павла Флоренского.
«Флоренский понял меня, — пишет Гидулянов, — и тоже перешел на путь самооговаривания, что я понял со слов Шупейко, потребовавшего сообщить ему фамилию того немца-электротехника, с которым я будто бы был у Флоренского.
Я окрестил этого фиктивного немца „Людвигом Штейном“ и сделал его иезуитом, делегированным-де папой в Россию для свидания со мной в целях заключения унии».
Из всей жизни отца Павла следует, что только так он и мог поступить, когда на весах его христианской совести оказалась жизнь нескольких человек или белые одежды; он выбрал уничижение, предпочел нанести вред себе, тем самым совершая духовный подвиг принесения себя в жертву ради спасения других.
Быть может, чтобы понять это, надо самому быть в душе христианином. Флоренский отвергает белые одежды, если на них капли чужой, невинной крови, — в этом суть его христианского смирения.
Когда-то он писал: «Бывали праведники, которые особенно остро ощущали зло и грех, разлитые в мире, и в своем сознании не отделяли себя от этой порчи; в глубокой скорби они несли в себе чувство ответственности за общую греховность, как за свою личную, властно принуждаемые к этому своеобразным строением своей личности».
Теперь он сам стал таким праведником.
Все начало марта, день за днем, Флоренского вызывают к следователю, дают бумагу и заставляют повторять версию Гидулянова — от своего имени. Даже язык, стиль речи, не говоря уже о мыслях, выдают чужое авторство. А потом следователи Шупейко и Рогожин пишут сверху: «Протокол допроса», не утруждая себя даже тем, чтобы соблюсти формальности, расписать собственноручные показания в виде вопросов и ответов.
И все же живой голос прорывается сквозь эту галиматью, Флоренский время от времени непроизвольно высказывает сокровенное. Бумага и перо обязывают — и мысль побеждает ложную ситуацию. И тогда мы слышим конструктивные идеи, полезные не только для того общества, которое было глухо к ним, но и для нас сейчас, спустя полвека.
В основу народного образования, — пишет, например, Флоренский, — должны лечь принципы децентрализации, дезунификации: средние и высшие школы должны быть разбросаны по возможности вне больших городов, причем должно быть создано много различных типов… Особое внимание должно быть обращено на создание литературы для широких масс — учебников, справочников, техпропаганды и прочей литературы, которая поручалась бы самым первоклассным силам страны.
В отношении промышленности должен быть проведен лозунг качества как борьба против дешевки и низкого качества продукции, связанных с чрезмерностями конвейерной системы; в частности, мерою в этом случае могло бы служить создание заводов не слишком большого размера… В области сельского хозяйства борьба за качество должна выразиться в значительном усилении работ по селекции…
А в конце показаний Флоренский, уступая своему чистосердечию, по существу, перечеркивает смысл их, открывает правду: «Тактические мероприятия национал-фашистским центром были весьма не разработаны и составляли самое слабое место. Объясняется это участием деятелей науки, которые никогда не были политиками и не принимали участия в деятельности ни подпольной, ни надпольной». Начертив навязанную ему схему организации, он тут же добавляет, что она «фактически не реализовывалась» и что о «фактическом привлечении» указанных в ней лиц ему «ничего не известно»!

Фальсифицированная «Схема структуры национал-фашистского центра», составленная П. А. Флоренским под диктовку следователя.
И дальше уж совсем удивительное признание: «Я, Флоренский Павел Александрович, по складу своих политических воззрений — романтик Средневековья примерно XIV века».
Такой вот странный фашист и враг советской власти!
Неутомимо обрабатывая подследственного в стенах Лубянки, Органы не оставляли без внимания и его дом, вовсю шуровали и там — в поисках крамолы. Уставшая от этих визитов жена Флоренского Анна Михайловна в конце концов спросила:
— Вы что ищете, рукописи? — и распахнула дверцы шкафа, в котором стояли аккуратные ряды папок с научными работами мужа.
Тут гости спасовали — понять что-нибудь в этих ученых дебрях было им явно не под силу. «При обыске изъято ничего не было, — записали они в протоколе, — так как книги „Столп и утверждение истины“ и других книг по мистике, а также порнографии не оказалось».
Но квартира ученого, сам антураж ее прямо-таки потряс сотрудников ОГПУ, — в записи проглядывает и удивление, и зависть: «Флоренский занимает большой дом в пять-шесть больших комнат, имеет кабинет, в котором сосредоточена его громадная библиотека, находящаяся в шкафах размером вплоть до потолка (как в кабинете, так и в соседней комнате). Кроме этого, у него имеется ряд коллекций по старинной монете, металлу и другим ископаемым».
Красочное описание библиотеки вызвало мгновенную реакцию начальства: последовал приказ, и ее увезли, то есть попросту украли. А в доме учинили настоящий разбой. На этот раз сотрудники ОГПУ явились в отсутствие хозяев, вырезали замок из входной двери, взломав комнату сына Флоренского, забрали часть его вещей, прихватили даже посуду на кухне, потом произвели опись вещей в двух опечатанных комнатах с целью их конфискации, запретив управдому показывать эту опись хозяйке. И возглавил группу захвата сам следователь — товарищ Шупейко.
Неужели же не нашлось никого в Москве, кто бы вступился за Флоренского? Нашелся один мужественный человек — главный редактор «Технической энциклопедии», старый революционер Людвиг Карлович Мартенс. В деле имеется его письмо видному чекисту Миронову[96]:
…Во время процесса вредителей я обращался к Вам с просьбой обратить внимание на профессора П. А. Флоренского, арестованного органами ОГПУ еще в феврале с.г. Профессор Флоренский является одним из крупнейших советских ученых, судьба которого имеет очень большое значение для советской науки вообще и для целого ряда наших научных учреждений. Будучи уверен, что его арест является плодом недоразумения, еще раз обращаюсь к Вам с просьбой лично познакомиться с делом. С коммунистическим приветом.
Обращение это было оставлено без внимания.
30 Июня начальник Секретно-политического отдела Радзивиловский утверждает обвинительное заключение — целый «труд» на тридцати страницах.
ОГПУ Московской области раскрыта и ликвидирована контрреволюционная национал-фашистская организация, именовавшая себя «Партией Возрождения России». Организацию возглавлял руководящий центр в составе профессоров Флоренского, Гидулянова и академиков Чаплыгина и Лузина. Она возникла фактически из уцелевших от разгрома остатков ликвидированной ОГПУ в 1930 г. монархической организации «Всенародный Союз борьбы за возрождение России»… Была установлена связь и с белогвардейской эмиграцией, и устроено конфиденциальное свидание с Гитлером…
Дело было представлено на рассмотрение Особой тройки ОГПУ Московской области. Через месяц Флоренский осужден тройкой по статье 58, пп. 10, 11 (антисоветская пропаганда и участие в контрреволюционной организации) на десять лет исправительно-трудовых лагерей. О том, что это был за суд, рассказывает в своем письме тот же Гидулянов:
Перед свиданием с прокурором Шупейко натаскивал меня в том, как я должен держать себя и что я должен сказать, причем советовал мне не церемониться с прокуратурой, так как моя судьба зависит не от прокурора, но от ОГПУ, ибо в тройке — два члена от ОГПУ и один от прокуратуры.
При таких условиях для меня явилось полной и ошеломляющей неожиданностью сообщение приговора о высылке этапом в Казахстан сроком на десять лет… Тут только я понял, в какую пропасть меня под флагом разоружения завели моя доверчивость, неопытность «в сих делах» и отсутствие гражданского мужества.
Делая постановление о моей высылке, руководители ОГПУ не могли не знать, что все мои показания — липа. Они отлично понимали, что все показания — «литературные произведения» и инсценировка, и притом неумная, так как при проверке все рухнет, как карточный домик…
Рухнуло — но только через четверть века. При реабилитации в 1958 году в постановлении суда было сказано: «В деле не имеется материалов, которые послужили бы основанием к аресту Флоренского (и других лиц, проходивших по делу). Свидетели не допрашивались, лица, принимавшие участие в расследовании данного дела, осуждены за фальсификацию. Флоренский (и другие лица) осуждены были несправедливо, при отсутствии доказательства их вины».
Дочитаем же до конца послание в прокуратуру Гидулянова, сыгравшего в этой трагедии роль Иуды:
Ссылку я воспринял как заслуженное мною возмездие за мою мягкотелость и глупое поведение в ОГПУ… Я опасаюсь мести со стороны агентов ОГПУ, они грозили Соловками моей жене в случае обращения с жалобой о конфискации моей библиотеки. Отсюда я боюсь, что эта же участь постигнет меня.
Настоящее письмо к Вам — это тайная исповедь, по отношению к которой я прошу соблюдения тайны исповеди. Сам я пишу эту исповедь в одном экземпляре и без черновиков, хотя от меня в ОГПУ не взяли ни подписки, ни честного слова о тайне всего там происходящего, но все же я не хочу огласки всего происшедшего со мною в стенах Московского ОГПУ: пусть все это останется в тайне и умрет вместе со мной.
Прошу прощения за мою откровенность. Остаюсь всегда готовый к Вашим услугам профессор П. Гидулянов. «Dixi et animam levavi» («Я сказал и облегчил душу» — лат.).
«Умрет вместе со мной…» Тут он ошибся. Из прокуратуры письмо Гидулянова тут же передали в ОГПУ, где и пришили к делу. Своей старательностью перед следователями Гидулянов заработал себе более мягкий приговор в сравнении с другими — высылку вместо концлагеря. Но не спасся. И письмом своим, в котором «облегчил душу», приговорил себя еще раз: был вновь арестован и расстрелян.
В августе, после полугодового тюремного заключения, Флоренского отправили по этапу на Дальний Восток. Ехал он в одном вагоне с уголовниками, так что на место, в лагерь с издевательским названием «Свободный», прибыл ограбленный, изголодавшийся и измученный. Там его ожидало еще одно тяжелое переживание — сообщение из дома о потере библиотеки.
«Вся моя жизнь, — писал он в одном из писем, — была посвящена научной и философской работе, причем я никогда не знал ни отдыха, ни развлечений, ни удовольствий. На это служение человечеству шли не только все время и силы, но и большая часть моего небольшого заработка — покупка книг и т. д. Моя библиотека была не просто собранием книг, а подбором к определенным темам, уже обдуманным. Можно сказать, что сочинения были уже наполовину готовы, но хранились в виде книжных сводок, ключ к которым известен мне одному… Труд всей моей жизни в настоящее время пропал… Уничтожение результатов работы моей жизни для меня гораздо хуже физической смерти».
Надо было в пятьдесят два года, в неволе начинать жить заново. Обрести силы ему помогло то последнее, что никто у него отнять не мог, — вера в Бога. Не сам ли он всегда считал, что беды и страдания неизбежны и даны во благо — для испытания и становления человека?
Даже в условиях лагеря Флоренский сумел вернуться к прерванной научной работе, а когда начальство, решив употребить с пользой такого ученого, перевело его в город Сковородино, на опытную мерзлотоведческую станцию, развернулся с обычным для него размахом. Там Флоренский быстро становится специалистом в новой для себя области — исследовании и хозяйственном использовании малоизученного феномена природы — вечной мерзлоты, организует и проводит серию оригинальных экспериментов, задумывает книгу, отсылает статьи в Академию наук. Там, в Сковородине, пишет лирическую поэму «Оро», собирает материалы для словаря орочей — маленькой местной народности, проводит занятия с заключенными — учит их латыни!
Тем временем неумолимый рок готовит ему новый удар. Флоренского неожиданно помещают в изолятор и потом отправляют под спецконвоем в другое место заключения. Что послужило причиной этой внезапной перемены судьбы — очередной донос или особый приказ, — об этом лубянские архивы умалчивают. Мы узнаем только, что спустя ровно год после переезда Флоренского на Дальний Восток тюремный вагон уже уносил его в обратном направлении — через Сибирь и Урал — к Белому морю, туда, где на архипелаге островов раскинулся печально известный СЛОН — Соловецкий лагерь особого назначения.
Удел величия.
Белое море. Крики белых чаек. И древний белый монастырь с серой каймой стен и башен, сложенных из огромных необтесанных валунов, как призрак, встающий из водной пучины. Неохватный вольный простор — леса, озера, заливы, бухты — и темница, один из самых страшных советских лагерей, с которого началась история ГУЛАГа…
На этот берег ступил в октябре 1934-го Павел Флоренский — после тяжелой дороги, в которой был снова ограблен, «сидел под тремя топорами», как он писал жене, «голодал и холодал… очень отощал и ослаб».
Полвека спустя я ездил на Соловки, специально взял с собой публикации его писем, написанных здесь, ходил по дорожкам, по которым ходил отец Павел, осматривал кельи-камеры, где жил он. Но ничто не развеивало тумана домысла и легенд, окутавшего последнюю главу его жизни. И только когда я открыл лубянское досье Флоренского и в нем обнаружил третье его следственное дело, попавшее сюда с Соловков, стало возможным довести рассказ о нем до конца, до последних лет, месяцев, дней жизни.
Нота безнадежности прорывается только в первом его послании с Соловков, следующие письма уже полны воскресшей силы и решимости. Флоренский ищет пути к самовоплощению и здесь — и находит: новой сферой его научных интересов становится проблема добычи йода и агар-агара[97]. Он со все большим увлечением втягивается в эту работу: разрабатывает технологию, конструирует аппаратуру (здесь им сделано больше десятка запатентованных открытий и изобретений!), в результате чего на Соловках возникает даже свой завод «Йодпром», своя лагерная промышленность. Во время войны, когда Флоренского уже не будет на свете, соловецкий йод очень пригодится, спасет тысячи солдатских жизней.
Письма домой свидетельствуют — интеллект Флоренского вспыхивает с новой силой, кажется, нет такой темы, о которой бы он не размышлял, которой бы не касался в разговорах с близкими: тут и сугубо научные разработки, и общие суждения о человеческой природе, мудрые философские максимы — и практические житейские советы, наблюдения за северным сиянием и птицами — и воспоминания о детстве, оценка прочитанных книг. Он участвует в жизни каждого из членов своей семьи, находит и для жены, и для матери, и для детей свое особое слово — несмотря на то что писать по лагерным условиям можно редко и только под контролем цензуры.
В письмах явлена видимая часть его жизни, но есть и другая — скрытая, она зафиксирована в материалах слежки, в бумагах лагерной охраны. Третье следственное дело Флоренского в основном состоит из однотипных документов с пометкой «Совершенно секретно» — это так называемые «агентурные донесения» или «рабочие сводки», а проще — доносы стукачей, которые, как оказалось, плотно «держали» Флоренского на Соловках и докладывали начальству о каждом его шаге. Все эти донесения помечены крупными буквами «АСЭ» — «антисоветский элемент», оформлены с бюрократической дотошностью: «сдал», «принял», указано и подразделение, стерегущее Флоренского, — Секретно-политический отдел, 3-я часть 8-го Соловецкого отделения ББК (Беломоро-Балтийского канала).
Так благодаря усердию стукачей мы можем теперь узнать кое-что о последней поре жизни Флоренского, услышать его голос, прочитать его мысли, какие он не мог высказать в письмах. Доносы становятся историческим источником.
10 Сентября 1935-го. В «кузнечном корпусе» происходит разговор между Флоренским и другими заключенными — Литвиновым и Брянцевым[98]. Присутствующий тут же сексот (в донесении он зашифрован под кличкой «Хопанин») ловит каждое слово и воспроизводит следующую сцену:
Брянцев. Я слышал по радио, что в Австрии за антигосударственные преступления дают от полутора лет до девяти месяцев каторжных работ. У нас за то же самое наверняка дали бы «вышку»[99].
Флоренский. Действительно, у нас в СССР карают даже ни за что. От меня на Лубянке все требовали, чтобы я назвал фамилии людей, с которыми я будто бы вел контрреволюционные разговоры. После моего упорного отрицания следователь сказал: «Да знаем мы, что вы не состоите ни в каких организациях и не ведете никакой агитации! Но ведь на вас в случае чего могут ориентироваться наши враги, и неизвестно, устоите ли вы, если вам будет предложено выступить против Советской власти».
Вот почему они и дают такие большие срока заключения — это профилактическая политика. «Мы же не можем поступать, как царское правительство, — говорил мне следователь, — оно наказывало за уже совершенные преступления, а мы предотвращать должны, а то как же — ждать, пока кто-то совершит преступление, и только тогда наказывать? Нет, так не пойдет — надо в зародыше пресекать, тогда дело будет прочнее!»…
Литвинов. Ну, при такой политике весь СССР скоро перебудет в лагерях.
Брянцев. И в самой партии сейчас положение не лучше, нет покоя и партийцам.
Флоренский. Это верно, очень много видных, старых большевиков сидит сейчас в изоляторах.
Брянцев. Вот я слежу за положением в Германии. По существу, политика Гитлера очень схожа с политикой СССР.
Флоренский. Правда, и хоть она, эта политика, очень грубая, но, надо признать, довольно меткая…
Через три дня «Хопанин» приносит лагерному начальству донесение еще об одном разговоре Флоренского и Литвинова, в том же «кузнечном корпусе».
Флоренский. Самое страшное то, что после лагерей наша жизнь будет вся измята, исковеркана, и если в стране возникнет какое-нибудь ненормальное явление, то нас сейчас же опять в первую очередь посадят.
Литвинов. Со мной во время следствия сидел один человек, который получил три года за то, что, напившись, стрелял в портрет Калинина.
Флоренский. Неужели Калинин так высоко котируется?..
На этом доносе есть приписка: «Фигуранты состоят под агентурным наблюдением». И еще резолюция: «На этих заключенных обратить особое внимание. Они работают вниилоболотории» — так в оригинале!
Невежество сторожит ученость, глупость — ум, злодейство — доброту, безверие — веру.
Самодурства, предательства и прочей всевозможной подлости Флоренский, надо думать, в лагере хлебнул полной чашей. Так что даже он, при всем своем смирении и терпимости, не может скрыть порой боли и горького разочарования.
«Дело моей жизни разрушено, — пишет он жене. — И если человечество, ради которого я не знал личной жизни, сочло возможным начисто уничтожить то, что было сделано для него… то тем хуже для человечества… Достаточно знаю историю и исторический ход развития мысли, чтобы предвидеть то время, когда станут искать отдельные обломки разрушенного. Однако меня это отнюдь не радует, а, скорее, досадует: ненавистна человеческая глупость, длящаяся от начала истории и, вероятно, намеревающая идти до конца…».
А вот донесение другого сексота — «Евгеньева». 15 января 1936-го Флоренский в беседе о возможности досрочного освобождения из лагеря говорит:
— Я лично от такого рода освобождения ничего хорошего не жду. Сидеть в лагере сейчас спокойнее, по крайней мере, не нужно ждать, что тебя каждую ночь могут арестовать. А ведь на воле только так и живут: как придет ночь, так и жди гостей, которые пригласят тебя на Лубянку…
И снова «Евгеньев» (26 декабря) передает, что думает Флоренский о поступке Ипатьева, химика, члена Академии наук, не вернувшегося из заграничной командировки:
— Я Ипатьева и не осуждаю, и не одобряю: каждый человек — хозяин своей судьбы. Он все взвесил и решил, что остаться там для него правильней будет, и он остался. Об измене тут нельзя говорить, он никому не изменял, а просто решил жить лучше вне радиуса действий наших лагерей…
Принял донесение Монахов — начальник 3-й части, глава местной госбезопасности. Не могу не вспомнить в связи с этим именем и с темой о вольном проживании на Земле случай, происшедший в те же дни, в канун нового, 37-го года (о нем рассказал другой узник Соловков — географ Юрий Чирков[100]).
В лагере был свой «крепостной» театр, в котором играли известные, профессиональные актеры, тоже заключенные. По случаю новогоднего праздника ими был дан концерт в присутствии всего начальства, восседающего в «правительственной ложе». Конферансье изображал разговор двух чаек: соловецкой, перелетевшей на зиму на юг Европы, и французской. Соловецкая чайка так расхваливала Соловки, что француженка тоже решила полететь туда весной. «Ах, милая, — пожалела ее соловчанка, — да ты же иностранка, тебе же пе-ша пришьют (подозрение в шпионаже) и нас подведешь под монастырь (под монастырем, в подвале, производились расстрелы), да и кого смотреть — монахов нет, Монахов — есть». Огорчилась француженка: «Ну ваши Соловки к монаху!».
Начальство оценило шутку — конферансье на следующий день был посажен в штрафной изолятор.
Каждый человек — хозяин своей судьбы. Химик Ипатьев сделал выбор, предпочел чужбину лагерной Родине. А что же сам Флоренский — ведь он после революции, зная, чем она ему грозит, имел возможность эмигрировать, как это сделали многие его друзья? Пожалел ли он теперь, что остался на своей несчастной Родине? Думается, что нет.
Размышляя о том же, его друг Сергей Булгаков писал: «Это было не случайно, что он не выехал за границу, где могли, конечно, ожидать его блестящая научная будущность и, вероятно, мировая слава, которая для него и вообще, кажется, не существовала. Конечно, он знал, что может его ожидать, не мог не знать, слишком неумолимо говорили об этом судьбы родины, сверху донизу, от зверского убийства царской семьи до бесконечных жертв насилия власти. Можно сказать, что жизнь ему как бы предлагала выбор между Соловками и Парижем, но он избрал… родину, хотя то были и Соловки, он восхотел до конца разделить судьбу со своим народом. Отец Павел органически не мог и не хотел стать эмигрантом в смысле вольного или невольного отрыва от родины, и сам он, и судьба его есть слава и величие России, хотя вместе с тем и величайшее ее преступление».
И еще одно, последнее донесение, без даты. Флоренский и другой заключенный идут в библиотеку, громко разговаривая и жестикулируя. За ними неотступно следует сексот «Товарищ» и внимательно слушает. Речь идет о будущей войне.
— Предположения известного стратега и идеолога партии Троцкого, что скоро начнется война, оправдаются, — говорит Флоренский. — Это закон — война вспыхивает периодически через пятнадцать-двадцать лет…
Короткий и с виду безобидный донос имел далекоидущие последствия. По нему была составлена специальная «Справка на П. А. Флоренского», которая гласит: «В лагере ведет контрреволюционную деятельность, восхваляя врага народа Троцкого». И подписана она начальником Соловецкой тюрьмы Апетером и его помощником по оперативной части Раевским[101]. Этот документ очень важен, он вшит в самое начало следственного дела, из чего следует, что донос «Товарища» послужил формальным поводом для нового осуждения уже заключенного отца Павла.
Именно тогда, летом 37-го, в целях ужесточения режима лагерь был реорганизован, «Йодпром» закрыт, СЛОН превратился в СТОН — Соловецкую тюрьму особого назначения. На остров нахлынуло новое начальство из НКВД, оттеснив прежнее, — явились все в длинных кожаных пальто, в фуражках госбезопасности.
Письмо, помеченное 4 июня, уже полно трагических предчувствий:
«В общем, все ушло (всё и все). Последние дни назначен сторожить по ночам в бывшем „Йодпроме“ произведенную нами продукцию… Отчаянный холод в мертвом заводе, пустые стены и бушующий ветер, врывающийся в разбитые стекла окон, не располагают к занятиям, и, ты видишь по почерку, даже письмо писать окоченевшими пальцами не удается… Жизнь замерла, и в настоящее время мы более чем когда-либо чувствуем себя отрезанными от материка… Вот уже 6 часов утра. На ручей идет снег, и бешеный ветер закручивает снежные вихри. По пустым помещениям хлопают разбитые форточки, завывает от вторжений ветра. Доносятся тревожные крики чаек. И всем существом ощущаю ничтожество человека, его дел, его усилий…».
На этом связь отца Павла с домом оборвалась. Начались легенды.
— Как он погиб? — спрашиваю я внуков Флоренского. — Что вы знаете о его последних днях?
Мы сидим в одном из залов Духовной академии Троице-Сергиевой лавры, за круглым столом, располагающим к беседам, говорим неторопливо, вполголоса, как и приличествует месту, но все равно в голосе моих собеседников прорывается волнение. Они, эти два человека — игумен Андроник, кандидат богословия, преподаватель Духовной академии, и Павел Васильевич Флоренский — доктор геолого-минералогических наук, — как бы разделили между собой то, что в отце Павле было слито воедино: один ушел в религию, в священство, другой — в науку, но память о деде вновь объединяет их: они бережно хранят ее, публикуют его работы, пропагандируют его огромное наследие.
— Официальная дата смерти, которую нам сообщили, — 1943 год, — говорит Павел Васильевич, но мы никогда в нее не верили. Есть больше десятка разных версий: расстрелян на Колыме во время войны — об этом сообщает Солженицын, убит при несчастном случае упавшим бревном в 1946-м в Подмосковье, расстрелян на Воркуте, расстрелян после освобождения из сибирских лагерей, зарезан уголовниками, потоплен на барже при ликвидации Соловецкого лагеря, скончался на Соловках от истощения. А еще, по одной из легенд, он еще долго работал в какой-то энкавэдэшной шарашке[102] и делал атомную бомбу…
— Ну это уж совсем невероятно! — удивляюсь я.
— Ничего невероятного! Знаете, что мне однажды сказала Анна Михайловна, моя бабушка? «Хорошо, что Павлуша не дожил до наших дней». Я был так поражен, спрашиваю, почему? «Потому что теперь он делал бы атомную бомбу…» Он ведь очень многое предсказал и предвидел. Вот, например, писал с Соловков моему отцу — тот тоже был геологом — о методах изучения земных пород, а применил эти методы уже я, совсем недавно, при изучении образцов лунного грунта. В тех же письмах Павел Александрович давал анализ так называемой «тяжелой воды», теперь известно, что тяжелая вода — один из компонентов производства атомных бомб. Так что опасения моей бабушки имели под собой почву…
— Нам рассказывали и писали, — вступает мягко и тихо игумен Андроник, — что на Соловках отец Павел многих обратил лицом к Богу, даже равнодушных к религии, завзятых атеистов, у многих там под его влиянием произошел духовный переворот. У него всегда хранились сухари, кусочки хлеба — помочь голодному. И духовным хлебом он поддержал многих. В лагере он был, как рассказывают, самым уважаемым человеком и авторитетом. По одной легенде, когда его гроб выносили из больницы, все заключенные, даже отпетые уголовники, встали на колени и сняли шапки. Пусть это легенда — но очень показательная. Вообще же правда о его смерти спрятана глубоко, кто-то очень не хочет, чтобы она открылась…
Когда мы встречались, лубянские архивы были еще недоступны.
Осенью 37-го на Соловках царил переполох: спешно отправляли этап заключенных, на баржах, в Ленинград. Свидетель тех событий, Юрий Чирков, вспоминает:
«Неожиданно выгнали всех из открытых камер кремля на генеральную проверку. На проверке зачитали огромный список — несколько сот фамилий — отправляемых в этап. Срок подготовки — два часа. Сбор на этой же площади. Началась ужасная суета. Одни бежали укладывать вещи, другие — прощаться со знакомыми. Через два часа большая часть этапируемых уже стояла с вещами. В это время из изолятора вышли колонны заключенных с чемоданами и рюкзаками, которые направлялись не к Никольским воротам, где была проходная, а к Святым воротам, которые выходили на берег бухты Благополучия. Я подбежал к краю „царской“ дороги еще до приближения колонн и видел всех проходящих мимо, ряд за рядом, по четыре человека в ряду. На всех было одно общее выражение — собранность и настороженность…
Увидели меня. Кивают головами, а руки заняты чемоданами. И мимо, мимо идут ряды…».
Никто из них не знал, что эта дорога — на расстрел, отправляли как бы в другие лагеря, чтобы до последней минуты они не догадались, что их ждет.
Вслед за этим этапом — 1116 человек — так же отправляли через месяц и второй этап. Расстрельная директива для Соловецкой тюрьмы была уже выполнена, так что еще 509 человек обрекли на смерть уже «в порядке перевыполнения плана». Среди них был и отец Павел Флоренский.
И вот узкая полоска бумаги, согнутая пополам. На одной стороне напечатано: «Флоренский Павел Александрович», на другой: «Флоренского Павла Александровича — расстрелять». И жирная красная галочка. Это выписка из протокола заседания Особой тройки Ленинградского управления НКВД от 25 ноября 1937 года, подписанная лейтенантом ГБ Сорокиным.
Итак, 2–3 декабря второй соловецкий этап переправили на баржах на материк — зима была необычайно теплой, навигация затянулась. В Кеми заключенных сверили, рассортировали, погрузили в столыпинские вагоны и отправили дальше, на Ленинград. 7 декабря начальник Управления НКВД Ленинградской области Заковский[103] подписал предписание на расстрел этапа.
Самый последний документ соловецкой папки был схоронен в особом желтом конверте и скреплен круглой печатью:
АКТ.
Приговор тройки УНКВД Ленинградской области в отношении осужденного к высшей мере наказания Флоренского Павла Александровича приведен в исполнение 8 декабря 1937 г., в чем составлен настоящий акт.
Комендант УНКВД Ленинградской обл., ст. лейтенант ГБ А. Поликарпов[104].
В письме с Соловков Флоренский писал: «Удел величия — страдание, страдание от внешнего мира и страдание внутреннее, от себя самого. Так было, так есть и так будет. Почему это так — вполне ясно, это отставание по фазе: общества от величия и себя самого от собственного величия… Ясно, свет устроен так, что давать миру можно не иначе, как расплачиваясь за это страданиями и гонением. Чем бескорыстнее дар, тем жестче гонения и тем суровее страдания. Таков закон жизни, основная аксиома ее… За свой же дар, величие приходится расплачиваться кровью».
Что такое величие? Не знаю. Знаю лишь то, что оно есть. Есть и святость, хоть она и невидима — как невидим нимб над головой отца Павла Флоренского.
Песня Гамаюна. НИКОЛАЙ КЛЮЕВ.
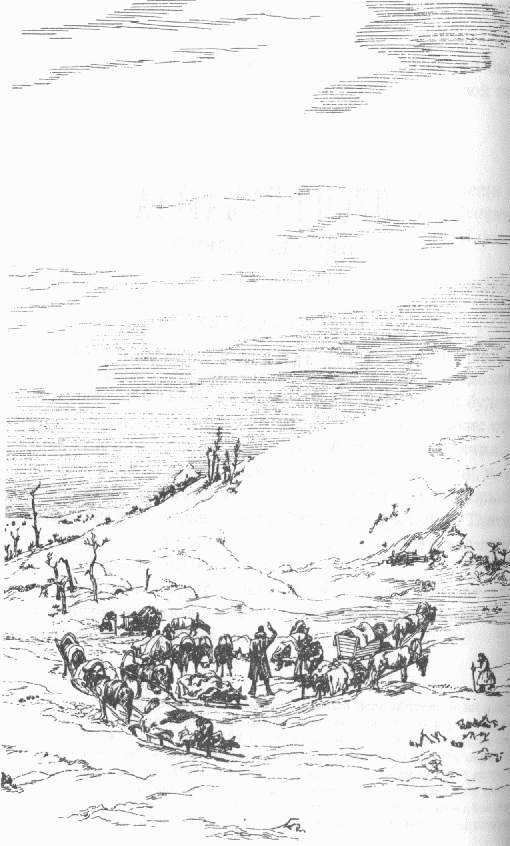
Советский Аввакум.
Сдан заживо в архив.
Песнь о Великой Матери.
Тотальная стерилизация мозгов и душ еще никогда и нигде не проводилась столь успешно, как у нас: народ остался без своих лучших певцов и пророков. И это особое внимание сталинской власти к творческой интеллигенции, к литературе понятно: верховному палачу и его подручным важно было лишить общество самосознания. Безжалостно вылавливая и истребляя писателей, карательная система посягала и на их творчество — само Слово оказалось за решеткой!
Арестованное Слово во многом для нас уже навсегда потеряно — превращено в пепел и дым. И литературные сокровища — рукописи, которые удалось обнаружить на Лубянке и вызволить оттуда, уцелели чудом.
Были и в то время, когда, кажется, весь мир оглох от коммунистического марша — «Нам нет преград ни в море, ни на суше!», одинокие мудрецы и провидцы, которые подавали голос протеста против тирании, взывали к разуму и совести и предрекали страшную расплату за геноцид против собственного народа, попавшего в положение туземцев, колонизированных огнем и мечом.
Рукописи эти — одновременно и художественные произведения, и документы трагической эпохи. Читая их, ловишь себя на мысли: Бог ты мой, чего мы были лишены! И как все-таки богаты! Нас убивают, травят, рубят на корню, а мы вопреки всему еще удивляем мир духовными взлетами.
Советский Аввакум.
А перед этим был звонок из КГБ:
— Приезжайте! Поздравляем вас, там есть стихи…
Речь шла о следственном деле поэта Николая Клюева, арестованного более полувека назад. Его имя стояло одним из первых в том списке-запросе, который я подал на Лубянку с надеждой найти в ее тайниках уцелевшие рукописи. И вот — там есть стихи!
Вместе с делом положили передо мной толстую папку с рукописями — груду разрозненных листов и листочков, исписанных рукой поэта, его размашисто-затейливым почерком, со всеми следами мук творчества — исправлениями, вычеркиваниями, вариантами, пометками.
Все это было перемешано с письмами, блокнотами, газетными вырезками, мелкими бумажками с адресами и фамилиями — трудно было разобраться в них, понять, что здесь есть ценного, соединить отдельные страницы произведений в единое целое. Немало времени ушло на расшифровку рукописей, переписку, анализ текста, выяснение темных мест, сличение с уже изданным, известным наследием поэта. Но вся эта работа стала радостной и волнующей, когда из вороха пожелтевших бумаг вырвался на свободу сам голос Клюева, зазвучала музыка его стихов, открылись глазам поэтические шедевры, никому еще не известные…
Так для меня настал новый, клюевский период жизни, затянувшийся на много месяцев.
Кто же он был — Николай Клюев?
Мракобес и реакционер, враг народа, преступник — заклеймила его советская власть.
Один из лучших поэтов России, уже при жизни ставший классиком, — на этой высокой оценке сходились крупнейшие литературные авторитеты его времени, независимо от их направлений и пристрастий.
Александр Блок: «Клюев — большое событие в моей осенней жизни».
Николай Гумилев: «Пафос поэзии Клюева — редкий, исключительный — это пафос нашедшего… Что он — экзотическая птица… или провозвестник новой силы, народной культуры?».
Андрей Белый: «Сердце Клюева соединяет пастушескую правду с магической мудростью, Запад с Востоком, соединяет воистину воздыханья четырех сторон Света… Народный поэт говорит от лица ему вскрывшейся Правды Народной».
Осип Мандельштам: «Клюев пришел от величавого Олонца[105], где русский быт и русская мужицкая речь покоятся в эллинской важности и простоте».
Сергей Есенин: «Клюев — мой учитель»; «Апостол нежный Клюев нас на руках носил».
Так говорит о Клюеве Серебряный век нашей литературы.
И вот что говорит наступивший вскоре советский, Железный век: Клюев — «отец кулацкой литературы», «средневековый мистик» («Литературная энциклопедия», 1931), «литературный агент капитализма», «враждебный элемент» («Литературная газета», 1930).
Эта пропасть во взглядах на Клюева двух веков культуры, в которые ему довелось жить, — пропасть, отделившая интеллект от невежества, цивилизацию от дикости, истинную литературу от ее уродливого идеологического двойника.
Клюеву выпали на долю испытания, похожие на те, какие переживал его кровный предок — знаменитый проповедник XVII века, борец и страстотерпец за старую веру отцов, протопоп Аввакум. От него поэт унаследовал и пророческий дар, и верность своему идеалу. И как расплату за это — такую же обреченную, гибельную судьбу.
Подвели поэта к воротам Лубянки и сдали туда сами советские писатели. Это они, конечно, с одобрения и по указке властей, но с величайшим рвением и злобой начали преследовать его: изгнали из своих рядов — исключили из писательского союза, отлучили от редакций, травили в печати, довели до нищеты и голода. Кормился он, читая стихи на чужих застольях и званых обедах, случалось, что и милостыню просил — на рынке и церковной паперти.
Изгнание из литературы грозило изгнанием из жизни. Нужен был только небольшой толчок, внешний повод. И он нашелся.
Об этом откровенно рассказал на одном литературном вечере главный виновник происшествия Иван Гронский, партийный функционер, тогдашний ответственный редактор газеты «Известия» и журнала «Новый мир». И рассказал-то когда — вернувшись из многолетнего лагерного заключения, уже в 1959-м, во времена «оттепели», после разоблачения пресловутого культа личности, рассказал, не стесняясь, без тени раскаяния — уверенный в своей правоте!
А было так — вполне в духе подлого литературного быта.
Ходивший в учениках Клюева молодой, ярко одаренный поэт Павел Васильев[106] однажды сообщил Гронскому (они были женаты на родных сестрах и жили в одной квартире) некоторые житейские подробности о своем учителе, не укладывающиеся в общепринятые рамки. И что же сделал Гронский, который питал к Клюеву классовую ненависть, считал его идеологическим врагом?
— Я позвонил Ягоде и попросил убрать Клюева из Москвы в двадцать четыре часа. Он меня спросил: «Арестовать?» — «Нет, просто выслать». После этого я информировал Иосифа Виссарионовича Сталина о своем распоряжении, и он его санкционировал…
Арест — 2 февраля 1934 года — производил сотрудник оперативного отдела ОГПУ Шиваров, все тот же многоопытный лубянский писателевед Христофорыч — через три с половиной месяца, разделавшись с Клюевым, он возьмется за другого поэта — Осипа Мандельштама. И ордер на арест подписало то же лицо, что и в случае Мандельштама, — заместитель председателя ОГПУ Яков Агранов.
После обыска Клюев вместе с изъятыми у него рукописями был отвезен во внутреннюю тюрьму Лубянки. Следователь вцепился в своего подопечного мертвой хваткой и начал исправлять его биографию по-своему, уже с анкеты. Национальность? «Великоросс», — записывает поэт. «Русский», — исправляет Шиваров. Образование? «Грамотен». «Самоучка», — вписывает опер.
И это укрощение арестованного, судя по всему, не ограничивалось словами. На фотографии, сделанной на Лубянке и сохранившейся в деле, мы в последний раз видим лицо поэта — полное страдания и трагического величия, лицо с явными следами насилия — ссадинами и рубцами — свидетельство того, что к нему применялись так называемые «методы активного следствия».
Дело для Христофорыча было очевидным и даже почетным — спущено с самого верха. И он постарался, провернул его быстро, всего за месяц.
Прежде всего арестованному было предъявлено обвинение: «Принимая во внимание, что гражданин Клюев достаточно изобличен в том, что активно вел антисоветскую агитацию путем распространения своих контрреволюционных литературных произведений… Клюева привлечь в качестве обвиняемого по статье 58–10 Уголовного кодекса».
Вот так — арестованный достаточно изобличен еще до начала следствия!
15 Февраля состоялся решающий допрос. Оформляя протокол, следователь, конечно, направлял его по-своему и расставлял акценты как ему нужно. Вряд ли, например, Клюев мог назвать свои взгляды «реакционными». И все же документ получился правдивый. Шиварову не пришлось особенно стараться в редактировании ответов подследственного, тот и не скрывал своего отношения к советской власти, не отрекался от своих стихов.
Вопрос. Каковы ваши взгляды на советскую действительность и ваше отношение к политике Коммунистической партии и Советской власти?
Ответ. Мои взгляды на советскую действительность и мое отношение к политике Коммунистической партии и Советской власти определяются моими реакционными религиозно-философскими воззрениями.
Происходя из старинного старообрядческого рода, идущего по линии матери от протопопа Аввакума, я воспитан на древнерусской культуре Корсуня[107], Киева и Новгорода и впитал в себя любовь к древней, допетровской Руси, певцом которой я являюсь.
Осуществляемое при диктатуре пролетариата строительство социализма в СССР окончательно разрушило мою мечту о Древней Руси. Отсюда мое враждебное отношение к политике Компартии и Советской власти, направленной к социалистическому переустройству страны. Практические мероприятия, осуществляющие эту политику, я рассматриваю как насилие государства над народом, истекающим кровью и огненной болью.
В. Какое выражение находят ваши взгляды в вашей литературной деятельности?
О. Мои взгляды нашли исчерпывающее выражение в моем творчестве. Конкретизировать этот ответ могу следующими разъяснениями.
Мой взгляд, что Октябрьская революция повергла страну в пучину страданий и бедствий и сделала ее самой несчастной в мире, я выразил в стихотворении «Есть демоны чумы, проказы и холеры…», в котором я говорю:
А дальше:
И там же:
Я считаю, что политика индустриализации разрушает основу и красоту русской народной жизни, причем это разрушение сопровождается страданиями и гибелью миллионов русских людей. Это я выразил в своей «Песне Гамаюна»[109]… Более отчетливо и конкретно я выразил эту мысль в стихотворении о Беломорско-Балтийском канале[110], в котором говорю:
А дальше:
Окончательно рушит основы и красоту той русской народной жизни, певцом которой я был, проводимая Коммунистической партией коллективизация. Я воспринимаю коллективизацию с мистическим ужасом, как бесовское наваждение. Такое восприятие выражено в стихотворении, в котором я говорю:
Мой взгляд на коллективизацию, как на процесс, разрушающий русскую деревню и гибельный для русского народа, я выразил в своей поэме «Погорельщина», в которой картины людоедства я заканчиваю следующими стихами:
В. Кому вы читали и кому давали на прочтение цитируемые здесь ваши произведения?
О. Поэму «Погорельщина» я читал главным образом литераторам, артистам, художникам. Обычно это бывало на квартирах моих знакомых, в кругу приглашенных ими гостей. Так, читал я «Погорельщину» у Софьи Андреевны Толстой[112], у писателя Сергея Клычкова, у писателя Всеволода Иванова, у писательницы Елены Тагер[113], у художника Нестерова и в некоторых других местах, которые сейчас вспомнить не могу.
Остальные процитированные здесь стихи незаконченные. В процессе работы над ними я зачитывал отдельные места — в том числе и стихи о Беломорском канале — проживающему со мной в одной комнате поэту Пулину. Некоторые незаконченные мои стихи взял у меня в мое отсутствие поэт Павел Васильев. Полагаю, что в числе их была и «Песня Гамаюна»…
Поступок Павла Васильева упомянут здесь не случайно. Клюев, видимо, считал его виновником своего ареста. Он взял у Клюева стихи, которые были поставлены ему в вину, взял без разрешения. И он же, как мы знаем, рассказал своему родственнику Гронскому что-то такое, что дало повод тому позвонить Ягоде. Можно предполагать, что это что-то касалось не только интимной жизни Клюева, но и его крамольных стихов, таких как «Песня Гамаюна».
Свои показания Клюев подтверждает стихами — потому они и сохранились в деле, не были уничтожены, что служили доказательством его антисоветских взглядов. Так же было и с Мандельштамом. Оба поэта дали следствию неопровержимую улику — свои поэтические строки — и тем выдали себя с головой, потому что дышали, страдали и мыслили стихами. Да и как может быть иначе: искренность — природа поэзии!
За время работы в архивах Лубянки передо мной прошли десятки писательских судеб. По-разному вели себя люди, попадая в руки Органов. Одни сразу, послушно давали любые показания, даже и без особого нажима каялись в несуществующих грехах. Другие сдавались на каком-то этапе следствия, не в силах противостоять насилию. Третьи меняли тактику и, дав требуемые показания, отрекались от них во время суда.
И только Клюев и Мандельштам вели себя на следствии бескомпромиссно и твердо. Самые хрупкие, казалось бы, поэтические души оказались и самыми стойкими. Их можно было или уничтожить, или принять такими, какие они есть. Конечно, высокий дух — сам по себе сила. И чем талантливей человек, чем ближе к гениальности, тем он и более целен, тем ему труднее продать душу дьяволу — ибо душа уже принадлежит другому, высшему.
И еще одно — глубокая религиозность Николая Клюева. Твердая точка опоры в Боге — в противовес земному шатанию.
К протоколу допроса Клюева приложен цикл его неопубликованных, неизвестных доселе стихов «Разруха». Сердцевина его — «Песня Гамаюна» — грозное пророчество, обращенное в будущее, прямо в наши дни. Ничего подобного по степени мистического прозрения нет не только в русской поэзии, но, кажется, и во всей мировой. Клюев возвращает нас к древним, античным представлениям о поэте-пророке, доказывает, что это — не метафора, не гипербола, а дар Божий, ниспосланный человеку.
ПЕСНЯ ГАМАЮНА.
Гамаюн — птица вещая. Ужас охватывает, оторопь берет, когда читаешь эти строки, видишь страшную картину, написанную поэтом огненными мазками. Она не только в стихах Клюева — но и в теперешней жизни, наяву. Уже шесть десятилетий назад предвидел поэт ту катастрофу, которая постигла русскую землю в наше время: и оскудение народного духа, песенного творчества, и гибель природы — уничтожение нив, лесов, рек и птиц. И только шесть десятилетий понадобилось для этого советской власти!
«К нам вести горькие пришли, что зыбь Арала в мертвой тине…» Как мог поэт предугадать обмеление и высыхание Аральского моря из-за варварского строительства многочисленных отводных каналов, случившиеся теперь?
Или: «И Север — лебедь ледяной — истек бездомною волной…» Что такое эта «бездомная волна» Севера? Уж не экологическое ли бедствие от безрассудной правительственной затеи переброса наших северных рек на юг, в пустыни Средней Азии? Она и поныне продолжает висеть над нами, эта угроза, — отсроченный, но неотмененный, время от времени снова возникающий в устах политиков призрак — безумнейший проект века. О том же — сон Клюева, записанный в 20-х годах, экологическое предчувствие: «Ушли воды русские, чтобы Аравию поить».
Еще вчера мы не смогли бы расшифровать клюевскую строку: «И в светлой Саровской пустыне скрипят подземные рули…» И лишь во времена гласности стало известно, что в заповедном местечке Нижегородского края — Саровской пустыни, где когда-то подвижничал святой Серафим Саровский, разместился секретный город Арзамас-16, в котором — на земле и под землей — создавалось оружие для атомных подводных лодок. Именно здесь почти двадцать лет проработал академик Сахаров. Так вот скрип каких подземных рулей слышал Николай Клюев!
Подобными пророчествами полны и другие стихи поэта, открывшиеся в лубянском досье. Тут и «черные вести» несущий «скакун из Карабаха» — о войне в Нагорном Карабахе следили мы с болью и тревогой по телевизионным вестям. Тут и великие сибирские реки Иртыш и Енисей, которые «стучатся в океан, как нищий у дверей…» Не мы ли — богатейшая в мире по природным ресурсам страна — выпрашивали помощь у мира? И разве не о нас всех в грозный час Чернобыля — вещее слово поэта?
Мотив, восходящий к Апокалипсису: «И упала с неба большая звезда. Имя сей звезде полынь». Одно из народных названий травы полыни — чернобыль.
Понятно, почему стихи Клюева до сего времени были запрятаны от народа за семью замками и печатями. Как понятно и то, почему за них поэт был навсегда изъят из жизни.
Сдан заживо в архив.
То, о чем я сознательно умолчал при первой публикации материалов из следственного дела Клюева, считая, что наше общество не готово спокойно и просвещенно принять это, — мужская ориентация поэта в любви. Теперь уже много об этом сказано[114], и можно уже, мне кажется, говорить об этом без опасения как-то повредить памяти поэта. Рано или поздно это необходимо было бы сделать, потому что без этой стороны жизни Клюева, вовсе не уголовно-патологичной, а претворенной красотой, проникнутой античной светлостью, попросту нельзя понять его мироощущение, многие его стихи, любовную лирику.
Кроме уже известного допроса Клюева о его антисоветской деятельности был еще один допрос, произведенный сразу в день ареста, 2 февраля 1934-го. Вот он.
«Вопрос. К какому периоду относится начало ваших связей на почве мужеложества?
Ответ. Первая моя связь на почве мужеложества относится к 1901 г…».
Тогда, в 1901-м, ему исполнилось семнадцать лет. Как явствует из автобиографической «Гагарьей судьбины», в шестнадцать, по настоянию матери, Клюев уходит на Соловки, «спасаться», где надевает вериги. Знакомый поэта, Иона Брихничев, со слов самого Клюева, так передает это время: «Совсем юным, молоденьким и чистым попадает поэт в качестве послушника в Соловецкий монастырь, где и проводит несколько лет. Но что выносит он среди грубых, беспросветно грубых и развратных соловецких монахов — об этом я здесь умолчу». С Соловков начинает Клюев странствие по монастырям и скитам и становится «царем Давидом», то есть песнетворцем в мистической секте духовных христиан. «Я был тогда молоденький, тонкоплечий, ликом бел, голос имел заливчатый, усладный» — таким Клюев рисует себя тогда. Именно в это время он и сочинил первые «псалмы», начал свой путь поэта.
Вернемся к допросу.
Вопрос. Можете ли вы назвать все свои связи на почве мужеложества с этого времени?
Ответ. Это будет мне затруднительно, легче будет мне назвать мои связи на этой почве за последние годы.
В. С кем вы поддерживали установившиеся связи на почве мужеложества за последние годы?
О. 1) с Львом Пулиным, проживавшим у меня в течение последних 6–7 месяцев; 2) с Анатолием Кравченко, за период с 1928 по 1932 г., без непосредственного полового акта; 3) с Львом Груминским в 1927–28 гг., точней установить этот срок затрудняюсь.
Допросил: оперуполномоченный 4 СПО ОГПУ Шиваров.
Записанное с моих слов верно и мною прочтено: Н. Клюев.
О художнике Анатолии Кравченко известно достаточно много. О поэте Льве Ивановиче Пулине[115] мало. Был сослан в Сибирь, в Мариинский лагерь, на три года, переписывался с Клюевым, в 1936-м уже был на свободе. Клюев упоминал о нем как об «исключительном событии в моей жизни поэта. Это очень нежный и слабый человек». А вот о Льве Груминском я не встречал вообще никаких следов и упоминаний.
В составленном Шиваровым 7 февраля «Постановлении об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения» указано, что Клюев «достаточно изобличен в том, что активно вел антисоветскую агитацию путем распространения своих контрреволюционных литературных произведений и с 1901 г. занимался мужеложеством». Таким образом, он был привлечен в качестве обвиняемого по двум статьям — 58–10 и 16–151 УК РСФСР.
151-Я статья — это «Половое сношение с лицами, не достигшими половой зрелости». Судя по допросу, она к Клюеву совершенно не подходит. И потому статья эта была применена к Клюеву «через 16-ю», с оговоркой: «Если то или иное общественно опасное действие прямо не предусмотрено настоящим кодексом, то основание и пределы ответственности за него определяются применительно к тем статьям кодекса, которые предусматривают наиболее сходные по роду преступления». «Это означает, — пишет биограф поэта Константин Азадовский, — что Клюев был „подведен“ под 151-ю статью, в действительности же его „преступление“ носило иной характер. Какой именно? Не считаем нужным — в данном случае — докапываться до истины».
На допросе 15 февраля 1934-го Клюев говорит, что читал отдельные стихи, «в том числе и стихи о Беломорском канале, — проживающему в одной со мной комнате поэту Пулину».
Обвинительное заключение гласит: «приведенные показания Клюева виновным его в составлении и распространении контрреволюционных литературных произведений и в мужеложестве подтверждают». Однако в протесте прокурора при реабилитации поэта в 1988-м сказано: «Следствием не доказана вина Клюева и в совершении им актов мужеложества».
Дело № 3444 было заведено на двоих: на Клюева — обвиненного по двум статьям, и на Пулина — только по статье 16–151. Но 2 марта следователь составил постановление, в котором «нашел, что дело в отношении Пулина Льва Ивановича требует дополнительного доследования, и потому постановил: выделить дело Пулина Л. И. в особое дело и следствие по нему продолжить. Справка: Пулин Л. И. арестован 2 февраля и содержится в Бутырском изоляторе».
В следственное досье Клюева попало после обыска — гребли поспешно, в одну кучу! — множество записей, мелких бумажек и обрывков Льва Пулина, жившего у Клюева молодого человека, студента. Например, черная записная книжка его, в которой есть «тайник»: внутрь обложки вложена обрезанная круглая фотография — головка красивой девушки. Есть и стихи Пулина:
На заседании коллегии ОГПУ 5 марта 1934 года дело Клюева шло по счету восемнадцатым — поток! Постановили: заключить в концлагерь на пять лет, с заменой высылкой в Сибирь, в Нарымский край, на тот же срок.
Добравшись до места ссылки, Клюев пишет своему ближайшему другу, поэту Сергею Клычкову: «Я сгорел на своей „Погорельщине“, как некогда сгорел мой прадед протопоп Аввакум на костре пустозерском[116]. Кровь моя волей или неволей связует две эпохи: озаренную смолистыми кострами и запалами самосожжений эпоху царя Федора Алексеевича и нашу, такую юную и потому многого не знающую. Я сослан в Нарым, в поселок Колпашев, на верную и мучительную смерть… Четыре месяца тюрьмы и этапов, только по отрывному календарю скоро проходящих и легких, обглодали меня до костей… Небо в лохмотьях, косые, налетающие с тысячеверстных болот дожди, немолчный ветер — это зовется здесь летом, затем свирепая пятидесятиградусная зима, а я голый, даже без шапки, в чужих штанах, потому что все мое выкрали в общей камере. Подумай, родной, как помочь моей музе, которой зверски выколоты провидящие очи?!».
А в это время в Москве с большой помпой проходит Первый съезд советских писателей. Клюев послал заявление-письмо на съезд. Даже не обсуждали — не до того! Никто из делегатов не смел коснуться в своих речах опасной темы, никто не вспомнил об опальных коллегах, все они приветствуют светлое настоящее и еще более светлое будущее, в котором многие из них скоро пойдут той же скорбной дорогой на эшафот.
С каждым годом эта кровавая писательская стезя будет становиться все шире и многолюднее. Приговорят к расстрелу и Сергея Клычкова, который, рискуя жизнью, связывал ссыльного Клюева с внешним миром. И еще два имени, которые поминал Клюев в своих сибирских письмах: Осип Мандельштам, тоже отбывающий ссылку («Как поживает Осип Эмильевич? Я слышал, что будто он в Воронеже?»), и Павел Васильев («Неужели он пройдет мимо моей плахи — только с пьяным смехом?» «Виноват он передо мной черной виной…»), — через несколько лет и они — собрат Клюева по несчастью, и ученик, предавший учителя, — погибнут, один в лагере, другой от пули чекистского палача.
1935 Год Клюев встретил в Томске, куда был переведен из Колпашева. Вроде бы послабление — большой город и чуть ближе к Москве, но та же Сибирь и то же бесправие ссыльнопоселенца. Положение поэта не изменилось к лучшему: по-прежнему ютился у чужих людей, нищенствовал, голодал — по воскресеньям ходил на базар за милостыней.
— Вон ссыльный дедушко идет! — кричала детвора. Дедушке было пятьдесят лет.
Как раз в это время в Москву, к Горькому, приехал в гости из Парижа Ромен Роллан, — советская пресса раструбила это событие на весь мир. «Как гостил Жан-Кристоф? — спрашивает с горькой иронией Клюев в одном из писем. — Увидел ли он святого Христофора на русских реках?» (о Кристофе-Христофоре, который переносит через бурный поток младенца — Грядущий день, идет речь в романе Роллана «Жан-Кристоф». Клюев не стал обращаться к знаменитому писателю, хотя тот мог бы попытаться помочь — его принимал в Кремле сам Сталин. Видимо, не верил в успех. Не стал обращаться и к Горькому: «Горькому я не писал — потому что Крючков[117] все равно моего письма не пропустит». Русскую реку переходил не святой Христофор, а слуга Сатаны — Христофорыч…
И все же поэт продолжал работать — не мог жить без стихов, записывал отдельные строфы на чем придется — на обрывках бумаги, клочках от бумажных кульков…
С неумолимой достоверностью предстает из материалов КГБ финал жизни Николая Клюева, который еще до недавних дней был загадкой. По одной версии он умер от сердечного приступа на какой-то железнодорожной станции, и при этом у него исчез чемодан с рукописями (даже посмертная легенда связывает судьбу поэта с его рукописями!). По другой — скончался в Томской тюрьме. По третьей — не просто в тюрьме, но в тюремной бане, — об этом рассказывала, со слов некоего священника, Анна Ахматова — случай, в точности похожий на смерть Мандельштама…
И лишь когда удалось распечатать лубянское досье поэта и еще одно следственное дело, уже 1937 года, найденное в Томском управлении КГБ, сомнения рассеялись, заговорили факты.
В марте 1936-го жизнь Клюева снова повисла на волоске. Последовал новый арест и тюрьма. Арестованный был так слаб и болен, что содержать его пришлось не в камере, а в тюремной больнице. В июле его выпустили, временно, видимо, не хотели, чтобы он умер в руках чекистов. Из тюрьмы поэт вышел уже окончательным калекой, много месяцев не мог подняться с постели. «Если меня еще раз обидят и арестуют, — писал он в своем последнем послании друзьям, — я этого уже не вынесу, так как сердце мое уже не выдержит страданий, поминайте меня тогда на погосте».
Подтверждение стихотворным озарениям Клюева — его сны, видения, которые можно издать отдельной книжечкой, как особый художественный жанр. Среди них есть такой, ранний, погибельный сон 23 февраля 1923 года:
«Взят я под стражу… В тюрьме сижу… Безвыходно мне и отчаянно… „Господи, думаю, за что меня?“ А сторож тюремный говорит: „За то, что в дневнике царя Николая II ты обозначен! Теперь уж никакая бумага не поможет!“ И подает мне черный, как грифельная доска, листик, а на листике белой прописью год рождения моего, имя и отчество назнаменованы. Вверху же листа слово „жив“ белеет… Завтра казнь… Безысходна тюрьма и не вылизать языком белых букв на черном аспиде».
Вспоминается очень точная фраза друга Клюева, Сергея Клычкова, которую какой-то секретный агент донес на Лубянку: «Сдан заживо в архив — Клюев, осужден. Пропечатан в черных списках».
«Черные листики», «черный аспид» — это не что иное, как чекистские досье и дела, на которых белыми буквами прописаны миллионы жизней. И, увы, никаким языком их уже оттуда не вылизать. А как бы хотелось, как бы хотелось, чтобы Лубянки — этого кровавого монстра — вообще не было в нашей истории!
Прошло четырнадцать лет после клюевского сна, и 25 марта 1937-го начальник Управления НКВД Западно-Сибирского края Миронов (Король)[118] на совещании чекистов дает руководящие указания: «Клюева надо тащить по линии монархическо-фашистского типа, а не на правых троцкистов. Выйти через эту контрреволюционную организацию на организацию союзного типа». Что из того, что такой организации не существовало! Приказано — выполним. Сами создадим и разгромим сами. НКВД не ошибается. Поэт обвинялся в желании реставрировать царскую династию.
Об упомянутом Миронове (Короле), одном из убийц Клюева, подробно поведала миру его жена Агнесса: «Я часто задаю себе вопрос теперь — был ли Мироша палачом?.. Это была его власть, она ему открыла дорогу и дала все. Он был ей предан до конца, он был честолюбив и азартно делал карьеру. А когда начались страшные процессы истребления — волна за волной, он не мог уже выйти из машины, он принужден был ее крутить… Но он видел уже, он прозрел, он понимал… Так я думаю, так я хочу думать…
Лежит, не спит… Оказывается, у него было секретное совещание, туда вызвали всех начальников края… Пришел тайный приказ… что… мало арестов… И всем стало ясно: хочешь уцелеть — сочиняй дела! Иначе худо будет… А я, я жила, как зажмурившись. Нам было хорошо, мнилось, так и будет — мы попали на удачливый, безопасный остров. Все падают, а мы вознеслись».
Однажды, вспоминает Агнесса, двоюродный брат Мироши, Михаил Король, не выдержал: «У тебя, наверное, руки по локоть в крови. Как ты жить можешь? Теперь у тебя остается только один выход — покончить с собой». — «Я сталинский пес, — усмехнулся Мироша, — и мне иного пути нет!»[119].
Летом 37-го по Сибири прокатилась новая волна арестов. Интеллигенты, священники, бывшие царские офицеры и множество крестьян, малограмотных и вовсе неграмотных, шли на расстрел за принадлежность к мифической организации. Организация эта — Союз спасения России — работала по заданию контрреволюционного центра в Париже и ставила целью поднять восстание против советской власти и реставрировать монархию к моменту нападения на СССР фашистских держав. Все это, разумеется, было ложью, кроме массовых жертв и наград чекистам за успешно проведенную операцию.
Клюеву в этой дутой организации была уготована ведущая роль. Показания на него выжали из аспиранта Томского медицинского института Голова:
— Идейным вдохновителем и руководителем организации является поэт Клюев… Он пишет стихи и большую поэму о зверствах и тирании большевиков…
В ночь с 5 на 6 июня поэт снова был арестован. В деле записано, что на момент ареста он страдал пороком сердца, а в тюрьме его разбил паралич ног. Следствия, по существу, не проводилось.
— Признаете себя виновным? — спросил оперуполномоченный Чагин.
— Нет, виновным себя не признаю, ни в какой контрреволюционной организации я не состоял и к свержению советской власти не готовился.
— Следствием вы достаточно изобличены. Что можете заявить правдиво об организации?
Клеветать на других Клюев тоже отказался:
— Больше показаний давать не желаю…
13 Октября тройка НКВД Западно-Сибирского края вынесла постановление о расстреле Клюева. В документе о приведении приговора в исполнение, подписанном какой-то неразборчивой закорючкой, указано, что расстрелян он 23–25(!) октября… 1937-го. Трехдневный расстрел?! Как объяснить эту нелепую дату? Наверно, приговоренных было столько, что отправить их на тот свет за один день было не под силу даже сверхрасторопным чекистам, для этого понадобилось три дня, — а уж кого и когда именно, для исполнителей было совершенно безразлично.
«Завтра казнь…» — такое не раз снилось Клюеву. И даже сам расстрел — записанный сон из далекого 1923 года, 24 июня:
«А солдатишко целится в меня, дуло в лик наставляет… Как оком моргнуть, рухнула крыша — череп… Порвал я на себе цепи и скоком-полетом полетел в луговую ясность, в Божий белый свет…».
Песнь о Великой Матери.
Так погиб Николай Клюев, но жизнь его поэзии продолжается, и оказалось, что в ней могут быть ошеломляющие открытия.
У нас Клюева знают еще плохо. Многие годы стихи и даже имя поэта были запрещены — преступник. И реабилитирован он только в 1988-м. А то, что напечатано, непросто достать и, за исключением специалистов, мало кем прочитано. Да и труден он для понимания в наш суетный, скоропалительный век, неподъемен, непосилен для заурядного бытового мышления. Наша беда, что родной язык нынче обеднел так же, как наша природа, и мы не только не владеем прежним богатством, но и позабыли его. Стих Клюева труден нам по причине его редкостного многозвучия, многоцветия, многомыслия, — будто вырыли из земли кованый сундук, распахнули — а там груда сокровищ, известных лишь по сказкам.
Эти вещие гусли, эти притчи, эти тайны были заживо замурованы в застенках Лубянки, полвека не могли пробиться к читателю. Приведенные только что строки — пролог большой поэмы, погребенной в ворохе арестованных рукописей. «Песнь о Великой Матери» — об этой поэме давно ходили слухи и легенды. Современники Клюева вспоминали, как читал поэт отрывки из нее, вписывал в альбомы знакомым, как и в самых ужасных условиях ссылки продолжал работу над ней.
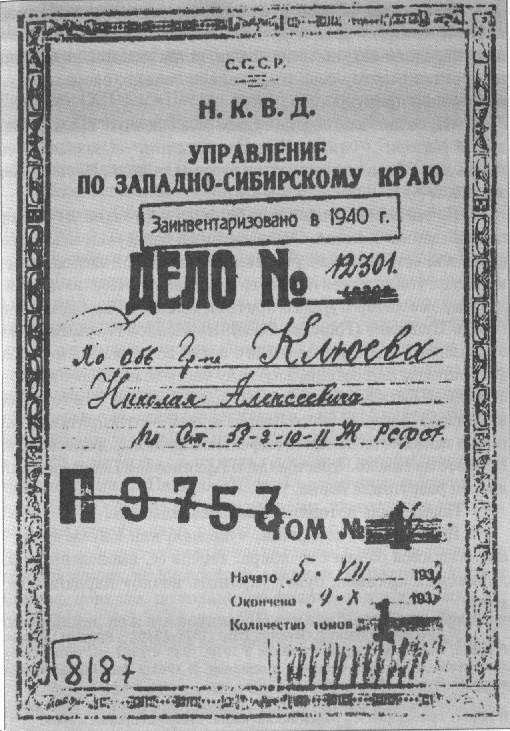
Обложка следственного дела Н. А. Клюева.
1937.
Боль поэта за свои рукописи, исчезнувшие в жадной пасти Лубянки, — сродни душевной муке, которую испытывали народные ведуны и сказители, когда уходили из жизни, не передав никому свое сокровенное знание, оборвав нить вековечной премудрости.
«Пронзает мое сердце судьба моей поэмы „Песнь о Великой Матери“, — писал Клюев из ссылки. — Создавал я ее шесть лет. Сбирал по зернышку русские тайны… Нестерпимо жалко…».
Почти мистическая судьба была уготована лучшему произведению Клюева. Отечественные чекисты и немецкие фашисты вставали на пути многострадальной поэмы, стремясь уничтожить ее. Какие-то фрагменты «Песни» хранились в доме литературного критика Иванова-Разумника[121] в городе Пушкине (Царское Село). Но Иванов-Разумник был отправлен в ссылку, а архив его погиб во время войны, при фашистском нашествии. Еще одну часть поэмы берег другой знакомый Клюева — писатель Николай Архипов[122], в то время хранитель Петергофского Дворца-музея, — тот спрятал рукопись в тайнике на высокой кафельной печи в дворцовой зале. Но и это не спасло. Арестовали и Архипова, а Петергофский дворец разрушила война.
Поэма была потеряна. Казалось, навсегда.
И все же она воскресла, чудесная, как Китеж-град[123], поднявшийся со дна Светлояра. Теперь ее, вызволенную из лубянских архивов, будет «хранить вечно» народная память.
Исключительные художественные достоинства поэмы, масштаб и значительность, редкостная судьба таковы, что невольно приходит на ум сравнение со вторым рождением другого памятника нашей словесности — «Слова о полку Игореве» (XII в.). «Песнь» так же величаво всплывает из хляби времен, из забвения, и как «Слово» было спасено от татарского ига, так теперь «Песнь» — от ига бесчеловечной, безбожной власти.
Поэма огромна — в найденной рукописи около четырех тысяч строк. Обозначены годы, когда создавалась поэма, — 1930–1931-й, дан и вариант названия — «Последняя Русь».
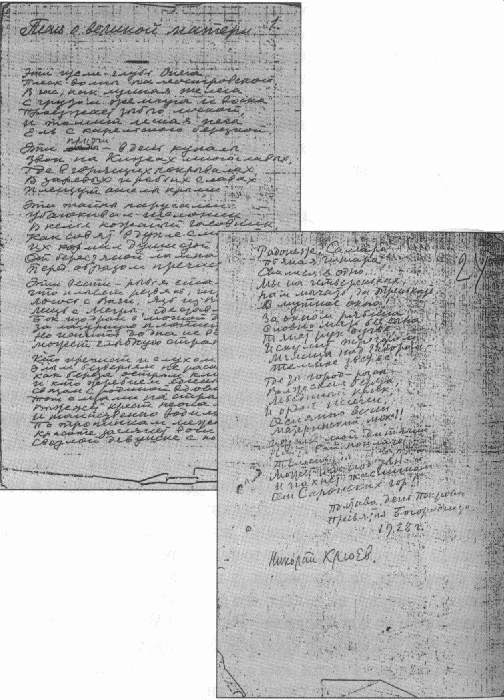
Поэма Н. А. Клюева «Песнь о Великой Матери» (автограф).
Приложение к следственному делу. 1934.
Прообраз главной героини «Песни» — мать поэта Прасковья Дмитриевна. Плачея и сказительница, «златая отрасль Аввакума», она научила поэта грамоте и тайнам слова, укрепила в вере, древней вере предков — старообрядцев. Тут будет кстати напомнить суждение писателя Андрея Платонова о старообрядчестве — этом, еще не разгаданном, скорее загаданном нам явлении: «Старообрядчество — это серьезно, это всемирное принципиальное движение; причем — из него неизвестно что могло бы еще выйти, а из прогресса известно что…».
Ей — матери — поэт отдал весь жар сердца, посвятил лучшие стихи. И Параша «Песни» несомненно войдет в ряд прекрасных образов русских женщин, известных в истории и литературе. Не надо, однако, искать в поэме точные соответствия действительности, это не сколок с нее, а поэтическое преображение, не биография, а житие. И Великая Мать у Клюева, конечно, не только его физическая и духовная родительница, но и вся родина — Россия, и Мать Сыра Земля, и Богородица — всеобщее космическое животворящее начало, Душа Мира.
Такое разумение очень органично для русской духовности, мы найдем ему соответствие у наших философов Владимира Соловьева, Николая Федорова, Павла Флоренского, Сергея Булгакова, а еще более — в сокровенной, «поддонной» философии самого народа, которая и до сего времени для нас — тайна, и уже не столько по вине властей или КГБ — по нашему собственному неразумению и малости, из-за нехватки внутренней свободы, духовного простора. В этом смысле поэма Николая Клюева может стать могучим стимулом для нашего самосознания, только еще выбирающегося из большевистского затмения. Есть у России своя идея, своя мечта, вместе со всем человечеством, но свой путь во времени. Ищите — и обрящете.
Сложена поэма из трех частей, или, как назвал их сам Клюев, «гнезд». В самых общих чертах содержание можно определить так: первая часть — юность матери; вторая — детство героя-автора и становление его как певца, народного поэта; третья часть — конец старой России (здесь действуют исторические лица — царская семья, Распутин, Сергей Есенин) и надвигающиеся на нее новые бедствия, мировая война.
И наконец, советское время, — его Клюев бескомпромиссно рисует как Апокалипсис, царство Антихриста, обрекающего русскую душу на погибель.
Кульминация в поэме достигается к концу — это бегство героя и его «посмертного друга» — в нем угадывается Сергей Есенин: «Бежим, бежим, посмертный друг, от черных и от красных вьюг!» — из проклятого настоящего, и навстречу им, за «последним перевалом» — мистическое шествие с хоругвями русских святых. Эта картина, исполненная высшей поэзии и света, не только озарение, в ней заключен громадный провидческий смысл. Христос — не впереди отряда красногвардейцев, как в знаменитой поэме Александра Блока «Двенадцать», он выходит навстречу поэтам! И слияние душ — живой и иконной — рисуется как подготовка к отплытию в невидимый Град-Китеж, который, по Клюеву, вовсе не прошлое России, а будущее ее.
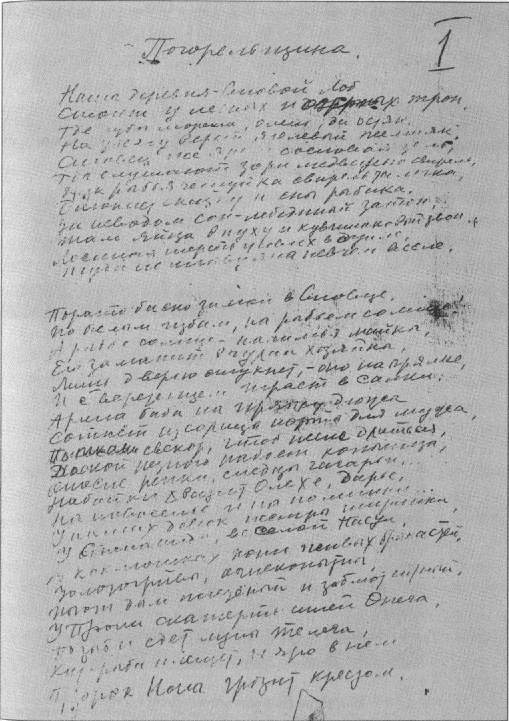
Поэма Н. А. Клюева «Погорельщина» (автограф).
Приложение к следственному делу. 1934.
Современный Апокалипсис и грядущее преображение, воскресение России — эти темы пронизывают поэму. «Песнь» — не просто поэтическая мечта, утопия. Клюев родился, чтобы подать нам весть о глубинной, сокровенной судьбе Родины. Русь — Китеж, Клюев — посланец его. Град видимый падет, чтобы в муках поднялся Град Невидимый, чаемый, заветный.
Николай Клюев — последний великий эпический поэт Земли. Эпос уже ушел из сознания человечества, и вот именно Россия, в силу своей традиционной духовности и отчасти еще уцелевшей натуральности, первородства, подарила миру эпос, уходящий корнями к предкам, в далекие века, а вершиной — к потомкам, в потемки будущего. Жанр поэмы — лирический эпос, сказание, в ней Клюев предстает как единственный в русской, да и во всей мировой, поэзии мифотворец двадцатого века. Миф, эпос. Не старое и новое — вечное. Это книга народной судьбы — «мужицкие Веды». Клюев говорит от имени народа и голосом народа. Поэма прямо восходит к «рублевским заветам» — в иконописи и зодчестве, старопечатных книгах и церковной музыке, но более всего — к фольклору, народному песнетворчеству — или исходит от них. А еще глубже, в человеческой истории, она подхватывает и несет тот священный огонь, который с христианством перешел на Русь от высоких светильников Византии и Эллады.
Правда, на десять лет мы опередили пророчество Клюева: шел 1989 год, когда «заскрипел заклятый замок» лубянских хранилищ. Но зато именно «в девяносто девятое лето», в 1999-м, вышли сразу две книги, в которых «Песнь о Великой Матери» была напечатана полностью: «За что?» и «Сердце Единорога». И взбурлили «рекой самоцветы ослепительных вещих строк»! Так что все в точности сбылось!
Лев Троцкий в свое время верно угадал в Клюеве «двойственность мужика, лапотного Януса, одним лицом к прошлому, другим — к будущему». Думал, что заклеймил, — на самом деле воздал хвалу. Так опростоволосилась перед истинным величием «образованность наша вонючая» (выражение Клюева)!
Нам предстоит еще много усилий на пути к поэту. Клюев состоялся. А мы — еще нет. Мы своего участка пути к поэту еще не прошли. Мы не адекватны культуре нашего Золотого и Серебряного веков. Современности нашей Клюев не по зубам.
«Песнь о Великой Матери» — это приток свежей крови в русскую культуру, в русское сознание. И мы, в последнее время привыкшие больше ругать свое отечество, получив такое наследство, видим, что резервы нашего духа отнюдь не исчерпаны. Поэма — знак надежды нам, изверившимся, истерзанным Смутным временем, послание убиенного антихристовой властью великого поэта, который только теперь говорит с нами во весь голос. Имеющий уши — услышит:
Завещанием звучит сегодня слово поэта: «Не железом, а красотой купится русская радость».
Улица Мандельштама. ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ.

Изолировать, но сохранить.
Я тень.
В кругах ГУЛада.
Изолировать, но сохранить.
Сегодня Улица Мандельштама ярко освещена: стихи поэта знает весь мир, о жизни и творчестве его написана целая библиотека. И только там, где эта улица-судьба пролегла через Лубянку, свет был погашен, царило затемнение. Два тюремных заключения, последний гибельный путь — обо всем этом официальные источники упорно молчали. И понятно почему: обвинения поэту стали обвинением против государства, которое его судило. Поэт вынес государству окончательный, не подлежащий обжалованию приговор, — именно поэтому он до 1987 года, то есть уже во времена перестройки, все еще числился преступником, не был реабилитирован…
— Мое дело никогда не кончится, — сказал однажды Мандельштам.
Кончилось — только теперь — после смерти самого государства.
И только теперь удалось наконец проникнуть в зловещую кухню, где стряпалось дело поэта, осветить темный угол его улицы-судьбы.
Вот они — эти страшные досье, добытые после настойчивых попыток из секретных хранилищ КГБ, Прокуратуры и Министерства внутренних дел: два следственных дела — 1934-го и 1938-го, «Надзорное производство» и тюремно-лагерное дело…
И все время, пока шел поиск и работа над документами, в сознании возникали уже ставшие легендами воспоминания современников, жены поэта Надежды Яковлевны, которые то подтверждали открывшиеся факты, то спорили с ними и сплетались вместе в сложные, мучительные узлы его последних лет. И конечно, стихи Мандельштама. Вспыхивая в памяти, они тоже озаряли, помогали увидеть его судьбу.
Русь-тройка! У нас ведь все почему-то так: и выпить соображают на троих, и судят, и арестовывают.
В ночь с 16 на 17 мая 1934 года сотрудники ОГПУ Герасимов, Вепринцев и Забловский производили операцию по московскому адресу Мандельштама — Нащокинский переулок, дом 5, квартира 26.
В биографии великого поэта важно все. Помимо имен нагрянувших чекистов из материалов следствия мы впервые узнаем и точную дату ареста. Надежда Яковлевна указывает другое число — ночь с 13 на 14 мая. Ошибка памяти, ведь столько лет прошло! Во всех документах зафиксировано только 16-е, начато дело, и фотография для него сделана 17 мая, так что в дате ареста сомневаться не приходится. Ордер на обыск-арест подписал не Ягода, как считали, а его заместитель — Яков Агранов (при беглом взгляде подписи действительно можно спутать).
Стало известно, что именно конфисковали при обыске: «письма, записи с телефонами и адресами и рукописи на отдельных листах в количестве 48 листов». Этих материалов в деле нет, розыск в архиве Лубянки не дал ничего, видимо, они были сожжены. Почему, спрашивается, взяли так мало? Секрет прост: чекисты искали очень целенаправленно, им были нужны стихи, и стихи вполне определенные, крамольные. Отобранные бумаги стопкой складывали на стуле, остальное бросали прямо на пол, бесцеремонно топча сапогами.
Как раз накануне злополучной ночи к Осипу Эмильевичу приехал из Ленинграда другой поэт и верный друг — Анна Ахматова. Кормить гостью было нечем, хозяин сходил к соседям и принес добычу — одно яйцо. Съесть не успели, пока угощались разговорами — хлебом духовным. С вечера пришел и прочно засел в доме и еще один человек — переводчик Давид Бродский, как считает Надежда Яковлевна, гость не случайный, а специально подосланный, чтобы проследить, не дать уничтожить до обыска какие-нибудь рукописи. И даже когда Мандельштам ходил к соседям — увязался за ним, не отпуская от себя ни на шаг.
Обыск длился много часов — проверялась каждая книга, заглядывали даже под корешки, надрезали переплеты, обшаривали все ящички и щели — за это время успело произойти и кое-что еще. Один из чекистов, например, прочитал лекцию о вреде курения, щедро предлагая присутствующим вместо табака леденцы. Ахматова, вдруг вспомнив про сиротливое яйцо, уговорила Мандельштама подкрепиться на дорогу, что он и сделал: посолил и съел. Уже под утро смирно сидевший все это время Бродский так же странно, как пришел, наконец ушел — по указке старшего чекиста Герасимова.
Жена укладывала в чемоданчик вещи — туалетные принадлежности, чистые воротнички для рубашки. Осип Эмильевич отобрал с собой книги, целых семь, в том числе томик Данте — путеводитель по аду.
Когда уводили, было уже светло. Объятие жены. Прощальный поцелуй Ахматовой. На роду ей было написано провожать в тюрьму близких! «Я гибель накликала милым, и гибли один за другим. О, горе мне, эти могилы предсказаны словом моим!».
Оставшись одни, усталые женщины растерянно гадали о причине ареста. Незадолго до этого, будучи в Ленинграде, Мандельштам залепил пощечину Алексею Толстому — за хамское поведение, и тот грозился, что этого так не оставит, ездил к Горькому жаловаться. Передавали слова, будто бы сказанные главой советской литературы:
— Мы ему покажем, как бить русских писателей!
Если эта история привела к аресту, тогда не так страшно: за пощечину не судят. Хуже, если стихи…
Оповестили близких. На всякий случай вынесли из дома и спрятали у надежных людей самые ценные рукописи. И вовремя! В тот же день Герасимов заявился опять и снова рылся в бумагах. Ушел ни с чем — той рукописи, которую он искал, в доме не оказалось.
Неужели до ОГПУ дошли сведения о главной крамоле — стихах о Сталине? Если к ним попадут эти стихи, тогда конец — не простят. И поэт знал это, но сказал, когда читал их Ахматовой:
— Стихи сейчас должны быть гражданскими.
Тем временем на Лубянке Мандельштам заполнял анкету арестованного. Подчеркивал главное, что составляло суть его жизни: место службы или род занятий — писатель, профессия — писатель, социальное положение — писатель. Политическое прошлое уместилось в половину строки: ни в одной партии не состоял.
Однако в ОГПУ на него смотрели иначе. Сверху на анкете сделана приписка: «Контрреволюция писателей. Шиваров». Дело поэта попало в опытные руки — в 4-е отделение Секретно-политического отдела, которое специально надзирало за писателями, вылавливало и ликвидировало преступников из их среды. И самым профессиональным и матерым среди лубянских экспертов по литературе считался Николай Христофорович Шиваров, печально известный «Христофорыч с Лубянки». Как тут не вспомнить графа Александра Христофоровича Бенкендорфа, шефа жандармов при Пушкине. Еще сто лет назад он вел политический сыск в России. Христофорыч другой и поэт другой — а жандармское дело бессмертно!
Наш Христофорыч — уроженец Болгарии, мужчина в расцвете сил — тридцати шести лет от роду, то есть на семь лет младше своего подследственного. Мандельштам рано состарился и выглядел уже стариком — лысина и борода с проседью.
Надежда Яковлевна видела следователя во время свидания с мужем (вот только фамилию она забыла):
«Крупный человек с почти актерскими — по Малому театру — назойливыми и резкими интонациями… пресловутый Христофорыч был человеком не без снобизма и свою задачу по запугиванию и расшатыванию психики выполнял как будто с удовольствием. Всем своим видом, взглядом, интонациями он показывал, что его подследственный — ничтожество, презренная тварь, отребье рода человеческого… Держался он как человек высшей расы, презирающий физическую слабость и жалкие интеллигентские предрассудки. Об этом свидетельствовала вся его хорошо натренированная повадка, и я тоже хотя и не испугалась, но все же почувствовала во время свидания, как постепенно уменьшаюсь под его взглядом… При мне он сказал О.М., что для поэта полезно ощущение страха — „вы же сами говорили“, — оно способствует возникновению стихов, и О.М. „получит полную меру этого стимулирующего чувства“».
Сам Мандельштам скажет о Шиварове короче:
— У этого Христофорыча все перевернуто и навыворот…
Как выглядит в это время Мандельштам, видно по фотокарточке, вклеенной в дело. Его облик сопротивляется казенщине арестантского снимка: скрещенные на груди руки, распрямленные плечи, твердо сжатые губы — полный достоинства и выстраданной библейской умудренности, взгляд острый, безо всякого страха обращен в объектив прямо на нас, — не мог же не думать, что эта фотография, возможно, последняя в его жизни. Он готов к любой неизбежности, хотя пока может только догадываться, за что посажен в тюремную клетку.
Но Христофорычу не дано знать, что ему выпало счастье общаться с поэтом-классиком, благодаря которому и он, Христофорыч, войдет в историю. И классику нашу он оценивает по-своему. Только что, в марте, он расправился с другим поэтом — Николаем Клюевым, отправил в ссылку в Сибирь. Не станет и здесь церемониться, тем более что вина Мандельштама для него несомненна и такова, что страшнее быть не может…
Шиваров не дает подследственному опомниться — на следующий же день после ареста вызывает на допрос, который растягивает на всю ночь и продолжает назавтра.
Сначала Христофорыч задает два окольных, второстепенных вопроса, видимо, чтобы притупить бдительность подопечного.
Вопрос. Бывали ли за границей?
Ответ. Один раз был за границей — в Париже, в 1908 году, провел несколько месяцев. Это была поездка с образовательной целью — начал изучать французскую поэзию. Второй раз был в 1910 году в Гейдельберге, где учился в университете — всего один семестр. Третий раз -1911 г. — в Берлине и Швейцарии несколько недель и трехдневная поездка в Италию[126].
В. С каких пор вы занимаетесь литературой?
О. Дилетантски я занимаюсь с детских лет. Первый профессиональный опыт относится к 1909-му, когда впервые мои стихи были опубликованы в «Аполлоне»[127].
Разминка закончена. А теперь — о главном.
— Как вы думаете, за что мы вас арестовали? — спрашивает Шиваров и после уклончивого ответа предлагает прочесть стихи, которые могли бы стать причиной ареста.
Мандельштам принимает вызов, читает одно за другим три стихотворения, и каждая строка, словно специально написана к этому случаю, звучит неслыханно дерзко:
И дальше:
Следователь просит говорить медленнее и тут же, с голоса, записывает стихи. Такого слушателя и ценителя у Мандельштама еще не было. Недаром он говорил, что нигде стихи не ценятся так высоко, как в России, — здесь за них расстреливают.
Но Шиварову мало прочитанного поэтом. Не за это он арестован. Христофорыч вынимает из папки и, торжествуя, предъявляет свой козырь — стихи о «кремлевском горце», Иосифе Сталине:
— Это ваши стихи?
Мандельштам признал авторство.
— Прочтите их, — потребовал следователь и, пока поэт читал, внимательно сверял тексты.
— У меня иначе, — заметил Шиваров, — «душегубца и мужикоборца».
— Это первый вариант…
То, что стихи оказались у следователя, означало, что в окружении поэта у Органов был свой человек. Сам он эти стихи бумаге не доверял, хотя и читал не раз многим. Кто донес — остается загадкой.
— Не тот, так другой, — равнодушно говорил потом сам Мандельштам.
Для Шиварова сочинение таких стихов — теракт, а сами стихи — беспрецедентный, преступный документ. Он помещает их в протокол допроса в уже готовой обвинительной упаковке:
Вопрос. Признаете ли вы себя виновным в сочинении произведений контрреволюционного характера?
Ответ. Да, я являюсь автором следующего стихотворения контрреволюционного характера:
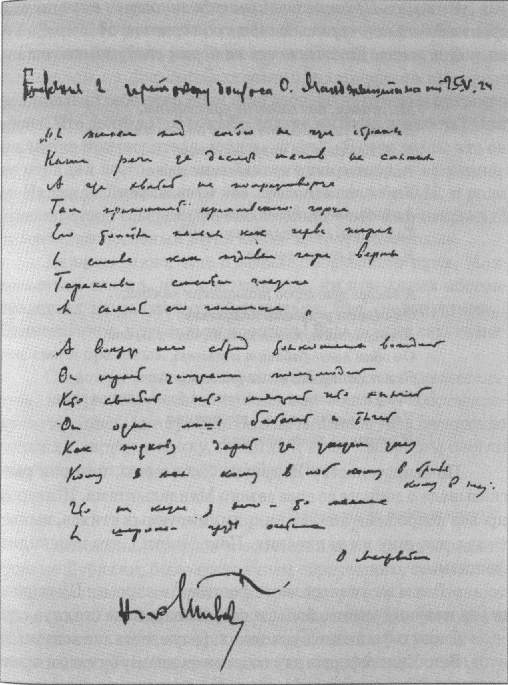
Автограф стихотворения О. Э. Мандельштама «Мы живем, под собою не чуя страны…».
Из следственного дела. 1934.
По свидетельству Надежды Яковлевны, которая рассказывала о допросе со слов самого Мандельштама, Шиваров провел подробный анализ инкриминируемых стихов, выпытывал причину их написания. Поэт ответил, что ненавидит фашизм.
— В чем вы усматриваете фашизм? — спросил Шиваров, но, не получив ответа, больше допытываться не стал.
Слова о фашизме в протокол, разумеется, не вошли.
Зато Христофорыч дал подследственному бумагу и предложил собственноручно записать и подписать свой контрреволюционный пасквиль. И поэт записал эти стихи двойного обличения — и героя — вождя, и себя — автора, стихи, которые больше, чем стихи, — поступок, отчаянный по смелости, акт гражданского мужества, подобный которому трудно сыскать в истории литературы. Записав эти шестнадцать строк на вырванном из школьной тетради в клеточку листке, поэт подписывал себе смертный приговор, но не отрекся от своего слова. Что двигало его рукой — только ли безысходность? Или неумение притворяться, юлить, лгать? «Я сердилась, что он не отрицал всего, как подобает конспиратору, — вспоминает Надежда Яковлевна. — Но представить себе О.М. в роли конспиратора совершенно невозможно — это был открытый человек, неспособный ни на какие хитроумные ходы».
Давным-давно, еще в начале творческого пути, Мандельштам сказал, что поэт никогда, ни при каких обстоятельствах не должен оправдываться. Это «недопустимо… Единственное, чего нельзя простить! Ведь поэзия есть сознание своей правоты».
Следствие наконец получило вещественное доказательство, которое безуспешно искало при обыске — собственноручную запись, автограф крамолы. Шиваров удовлетворенно положил листок в папку, пришил к делу. Теперь мы смогли извлечь его оттуда — для вечной памяти.
Состояние, которое испытывал поэт во внутренней тюрьме Лубянки, было состоянием обреченного, смертника. «Мы никогда не сомневались, что его убьют, если узнают про стихи», — говорит Надежда Яковлевна. И следователь убеждал его в этом, вел дело как подготовку к будущему коллективному процессу, грозил поэту и его сообщникам, то есть тем, кто слышал стихи о Сталине, неминуемым расстрелом. Таким образом, Мандельштам становился виновником не только собственных бед, но и несчастий других.
Достаточно было и одной психологической пытки, без особых физических приемов, которые в следственных делах, конечно, не фиксировались. Мы знаем только, со слов самого Мандельштама, что он содержался в двухместной камере, что сосед его был специально подсажен к нему, работал на следствие: запугивал предстоящим процессом, убеждал, что все близкие тоже уже в тюрьме. А Мандельштам спрашивал в ответ:
— Отчего у вас чистые ногти? Почему от вас после допросов пахнет луком?
Его изнуряли бессонным режимом, многочасовыми допросами, мучили ярким светом, от которого болели глаза и воспалялись веки, кормили соленым, а пить не давали, сажали в карцер, надевали смирительную рубаху, он слышал за стеной камеры плачущий голос жены… и уже не мог понять — явь это или галлюцинации.
Все это кончилось острым травматическим психозом и попыткой самоубийства — он перерезал себе вены на обеих руках. В подошве ботинка у него была запрятана бритва «жилетт» — от сидевших в тюрьме Мандельштам слышал, что там больше всего не хватает чего-то режущего. Изойти кровью ему не дали — бритву отобрали, а руки перевязали. В планы следствия такая развязка не входила.
А что творилось на воле, за стенами Лубянки? В первые же дни после ареста поэта его жена и друзья кинулись на выручку. Ахматова добилась приема в Кремле, у управляющего делами Совнаркома Енукидзе, близкого Сталину человека. Надежда Яковлевна и Пастернак бросились к Бухарину, в редакцию «Известий», которые он тогда редактировал, и тот обещал сделать все, что в его силах.
Только спросил о Мандельштаме:
— Не написал ли чего сгоряча?
— Да ничего особенного, не страшнее того, что вы знаете, — слукавила Надежда Яковлевна.
Стихов о Сталине покровитель поэта, разумеется, не знал, иначе вряд ли взялся бы помогать. Когда впоследствии их ему прочтет наизусть сам Ягода, он испугается, отступится от Мандельштама.
Обращались и к писателям, но от них толку было мало. Демьян Бедный посоветовал в это дело не вмешиваться, Сейфуллина навела справки у знакомых чекистов, и те сказали ей то же самое. Да и в самом деле, что они могли сделать, писатели? В лучшем случае посочувствовать. В худшем… стать на сторону палачей.
Ведь было немало и тех, кто злорадно потирал руки, — у Мандельштама врагов хватало. И слухи поползли по Москве самые странные. Рассказывали даже о том, как Мандельштам вел себя на следствии. Надежда Яковлевна называет источник этих рассказов — правоверный прозаик, сталинский апологет Петр Павленко. Откуда, спрашивается, мог он знать, что происходит на Лубянке? А вот откуда. Павленко будто бы по приглашению его друга-следователя, который вел дело Мандельштама, то бишь Христофорыча, присутствовал на допросе. Спрятался где-то в шкафу или за двойной дверью и все слышал. Преуспевающей бездарности доставило патологическое удовольствие не только наблюдать унижение таланта, но и смаковать потом: Мандельштам-де вел себя жалко, порол чушь, хватался за сползающие брюки. Эти слухи распространялись от Павленко по писательским квартирам, пока не достигли дома Мандельштама, — и были очень на руку Лубянке. Как знать, может быть, и делалось это по прямому заданию, с дальним прицелом — снять с поэта ореол трагичности, жертвенности, представить в опошленном, карикатурном виде.
Причастность Павленко к делам Лубянки подтверждал и сам Мандельштам. Как вспоминает известная мемуаристка, литературовед Эмма Герштейн, он рассказывал ей:
— Меня подымали куда-то на внутреннем лифте. Там стояло несколько человек. Я упал на пол. Бился… вдруг слышу над собой голос: «Мандельштам, Мандельштам, как вам не стыдно!» Это был Павленко…
Поражает тут не только сам дикий поступок Павленко, но и то, что он не считал нужным скрываться, не боялся разоблачения. Или был убежден, что Мандельштам уже никому не сможет рассказать о своем хождении по мукам, никогда не выйдет на волю?
Всему этому можно было бы не верить, если бы подлая роль Павленко неожиданно не подтвердилась, и теперь — в открывшихся документах Лубянки. Его зловещая фигура еще раз появится за кулисами судьбы Мандельштама. Но об этом речь — впереди.
25 Мая Мандельштама снова приводят к следователю — этим днем помечен протокол последнего допроса, а вернее, оформление всех предыдущих, — сколько их было в действительности, неизвестно, сам Мандельштам говорил о многих. Теперь Шиваров копает биографию поэта с самого начала, довольно объективно фиксируя его идейные метания.
Вопрос. Как складывались и как развивались ваши политические воззрения?
Ответ. В юношеские годы я находился в близкой дружбе с сыном известного социалиста-революционера Бориса Наумовича Синани. Под влиянием Синани и других посещающих его членов партии социалистов-революционеров и складывались мои первые политические воззрения. В 1907 г. я уже работал в качестве пропагандиста в эсеровском рабочем кружке и проводил рабочие летучки. К 1908 г. я начинаю увлекаться анархизмом. Уезжая в этом году в Париж, я намеревался связаться там с анархо-синдикалистами. Но в Париже увлечение искусством и формирующееся литературное дарование отодвигают на задний план мои политические увлечения. Вернувшись в Петербург, я не примыкаю более ни к каким революционным партиям. Наступает полоса политической бездейственности, продолжавшаяся вплоть до Октябрьской революции 1917 г.
Октябрьский переворот воспринимаю резко отрицательно. На советское правительство смотрю как на правительство захватчиков, и это находит свое выражение в моем опубликованном в «Воле народа» стихотворении «Керенский». В этом стихотворении обнаруживается рецидив эсеровщины: я идеализирую Керенского, называя его птенцом Петра, а Ленина называю временщиком.
Примерно через месяц я делаю резкий поворот к советским делам и людям, что находит выражение в моем включении в работу Наркомпроса по созданию новой школы.
С конца 1918 г. наступает политическая депрессия, вызванная крутыми методами осуществления диктатуры пролетариата. К этому времени я переезжаю в Киев, после занятия которого белыми переезжаю в Феодосию. Здесь в 1920 г., после ареста меня белыми, передо мною встает проблема выбора: эмиграция или Советская Россия, и я выбираю Советскую Россию. Причем стимулом бегства из Феодосии было резкое отвращение к белогвардейщине.
По возвращении в Советскую Россию я врастаю в советскую действительность, первоначально через литературный быт, а впоследствии — непосредственной работой: редакционно-издательской и собственно литературной. Для моего политического и социального сознания становится характерным возрастающее доверие к политике Коммунистической партии и Советской власти.
В 1927 г. это доверие колебалось не слишком глубокими, но достаточно горячими симпатиями к троцкизму, и вновь оно было восстановлено в 1928 г.
В 1930 г. в моем политическом сознании и социальном самочувствии наступает большая депрессия. Социальной подоплекой этой депрессии является ликвидация кулачества как класса. Мое восприятие этого процесса выражено в стихотворении «Холодная весна», прилагаемом к настоящему протоколу допроса и написанном летом 1932 г. после моего возвращения из Крыма. К этому времени у меня возникает чувство социальной загнанности, которое усугубляется и обостряется рядом столкновений личного и общественно-литературного порядка…
Упомянутые стихи — о страшном голоде на юге России, который поэт видел собственными глазами, сохранились в деле. Написаны они рукой следователя, но подписаны автором и тем более ценны, что имеют разночтения по сравнению с известным списком:
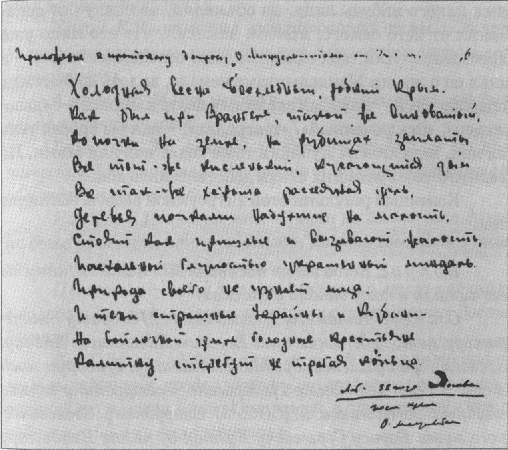
Стихотворение «Холодная весна. Бесхлебный, робкий Крым…».
Приложение к протоколу допроса О. Э. Мандельштама.
25 Мая 1934 года.
Затем Шиваров возвращается к основному преступлению своего подследственного — «контрреволюционному пасквилю против вождя Коммунистической партии и Советской страны». Его цель — выявить всех, знающих эти стихи. Тут Христофорыч застревает надолго. Имена он выуживает по одному, перечисляя людей, бывавших в доме поэта. На самом деле стихи слышали еще многие, но Мандельштам подтверждает лишь тех, кого знает следователь. Наряду с грубым запугиванием Христофорыч демонстрирует и более изощренные инквизиторские приемы. Сообщив, например, имя какого-нибудь лица, он объявлял, что получил показания от него самого, причем намекал, что это лицо уже арестовано. Или, подчеркивая свою осведомленность, — а знал он о жизни Мандельштама немало, вплоть до бытовых подробностей, — называл знакомых поэта кличками — «двоеженец», «исключенный», «театралка», — как бы бросая тень на них, ведь агенты Лубянки тоже ходят под кличками. Но ведь кто-то из знавших стихи действительно донес…
Конечный результат этой хитроумной работы выглядит так:
Вопрос. Когда этот пасквиль был написан, кому вы его читали и кому давали в списках?
Ответ. Читал его: 1) своей жене; 2) ее брату — литератору, автору детских книг Евгению Яковлевичу Хазину; 3) своему брату Александру Мандельштаму; 4) подруге моей жены — Герштейн Эмме Григорьевне — сотруднику секции научных работников ВЦСПС; 5) сотруднику Зоологического музея Борису Сергеевичу Кузину; 6) поэту Владимиру Ивановичу Нарбуту; 7) молодой поэтессе Марии Сергеевне Петровых; 8) поэтессе Анне Ахматовой и 9) ее сыну Льву Гумилеву[129].
В списках я никому не давал его, но Петровых записала этот пасквиль с голоса, обещая, правда, впоследствии его уничтожить.
Написан же этот пасквиль в ноябре 1933 г.
В. Как реагировали на прочтение им этого пасквиля названные вами лица?
О. Кузин B. C. отметил, что эта вещь является наиболее полнокровной из всех моих вещей, которые я ему читал за последний 1933 г.
Хазин Е. Я. отметил вульгаризацию темы и неправильное толкование личности как доминанты исторического процесса.
Александр Мандельштам, не высказываясь, укоризненно покачал головой.
Герштейн Э. Г. похвалила стихотворение за его поэтические достоинства. Насколько я помню, развернутого обсуждения темы не было.
Нарбут В. И. сказал мне: «Этого не было», что должно было означать, что я не должен никому говорить о том, что я ему читал этот пасквиль.
Петровых — как я сказал — записала этот пасквиль с голоса и похвалила вещь за высокие поэтические достоинства.
Лев Гумилев одобрил вещь неопределенно-эмоциональным выражением, вроде «здорово», но его оценка сливалась с оценкой его матери Анны Ахматовой, в присутствии которой эта вещь ему была зачитана.
В. Как реагировала Анна Ахматова при прочтении ей этого контрреволюционного пасквиля и как она его оценила?
О. Со свойственной ей лаконичностью и поэтической зоркостью Анна Ахматова указала на «монументально-лубочный и вырубленный характер» этой вещи. Эта характеристика правильна потому, что этот гнусный, контрреволюционный, клеветнический пасквиль, в котором сконцентрированы огромной силы социальный яд, политическая ненависть и даже презрение к изображаемому, при одновременном признании его огромной силы, обладает качествами агитационного плаката большой действенной силы…
Тут уж Христофорыч явно перестарался, чересчур уснастил ответы подследственного своими махровыми ярлыками. Но, с другой стороны, чего ему было церемониться? Это Надежда Яковлевна удивлялась: «Неужели они действительно считали, что потомки, разбирая архивы, будут так же слепо верить всему, как обезумевшие современники?» О потомках наш Христофорыч не думал. Для кого он все это писал? Для начальства. А тут кашу маслом не испортишь. Перемешал ложь с правдой — и весь рецепт. Тем более, что подследственный подписывает все, не читая.
Вопрос. Выражает ли ваш контрреволюционный пасквиль «Мы живем…» только ваше, Мандельштама, восприятие или и отношение определенной какой-либо социальной группы?
Ответ. Написанный мною пасквиль «Мы живем…» — документ не личного восприятия и отношения, а документ восприятия и отношения определенной социальной группы, а именно части старой интеллигенции, считающей себя носительницей и передатчицей в наше время ценностей прежних культур. В политическом отношении эта группа извлекла из опыта различных оппозиционных движений в прошлом привычку к искажающим современную действительность историческим аналогиям.
В. Значит ли это, что ваш пасквиль является оружием контрреволюционной борьбы только для характеризованной вами группы или он может быть использован для целей контрреволюционной борьбы иных социальных групп?
О. В моем пасквиле я пошел по пути, ставшем традиционным в старой русской литературе, использовав способы упрощенного показа исторической ситуации, сведя ее к противопоставлению: «страна и властелин». Несомненно, что этим снижен уровень исторического понимания характеризованной выше группы, к которой принадлежу и я, но именно поэтому достигнута та плакатная выразительность пасквиля, которая делает его широко применимым орудием контрреволюционной борьбы, которое может быть использовано любой социальной группой…
Следствие подходило к концу. Ждали только решения сверху. И тут произошло чудо. Хлопоты за поэта достигли цели, дошли до Сталина. Последовал приказ героя контрреволюционного пасквиля, неслыханный по милости: «Изолировать, но сохранить…».
Теперь дело закрутилось с бешеной скоростью. Шиваров спешно составил обвинение в весьма скромных выражениях: «Обвиняется в составлении и распространении контрреволюционных литературных произведений». Мандельштам дал расписку: «Следствие по поводу моих стихотворений считаю правильным. Поскольку других обвинений в какой бы то ни было формулировке мне не было предъявлено, считаю следствие, не зная за собой другой вины, правильным». И уже 26 мая, то есть ровно через десять дней после ареста, Особое совещание при Коллегии ОГПУ в отсутствие подсудимого постановило выслать его в город Чердынь, на Урал, сроком на три года. Так сразу, всего за один день, Мандельштам превратился из подследственного в обвиняемого, из обвиняемого — в подсудимого, из подсудимого — в осужденного и должен был отправиться к месту назначения спецконвоем не позднее 28 мая, после свидания с женой.
«Препровождается выписка из протокола Особого совещания вместе с личностью осужденного», — говорится в предписании. Не бумага при человеке — «все перевернуто и навыворот» — к бумаге приколот человек.
На свидании враз подобревший Христофорыч и сообщил о причине чуда, неожиданно столь мягкого приговора — верховной милости: «изолировать, но сохранить». Вел он себя уже совсем не так, как раньше: журил подследственного за плохое поведение, жаловался на него жене. Оказывается, на вопрос Шиварова: «Ваше отношение к Советской власти?» — Мандельштам ответил:
— Готов сотрудничать со всеми советскими учреждениями, кроме Чека.
Христофорыч обиделся.
На свидании случилось еще одно чудо: жене предложили сопровождать мужа в ссылку. Не из сострадания, конечно, — просто состояние осужденного было таким, что без присмотра и ухода оставлять его было нельзя. А поскольку Надежда Яковлевна тут же согласилась, чекисты весьма срочно выписали на то и распоряжение.
Осужденного отправили в ссылку, дело его — в архив.
Но прошло чуть больше недели, и он опять потребовал к себе внимания.
Я тень.
Тюремные голоса преследовали Мандельштама: твердили о преступлении и наказании, перечисляли людей, которых он выдал. Ему казалось, что они уже казнены. Старший конвоир, тезка Мандельштама, добрый парень Ося говорил Надежде Яковлевне:
— Да успокой ты его! Это только в буржуазных странах за стихи расстреливают.
А осужденный постоянно, неотступно ждал расправы, назначал час: «Сегодня в шесть…» Жена тайком переводила часы.
Он не выдержал: уйти из жизни самому показалось легче, чем от чужой руки.
В ОГПУ.
Александра Эмильевича Мандельштама.
ЗАЯВЛЕНИЕ.
28 Мая по приговору ОГПУ брат мой О. Э. Мандельштам был выслан на три года в Чердынь. Жена брата Н. Я. Мандельштам, сопровождающая его в ссылке, сообщила телеграммой из Чердыни, что брат психически заболел, бредит, галлюцинирует, выбросился из окна второго этажа и что на месте, в Чердыни, медицинская помощь не обеспечена (медперсонал — молодой терапевт и акушер). Предполагается перевод в Пермскую психиатрическую больницу, что, по сообщению жены, может дать отрицательные результаты.
Прошу освидетельствовать брата и при подтверждении психического заболевания перевести его в город, где может быть обеспечен квалифицированный медицинский уход вне больничной обстановки, близ Москвы, Ленинграда или Свердловска.
6 Июня 1934 г.
Заявление это, находящееся в деле, судя по всему, напугало огэпэушников: ведь Сталин приказал — «сохранить»! На Урал полетели «меморандумы»: немедленно проверить психическое состояние осужденного, оказать содействие в лечении, поместить в больницу.
А 10 июня Особое совещание пересмотрело дело и постановило лишить Мандельштама права проживания в Московской и Ленинградской областях и еще в десяти центральных городах Союза. В других городах, стало быть, жить разрешалось. Мандельштам выбрал Воронеж — кто-то хвалил ему этот город, да и к Москве поближе.
Близкие объясняют пересмотр дела заступничеством Бухарина — Надежда Яковлевна бомбардировала телеграммами из Чердыни и его. Помогли, вероятно, и хлопоты друзей. В письме Сталину Бухарин написал: «Поэты всегда правы, история за них» — и добавил: «И Пастернак тоже волнуется». Сталин понял, что дело Мандельштама уже приняло широкую огласку, и любой исход будет связываться с его, Сталина, именем. «Кто дал им право арестовать Мандельштама? Безобразие», — начертал он на бухаринском письме.
Тогда-то и прозвенел его знаменитый телефонный звонок к Борису Пастернаку. Известно о нем стало со слов самого поэта, который не считал нужным это скрывать и возвращался к разговору со Сталиным на протяжении всей своей жизни. Однако, распространяясь в литературной среде, событие это искажалось, рождало множество разноречивых версий и сплетен. Одна из интерпретаций, весьма характерная для братьев писателей, зафиксирована в следственном деле. Драматург Иосиф Прут в своем отзыве о Мандельштаме при его реабилитации пишет со слов поэта Кирсанова:
Борису Пастернаку позвонил Поскребышев[130] и сказал:
— Сейчас с вами будет говорить товарищ Сталин!
И действительно трубку взял Сталин и сказал:
— Недавно арестован поэт Мандельштам. Что вы можете сказать о нем, товарищ Пастернак?
Борис, очевидно, сильно перепугался и ответил:
— Я очень мало его знаю! Он был акмеистом, а я придерживаюсь другого литературного направления! Так что ничего о Мандельштаме сказать не могу!
— А я могу сказать, что вы очень плохой товарищ, товарищ Пастернак! — сказал Сталин и положил трубку.
Сценка получилась вполне просталинская и противопастернаковская. Увы — «испорченный телефон», и сработал он не в пользу писателей.
На самом деле было иначе. Чтобы внести ясность, приведем этот важный телефонный разговор в том виде, в каком передал его Надежде Яковлевне сам Пастернак вскоре после события.
Сталин. Дело Мандельштама пересматривается. Все будет хорошо. Почему вы не обратились в писательские организации или ко мне? Если бы я был поэтом и мой друг поэт попал в беду, я бы на стены лез, чтобы ему помочь.
Пастернак. Писательские организации этим не занимаются с 27-го года, а если б я не хлопотал, вы бы, вероятно, ничего не узнали.
(Затем Пастернак прибавил что-то по поводу слова «друг», желая уточнить характер отношений с Мандельштамом, которые в понятие дружбы, разумеется, не укладывались).
Сталин. Но ведь он же мастер? Мастер?
Пастернак. Да дело не в этом.
Сталин. А в чем же?
Пастернак ответил, что хотел бы встретиться и поговорить.
Сталин. О чем?
Пастернак. О жизни и смерти.
На этом Сталин бросил трубку.
Позвонив Пастернаку, он еще прикидывает, как поступить, проверяет реакцию писателей, оценку Мандельштама как поэта — знает, что Пастернак не солжет. И конечно, меньше всего его волнует судьба самого Мандельштама или интересы поэзии. Благоприятный исход дела ему просто-напросто выгоден. На носу первый съезд советских писателей. Лучше было поиграть в кошки-мышки с поэтом, а в его лице — со всей интеллигенцией: с одной стороны, показать себя ее другом, с другой — припугнуть.
— А стишки, верно, произвели впечатление, если он так раструбил про пересмотр, — прокомментировал Мандельштам сталинский разговор с Пастернаком.
Но это была только отсрочка. Сталин никогда ничего не прощал, тем более такого — прямого выпада против себя. Мертвый Мандельштам был бы опаснее — стихи казненного звучат сильнее. Сломать никогда не поздно — попробуем согнуть — заставим поклониться! И сам Мандельштам, в отличие от многих, не питал тут никаких иллюзий. Он был уверен, что расправа только отложена до более удобного момента.
Все последующие годы ссылки в Воронеже, Савелове, Калинине для Мандельштама — сплошная цепь судорожных попыток уцелеть, примириться с действительностью, найти себе нишу в советской жизни. Нет, поэт вовсе не был небожителем. Он боится выпасть из истории, изо всех сил рвется к своим современникам, ищет сближения с писательскими организациями. И всякий раз терпит крах, и все больше убеждается в своем отщепенстве, ненужности, невозможности дышать — в этом стерилизованном, жестко регламентированном времени-пространстве. Островок его жизни тает, связи с людьми рвутся одна за другой. Общество отторгает его как инородное тело. И остается одно — бездомное скитание, нищета, унижение и пронизывающий полицейский контроль. Отчаяние нарастает — и приближает развязку.
Он уже снова затравлен, загнан в угол. Крик о помощи — в его письме Корнею Чуковскому (1937):
«Физически искалеченный — стал на работу. Я сказал — правы меня осудившие. Нашел во всем исторический смысл… Я работал очертя голову. Меня за это били. Отталкивали… Я поставлен в положение собаки, пса… Я тень. Меня нет. У меня есть только право умереть… В Союз писателей — обращаться бесполезно. Они умоют руки. Есть только один человек в мире, к которому по этому делу можно и должно обратиться… Помогите… Нового приговора к ссылке я не вынесу».
И снова все упирается в Сталина. Он один — полновластный хозяин любого из подданных в своей империи. И зачем ему рассуждать с поэтами о жизни и смерти, если и жизнь и смерть — в его руках! Еще в «Четвертой прозе» Мандельштам сказал о «рябом черте», которому запроданы на три поколения вперед те писатели, что «пишут заранее разрешенные вещи».
И вот он сам идет на последний шаг, последнее унижение: он пишет Сталину — не письмо, а оду! Он, пригвоздивший вождя к позорному столбу, вымучивает стихи, прославляющие его, — холодные, безжизненные и никому не нужные, потому что сотни ретивых борзописцев делают это куда лучше. На какое-то время он утрачивает сознание своей правоты. А потом признается: «Это была болезнь». Попытка насилия над собой опять не удалась.
Не с одним Мандельштамом случалось такое. И Ахматова, когда арестовали ее сына, пыталась выкупить его у Сталина — стихами. И тоже не получилось. И Борис Пастернак согрешил — даже не по необходимости, а по всеобщему духовному затмению, сталинскому идолопоклонству, желанию быть как все.
Поэт по природе своей не может служить злобе дня, его родина — вечное добро. Но при сталинском режиме тот, кто хотел служить вечности, становился кандидатом на тот свет, ибо с этого его сживали.
Весной 1938-го Мандельштам получил от Литфонда милостыню — путевку в дом отдыха «Саматиха», недалеко от Москвы. Перед отъездом он добился приема у Владимира Ставского, генерального секретаря Союза писателей.
— Я буду бороться в поэзии за музыку зиждущую! — говорит ему Мандельштам.
Тот внимательно слушает, желает хорошего отдыха, обещает до возвращения решить, что делать с его стихами и на какие средства жить. Хотя знает, что возвращения не будет.
Ибо уже готовит письмо Ежову, письмо-приговор.
Сов. секретно.
Союз Советских Писателей СССР.
Правление.
16 Марта 1938 г.
Наркомвнудел тов. Ежову Н. И.
Уважаемый Николай Иванович!
В части писательской среды весьма нервно обсуждался вопрос об Осипе Мандельштаме.
Как известно — за похабные клеветнические стихи и антисоветскую агитацию Осип Мандельштам был года три-четыре тому назад выслан в Воронеж. Срок его высылки окончился. Сейчас он вместе с женой живет под Москвой (за пределами «зоны»).
Но на деле — он часто бывает в Москве у своих друзей, главным образом — литераторов. Его поддерживают, собирают для него деньги, делают из него «страдальца» — гениального поэта, никем не признанного. В защиту его открыто выступали Валентин Катаев, И. Прут и другие литераторы, выступали остро.
С целью разрядить обстановку О. Мандельштаму была оказана поддержка через Литфонд. Но это не решает всего вопроса о Мандельштаме.
Вопрос не только и не столько в нем, авторе похабных, клеветнических стихов о руководстве партии и всего советского народа. Вопрос об отношении к Мандельштаму группы видных советских писателей. И я обращаюсь к Вам, Николай Иванович, с просьбой помочь.
За последнее время О. Мандельштам написал ряд стихотворений. Но особой ценности они не представляют — по общему мнению товарищей, которых я просил ознакомиться с ними (в частности, тов. Павленко, отзыв которого прилагаю при сем).
Еще раз прошу Вас помочь решить этот вопрос об Осипе Мандельштаме.
С коммунистическим приветом.
В. Ставский.
К письму приложена «рецензия»:
О СТИХАХ О. МАНДЕЛЬШТАМА.
Я всегда считал, читая старые стихи Мандельштама, что он не поэт, а версификатор, холодный, головной составитель рифмованных произведений. От этого чувства не могу отделаться и теперь, читая его последние стихи. Они в большинстве своем холодны, мертвы, в них нет того самого главного, что, на мой взгляд, делает поэзию, — нет темперамента, нет веры в свою строку.
Язык стихов сложен, темен и пахнет Пастернаком.
Едва ли можно отнести к образцам ясности и следующие строки:
Мне трудно писать рецензию на эти стихи. Не любя и не понимая их, я не могу оценить возможную их значительность или пригодность. Система образов, язык, метафоры, обилие флейт, аорий и проч., все это кажется давно где-то прочитанным.
Относительно хороши (и лучше прочих) стихи пейзажные, хороши стихотворения: 1) «Если б меня наши враги взяли…», 2) «Не мучнистой бабочкою белой…» и 3) «Мир начинается, страшен и велик…».
Есть хорошие строки в «Стихах о Сталине», стихотворении, проникнутом большим чувством, что выделяет его из остальных. В целом же это стихотворение хуже своих отдельных строф. В нем много косноязычия, что неуместно в теме о Сталине.
У меня нет под руками прежних стихов Мандельштама, чтобы проверить, как далеко ушел он теперь от них, но — читая — я на память большой разницы между теми и этими не чувствую, что, может быть, следует отнести уже ко мне самому, к нелюбви моей к стихам Мандельштама.
Советские ли это стихи? Да, конечно. Но только в «Стихах о Сталине» мы это чувствуем без обиняков, в остальных же стихах — о советском догадываемся. Если бы передо мною был поставлен вопрос — следует ли печатать эти стихи, — я ответил бы — нет, не следует.
И подпись — Петр Павленко.
Снова этот человек, как неотступная тень, возникает в судьбе Мандельштама. Почему именно он — сугубый прозаик — давал отзыв о стихах? Не нашлось, что ли, экспертов среди поэтов? Или тут нужен был совсем иной специалист — по особым, тайным поручениям?
«В своем одичании и падении писатели превосходят всех», — скажет Надежда Яковлевна, имея в виду Павленко, его роль соглядатая и рупора Органов. А ведь она не знала о рецензии-доносе, которая — в том же ряду поступков будущего сталинского лауреата.
Документы еще раз убеждают: созданный Сталиным Союз писателей был не только органом подавления свободы слова, удушения творчества, но и тайным осведомителем, своего рода филиалом Лубянки.
Заявление Ставского-Павленко вшито в следственное дело Мандельштама 1938 года и служит тем детонатором, который и привел к гибельному взрыву. Пишет не просто пролетарский писатель Владимир Ставский от своего имени — доносит генеральный секретарь Союза писателей, по долгу службы, от имени всей литературы Страны Советов: уберите Мандельштама, паршивая овца все стадо портит!
Через несколько лет Ставский погибнет на войне. Павленко доживет до 1951-го в довольстве и почете, его именем будут называть улицы. Парадокс — Борису Пастернаку до самой смерти суждено жить в Переделкине на улице Павленко! И до сих пор она называется так!
Книги Ставского и Павленко давно никто не читает, но имена солидно улягутся в энциклопедии и научные труды, и нигде о них, как и о многих других, им подобных, не будет сказано: провокатор, доносчик, убийца.
А ведь и эту расправу Мандельштам предсказал заранее, когда писал в «Четвертой прозе»:
«И все было страшно, как в младенческом сне. На середине жизненной дороги я был остановлен в дремучем советском лесу разбойниками, которые назвались моими судьями… Я виноват. Двух мнений здесь быть не может… Как стальными кондукторскими щипцами, я весь изрешечен и проштемпелеван собственной фамилией… И все им мало, все мало… С собачьей нежностью глядят на меня глаза писателей русских и умоляют: подохни! Откуда же эта лакейская злоба, это холуйское презрение к имени моему?».
То же, что у любимого Мандельштамом Данте: «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу…».
Как может «помочь решить вопрос» о поэте Ежов?
На письме Ставского — штамп: «4 отдел ГУГБ. Получено 13 апреля 1938». Стало быть, около месяца Ежов держал письмо, видимо, согласовывал со Сталиным, потом отдал подчиненным, запустил машину. И завертелось!
Начальник 9-го отделения 4-го отдела ГУГБ Юревич[131] настрочил справку, в которой умело развил пассажи Ставского:
По отбытии срока ссылки Мандельштам явился в Москву и пытался воздействовать на общественное мнение в свою пользу путем нарочитого демонстрирования своего «бедственного положения» и своей болезни.
Антисоветские элементы из литераторов, используя Мандельштама в целях враждебной агитации, делают из него «страдальца», организуют для него сборы среди писателей. Сам Мандельштам лично обходит квартиры литераторов и взывает о помощи.
По имеющимся сведениям, Мандельштам до настоящего времени сохранил свои антисоветские взгляды. В силу своей психической неуравновешенности Мандельштам способен на агрессивные действия.
Считаю необходимым подвергнуть Мандельштама аресту и изоляции.
В справке собраны все компроматы, которые есть в биографии поэта: сын купца 1-й гильдии, был членом партии эсеров, позже примкнул к анархистам. И главное преступление, которое Лубянка не забыла, хотя хозяева ее сменились, и час расплаты за которое теперь настал: «написал резкий контрреволюционный пасквиль против тов. Сталина и распространял его среди своих знакомых путем чтения».
Резолюция: «Арестовать. М. Фриновский[132]. 28 апреля 1938 г.».
Этот же Фриновский подписал и ордер на арест.
В доме отдыха Мандельштамам жилось уютно, просто замечательно! Впервые за многие годы изгнанники получили долгожданную передышку. Отдельное жилье, полное довольствие, внимание и предупредительность обслуги. Так хорошо, что Мандельштам даже засомневался:
— Мы, часом, не попали в ловушку? — Но отогнал от себя подозрения.
А это и была западня. Недаром дважды звонили в дом отдыха из Союза писателей и справлялись, как и что; приезжало районное начальство и проверяло наличие отдыхающих — все ли на месте. Поместили в дом отдыха — чтобы никуда не ушел от взора Органов, был под присмотром — легче взять.
За это время в Москве прошел кровавый процесс правотроцкистов. 15 марта был казнен Николай Бухарин — бывший высокий покровитель поэта, исход процесса, вероятно, тоже повлиял на судьбу Мандельштама (не случайно донос Ставского датирован 16 марта).
Наступил май. Отпраздновали международный праздник трудящихся. И нагрянули под утро 3-го.
На сей раз чекисты (в документах на арест — троица: Илюшкин, Шышканов и Шелуханов) долго не возились, управились в считанные минуты. Затолкали бумаги в мешок: «рукопись и переписка — одна пачка, книга — автор О. Мандельштам», забрали арестованного, сели в грузовик и умчались.
На Лубянке подчистили остатки личной жизни: чемоданчик, наволочку, деревянную трость, помочи и галстук. На анкете, заполненной Мандельштамом, написано: «Террор» — и подчеркнуто дважды — видимо, по этой линии предполагалось вести арестованного дальше.
Протокол допроса один, помечен 17 мая. Дело ясное, повторное — осталось соблюсти формальности. Допрашивал младший лейтенант Шилкин.
Вопрос. Вы арестованы за антисоветскую деятельность. Признаете себя виновным?
Ответ. Виновным себя в антисоветской деятельности не признаю.
В. За что вы были арестованы в 1934 г.?
О. В 1934 г. я был арестован и осужден за антисоветскую деятельность, выразившуюся в сочинении (на протяжении ряда лет) контрреволюционных стихотворений («Керенский», «Весна», «Кассандра» и др.), к трем годам высылки в г. Воронеж.
В. После высылки вам запрещено было проживать в Москве. Несмотря на это вы наезжали в Москву почти легулярно (так в тексте, видно, что за грамотей допрашивал поэта! — В.Ш.).
Расскажите, к кому и с какой целью вы ездили в Москву?
О. По окончании высылки летом 1937 г. я приехал в Москву, не зная того, что мне запрещено проживать в Москве. После этого я выехал в село Савелово, а в ноябре месяце 1937 г. переехал в г. Калинин.
Должен признать свою вину в том, что, несмотря на запрещение и не имея разрешения, я неоднократно приезжал в Москву. Цель моих поездок, в сущности, сводилась к тому, чтобы через Союз писателей получить необходимую работу, так как в условиях г. Калинина я не мог найти себе работы.
Помимо этого я добивался через Союз писателей получения критической оценки моей поэтической работы и потребности творческого общения с советскими писателями. В дни приезда я останавливался у Шкловского (писатель), Осмеркина (художник), которым я читал свои стихи. Кроме вышеперечисленных лиц я также читал свои стихи Фадееву на квартире у Катаева Валентина, Пастернаку, Маркишу[133], Кирсанову, Суркову, Петрову Евгению, Лахуmи и Яхонтову (актер).
В. Следствию известно, что вы, бывая в Москве, вели антисоветскую деятельность, о которой вы умалчиваете. Дайте правдивые показания.
О. Никакой антисоветской деятельности я не вел.
В. Вы ездили в Ленинград?
О. Да, ездил.
В. Расскажите о целях ваших поездок в Ленинград.
О. В Ленинград я ездил для того, чтобы получить материальную поддержку от литераторов. Эту поддержку мне оказали Тынянов, Чуковский, Зощенко и Стенич[134].
В. Кто оказывал вам материальную поддержку в Москве?
О. Материальную поддержку мне оказывали братья Катаевы, Шкловский и Кирсанов.
В. Расскажите о характере ваших встреч с Кибальчичем…
О Кибальчиче (литературное имя — Виктор Серж) следователь заводит речь не случайно. Одно знакомство с этим известным троцкистом, причисленным к опаснейшим врагам советской власти, считалось преступлением и вменялось в вину.
Ответ. С Кибальчичем я встречался исключительно на деловой почве, не более трех раз. Первый раз в 1924–1925 гг. я зашел к нему на службу в Ленгиз за получением переводной работы. Второй раз я был у него на квартире, это посещение также было вызвано необходимостью получения переводной работы. И третий раз, в 1932 г., я, будучи в Ленинграде, пригласил к себе в гостиницу нескольких ленинградских писателей, в том числе и Кибальчича, которым прочел свое произведение «Путешествие в Армению». Больше нигде с ним не встречался.
На этом допрос и кончается, довольно странным образом, очень непохожим на лютую лубянскую практику. В самом деле, ведь следователь потерпел полное поражение — не получил нужных признаний. Да и, кажется, не очень старался. По существу, следствия вообще не проводилось, никаких конкретных обвинений предъявлено не было.
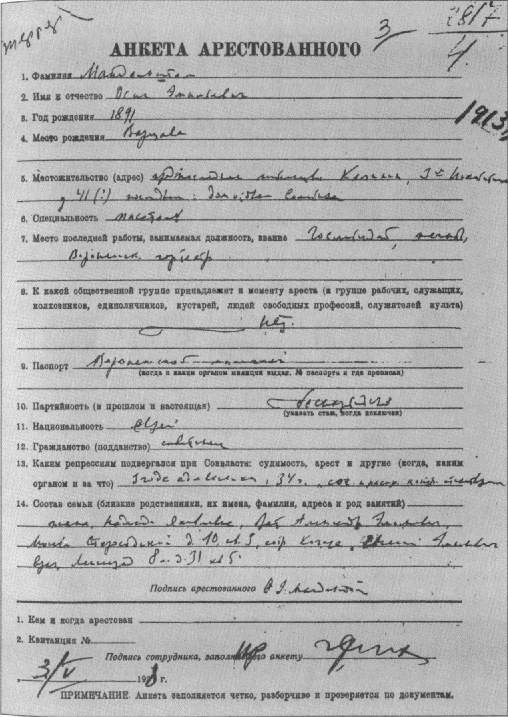
Анкета арестованного О. Э. Мандельштама.
3 Мая 1938 года.
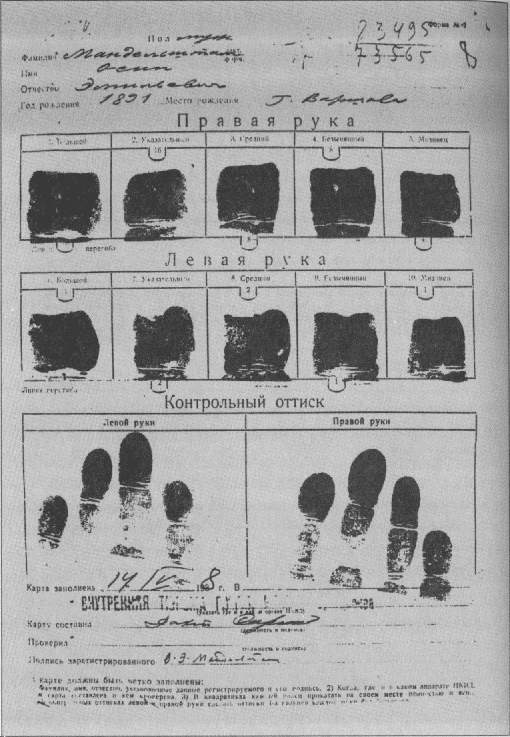
Оттиски пальцев рук О. Э. Мандельштама.
14 Мая 1938 года.
Трое тюремных врачей (опять тройка!) освидетельствовали узника: «Душевной болезнью не страдает, а является личностью психопатического склада со склонностью к навязчивым мыслям и фантазированию. Как душевнобольной — вменяем».
Сочинить обвинительное заключение следователю Шилкину не составило большого труда — он тоже использовал письмо Ставского, иногда слово в слово. Генсек Союза писателей хорошо поработал на НКВД! Правда, кое-что следователь добавил и от себя: «Мандельштам поддерживал тесную связь с врагами народа Стеничем, Кибальчичем, до момента высылки последнего за пределы СССР и др.» «Террор» был снят, за недоказанностью, поэта обвинили, как и в 1934-м, по статье 58, пункт 10: антисоветская агитация.
2 Августа Особое совещание при НКВД постановило: Мандельштама, «сына купца, бывшего эсера» — не поэта! — заключить в концлагерь сроком на пять лет.
Приговор означал: «изолировать» — и необязательно «сохранить», достаточно было взглянуть на осужденного, чтобы понять: пяти лет лагерей он не выдержит, приговор смертельный.
Через несколько дней он был переведен в Бутырскую тюрьму, служившую тогда всесоюзной пересылкой, — для направления «в Колыму».
В кругах ГУЛада.
«Ося, родной, далекий друг! Милый мой, нет слов для этого письма, которое ты, может, никогда не прочтешь. Я пишу его в пространство.
Осюшка — наша детская с тобой жизнь — какое это было счастье. Наши ссоры, наши перебранки, наши игры и наша любовь… Ты помнишь, как мы притаскивали в наши бедные бродячие дома-кибитки наши нищенские пиры? Помнишь, как хорош хлеб, когда он достался чудом и его едят вдвоем?.. Наша счастливая нищета и стихи…
Я благословляю каждый день и каждый час нашей горькой жизни, мой друг, мой спутник, мой слепой поводырь…
Я не успела тебе сказать, как я тебя люблю…
Это я — Надя. Где ты?».
Письма в никуда — их писали тысячи женщин, теряя близких в адских кругах ГУЛАГа.
С момента ареста до самой зимы о Мандельштаме ничего не известно. В середине декабря брат Осипа Эмильевича получил от него единственное письмо — это последние слова поэта, дошедшие до нас:
«Дорогой Шура!
Я нахожусь — Владивосток, СВИТЛ[135],11-й барак. Получил 5 лет за к.р.д.[136], по решению ОСО[137]. Из Москвы, из Бутырок, этап выехал 9 сентября, приехали 12 октября. Здоровье очень слабое. Истощен до крайности, исхудал, неузнаваем почти, но посылать вещи, продукты и деньги — не знаю, есть ли смысл. Попробуйте все-таки. Очень мерзну без вещей.
Родная Наденька, не знаю, жива ли ты, голубка моя. Ты, Шура, напиши о Наде мне сейчас же. Здесь транзитный пункт. В Колыму меня не взяли. Возможна зимовка.
Родные мои, целую вас. Ося».
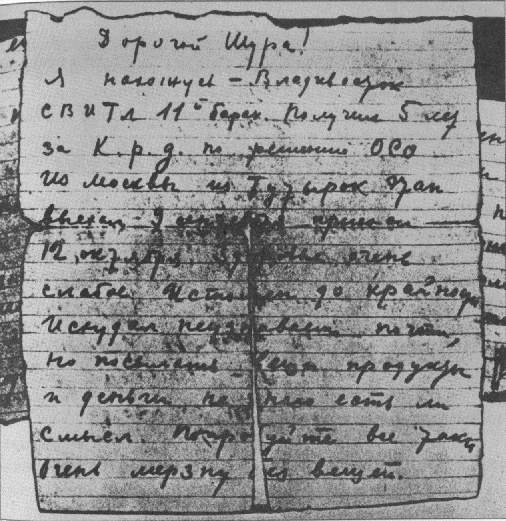
Последнее письмо О. Э. Мандельштама из лагеря.
Ноябрь-декабрь 1939 года.
Жив! Надежда Яковлевна бросилась на помощь: послала ему посылку, деньги. В следственном деле сохранилось еще одно, неизвестное до сих пор свидетельство ее бесстрашной борьбы за мужа:
Москва, 19 января 1939 г.
Уважаемый товарищ Берия!
В мае 1938 года был арестован поэт О. Э. Мандельштам…
Вторичный арест явился полной неожиданностью. К этому времени Мандельштам закончил книгу стихов, вопрос о печатании которой неоднократно ставился ССП[138]. Мы скорее могли ожидать его полного восстановления и возвращения к открытой литературной деятельности, чем ареста.
Мне неясно, каким образом велось следствие о контрреволюционной деятельности Мандельштама, если я — вследствие его болезни в течение ряда лет не отходившая от него ни на шаг — не была привлечена к этому следствию в качестве соучастницы или хотя бы свидетельницы.
Прибавлю, что во времена первого ареста в 1934 г. Мандельштам болел острым психозом — причем следствие и ссылка развернулись во время болезни. К моменту второго ареста Мандельштам был тяжело болен, физически и психически неустойчив.
Я прошу вас:
1. Содействовать пересмотру дела О. Э. Мандельштама и выяснить, достаточны ли были основания для ареста и ссылки.
2. Проверить психическое здоровье О. Э. Мандельштама и выяснить, закономерна ли в этом смысле была ссылка.
3. Наконец, проверить, не было ли чьей-нибудь личной заинтересованности в этой ссылке.
И еще — выяснить не юридический, а скорее моральный вопрос: достаточно ли было оснований у НКВД, чтобы уничтожать поэта и мастера в период его активной и дружественной поэтической деятельности.
Надежда Мандельштам.

Письмо Н. Я. Мандельштам к Л. П. Берии.
19 Января 1939 года.
В этом по-мандельштамовски дерзком, опасном для жизни письме жена поэта обнажает всю беззаконность расправы, учиненной НКВД, указывает даже на скрытую пружину ее — чью-то личную заинтересованность. И упоминает слово «мастер» тоже, видимо, не случайно — ведь именно так назвал Мандельштама Сталин в своем разговоре с Пастернаком. Вдруг донесется это заявление до Кремля?
Но глас ее вопиет в пустыне.
И ответ пришел не от Берии. Вернулся денежный перевод. «За смертью адресата», — сообщили на почте.
Этот день — 5 февраля 1939-го — вошел в историю советской литературы, но не поминками — праздником. «Литературная газета» опубликовала огромный список писателей, награжденных орденами, — больше полутора сотен человек! Были среди них, конечно, и Ставский — орден «Знак Почета», и Павленко, этот удостоился высшей награды — ордена Ленина. Заслужили! Правительство знало, кого, за что и чем награждать. Ордена обмывали обильными возлияниями — писательские квартиры весело гудели. Новость о Мандельштаме прошла почти незамеченной. Горевала небольшая кучка друзей. Из литературных воротил один Фадеев пролил пьяные слезы:
— Какого мы уничтожили поэта!..
А в НКВД рассматривали жалобу Надежды Яковлевны. Оправдать? Как бы не так! Оперуполномоченный, сержант Никиточкин нашел, что Мандельштам не заслуживает оправдания. За бюрократической возней угадывается стальная верховная воля: прощения поэту не будет!
Из постановления этого, утвержденного только в 1941 году, мы узнаем также, что Мандельштам… «наказание отбывает в Колыме». И тут же в деле есть другие данные. Короткая приписка на обороте одной из бумаг гласит: «Умер: 21 декабря 1938 г. в Севвостоклаге (Магаданская область)».
Так жив? Или умер на Колыме?
Сразу же после возврата денежного перевода со страшной вестью Надежда Яковлевна обратилась в ГУЛАГ с просьбой проверить эти сведения и выдать ей официальную справку о смерти. Проверка тайной канцелярии, зафиксированная в тюремно-лагерном деле, длилась почти полтора года! Жена получила справку: умер в возрасте 47 лет 27 декабря 1938 г. Но здесь же указано, что в книге записей смерть зарегистрирована в мае 40-го.
Чему же верить?
Государство потеряло человека. Или, изолгавшись, само запуталось в собственном вранье.
И, наконец, уже полная чертовщина, интермедия под занавес трагедии. 1956 год. Эпоха раннего реабилитанса. Еще одна просьба о пересмотре дела. Долгожданное решение! И — справка о снятии судимости «дана… гражданину Мандельштаму Осипу Эмильевичу» и выслана в город Чебоксары (там жила тогда Надежда Яковлевна).
Фантастический документ! Казенные крючкотворы выдают поэту справку на бессмертие.
Надежда Яковлевна узнает от прокуроров и другую новость: оказывается, ее муж недореабилитирован, он еще преступник — первое дело не закрыто. Все повторяется: «Я прошу Прокуратуру пересмотреть и дело 1934 года, так как знаю, что Мандельштам был совершенно невиновен, а выслали его за стихотворение против культа личности, которое он имел неосторожность прочесть нескольким людям из ближайшего окружения».
Напомним, идет 1956-й… Сталин умер, но дело его живет! Прокуроры-сталинисты, посовещавшись, решают: Мандельштам осужден правильно и оснований для пересмотра дела нет! Поэта и мертвого не выпускают из тюрьмы. Как тут не вспомнить его слова: «Мое дело никогда не кончится…».
Так и не дождалась Надежда Яковлевна реабилитации мужа.
Минуло еще тридцать лет. 1987 год. Страна кипит: перестройка, гласность, демократия! Стихи Мандельштама, редко появлявшиеся в печати, перекочевали из самиздата на страницы книг, журналов, газетные полосы, звучат по радио, их поют эстрадные звезды. В связи с подготовкой к столетию поэта общественность требует его полной реабилитации.
Карательные органы вынуждены прислушаться, КГБ начинает дополнительную проверку. Как легко государству расправиться с человеком и как трудно его оправдать! Волынка растягивается на весь год.
Снова проверяются досье поэта, сыпятся запросы в другие архивы. Скребут по всей стране — ау, Мандельштам! Не знаете ли чего про Мандельштама? Запрашивают Пермь — данных нет. Находят в Воронеже — Мандельштама Иосифа Эмильевича. Не тот, хотя тоже побывал в тюрьме. Следственный отдел КГБ продолжает усматривать, что в 1956-м поэт вместе с супругой проживал в Чебоксарах, — и требует у тамошних коллег материалы на него…
Кажется, это уже действуют не люди, а сама репрессивная машина, без них, тупо ворочает ржавыми шестеренками человеческую судьбу, путая даты и фамилии, перемешивая живых и мертвых. И кто знает, что ею теперь движет — преступная жестокость или дремучее невежество?
Ищут следователей Мандельштама и чекистов, производивших у него обыск. Выясняется, что Христофорыч прослужил в Органах до 1937-го, когда был уволен, уже из Свердловского НКВД, и затем исчез. Коллеги Христофорыча из 1987-го предпочитают темнить: «Установить и допросить не представляется возможным». То же и о других чекистах. Как будто это иголки в стоге сена! Узнать хотя бы, что стало с ними, конечно, ничего не стоило — когда нужно, из-под земли достанут. Да, видно, не очень-то и искали: сведения о своих, карателях, охраняются еще прилежней, чем о жертвах. Зато не преминули добавить о Христофорыче: «Сведений о нарушении социалистической законности не имеется». Чекистский мундир должен быть чист!
Но, как сказано, — нет ничего тайного, что бы не стало явным! Уже в 2000-м, в новом веке, вышли мемуары Галины Катанян[139], в которых она проливает свет на личность и финал Христофорыча:
«Col1_0, коммунист-подпольщик, по профессии журналист. В 20-е годы он бежал в СССР из болгарской тюрьмы. Как потом до меня дошло — за какое-то покушение. Он был высок, красив, несмотря на большую лысину и туповатый короткий нос, и очень силен».
Однажды утром Шиваров пришел к Катанян, мрачный, и сказал, что его скоро арестуют, а если после арестуют и его жену, он просит взять их ребенка, спасти от детдома. Вскоре Христофорыча действительно арестовали. Катанян пошла к его другу — Александру Фадееву и услышала:
— Арестовали, значит, есть за что. Даром, без вины, у нас не сажают…
А в июле 1940-го Катанян передали записку от Шиварова, из лагеря: «Галюша, мой последний день на исходе. И я думаю о тех, кого помянул бы в своей последней молитве, если бы у меня был хоть какой-нибудь божишко. Я думаю и о Вас, забывающей, почти забывающей меня». Христофорыч сообщил, что инсценировал в лагере кражу со взломом, чтобы не подводить врача, выписавшего ему люминал. «Но не надо жалких слов и восклицаний. Раз не дают жить, так и не будем существовать. Если остался кто-нибудь, кто помнит меня добрым словом, — прощальный привет. 3 апреля 1940 г.».
Следственный отдел КГБ разыскивает и допрашивает престарелых свидетелей — их уже можно пересчитать по пальцам, тех, кто знал Мандельштама.
— Он был гордо независимый человек с высоко поднятой головой, — говорит писатель Каверин. — Авторство Мандельштама в стихах против Сталина для меня несомненно. Никто не мог написать о Сталине с такой выразительностью и силой. Да и никто бы никогда не посмел…
Но машина, запрограммированная на классовую борьбу, не спешит перестраиваться и продолжает по инерции цеплять все крамольное, что попадает в сферу ее действия. Теперь это уже книги жены поэта, изданные на Западе, — следователь Памфилов в присутствии двух женщин-понятых, статистов, всегда имеющихся под рукой у КГБ, «с 9.00 до 17.30» читает мемуары Надежды Яковлевны и заносит в протокол:
…Автор явно тенденциозно делает попытку показать, что в 30-е годы Советский Союз переживал не что иное, как «кровавый террор», когда «карающие органы искореняли интеллигенцию и устанавливали единомыслие, держали в диком страхе, мучившем всех до смерти Сталина».
В те годы Н. Мандельштам не видит разницы между Советской властью и фашизмом, описывая свои личные неудачи, вспоминает о «лучшей жизни» в царской России… По мысли автора, отдельные негативные явления в жизни нашего государства в период культа личности являются символом того времени…
Н. Я. Мандельштам клеветнически утверждает, что О. Э. Мандельштам не был удостоен реабилитации в связи с тем, что «план уничтожения людей отпускали сверху», а «борьба с идеализмом была и будет главной задачей эпохи»…
Какой знакомый стиль! Как близко от 80-х до 30-х! Просто рукой подать! Как будто и не прошло полвека от года Большого террора до года Перестройки, дай только Органам команду, развяжи руки — и всё сначала.
28 Октября 1987-го, после стольких потуг, Верховный Суд все-таки оправдал поэта. Справедливость восторжествовала! Кому она нужна теперь, когда все — и жертвы, и палачи — давно на том свете? Что с ней делать?
Когда же все-таки в точности погиб Мандельштам? Сейчас, после знакомства с его тюремно-лагерным делом, все сомнения отпали. Там, вместе с последней фотографией поэта (изможденный старик, почти голый череп вместо лица — но поднят так же горделиво, как прежде), вместе с отпечатком большого пальца правой руки, с описанием примет («На левой руке в нижней трети плеча имеется родинка» — эта обнаженная беззащитность поражает больше всего), есть и акт о смерти, составленный врачом Кресановым. Мандельштам был помещен в лазарет 26 декабря 1938-го и уже на следующий день в 12 часов 30 минут умер. Причина смерти — паралич сердца и артериосклероз.
При сличении отпечатков пальцев умершего записали — «Мендельштам» («Что за фамилия чертова!.. Криво звучит, а не прямо»).
Обстоятельства последних дней поэта можно восстановить по крохам воспоминаний редких очевидцев — узников того же концлагеря. Некоторые из них десятки лет хранили молчание и заговорили лишь сейчас, вместе с архивными документами, поверив в необратимость перемен в стране.
В лагере Мандельштама больше звали не по фамилии, а просто Поэт — в отличие от лубянских палачей, которые ему в этом имени отказывали. Он слыл за полусумасшедшего и в декабре уже стал полным доходягой — не вставал с нар.
— Живой? — кричали блатные из хозобслуги, принося пищу. — Эй ты, подними-ка голову!
Поэт слабо приподнимался — и получал пайку.
А мимо каждый день проносили умерших и умирающих — в лагере свирепствовал тиф.
Перед Новым годом на Тихоокеанское побережье налетел снежный циклон. Сильно похолодало, дул шквальный ветер. Зэков из барака номер одиннадцать повели в баню, на санобработку. Солагерник поэта Юрий Моисеенко был рядом с ним в его последние часы. Картина — из Дантова ада!
— Мы разделись, повесили одежду на крючки и отдали в жар-камеру. Холодина, как на улице. Все дрожали, а у Осипа Эмильевича костяшки ну прямо стучали. Он просто скелет был, шкурка морщеная… Мы кричим: «Скорее! Заморозили!» Ждали минут сорок, пока не объявили: идите одевайтесь. Это — на другой половине…
В нос ударил резкий запах серы. Сразу стало душно, сера просверливала до слез… Осип Эмильевич сделал шага три-четыре, отвернулся от жар-камеры, поднял высоко так, гордо голову, сделал длинный вдох… и — рухнул. Кто-то сказал: «Готов». Вошла врач с чемоданчиком. «Что смотрите, идите за носилками…».
Конец был будничен и страшен — привязали бирку к ноге, бросили труп на телегу, вместе с другими, вывезли за лагерные ворота и скинули в ров — братскую могилу.
— Вряд ли какая улица на Земле будет названа именем Мандельштама, — говорила жена поэта.
Да так ли уж важно, есть ли такая улица в каком-нибудь городе, — она уже есть навсегда — и в мировой поэзии и в нашей жизни!
Но вот почтальон принес свежие газеты и там: в Париже, в самом сердце Латинского квартала, на доме, где когда-то жил поэт, открыта мемориальная доска его памяти. Прошло несколько дней, и имя его аукнулось на противоположном конце Евразии, на берегу Тихого океана. Другая газета сообщает: расположенную на окраине Владивостока, на месте бывшего транзитного концлагеря, улицу Печорскую собираются переименовать в улицу Мандельштама.
Все — как в стихах:
Седьмое небо. НИНА ГАГЕН-ТОРН. ГЕОРГИЙ ДЕМИДОВ.

Слово Божие.
Колымские музы.
Освенцим без печей.
Полюс лютости.
Слово Божие.
— Который час?
— Не велено говорить…
Петропавловская крепость. Алексеевский равелин. Узник камеры номер 5. Преступление: был членом тайного общества, замышлял бунт против царя и приготовлял товарищей к мятежу планами и словами. Наказание: двадцать лет одиночного заключения. Читать разрешено только Библию. И за все это время рядом — единственная живая душа, мышонок, которого особо опасный преступник декабрист Гавриил Батеньков приручил хлебными крошками и лаской.
Погребен заживо. Как достучаться до людей из своего каменного гроба, подать о себе весть?
— Который час?
— Не велено говорить…
И тогда он обратил взор внутрь себя:
«Человек Божий весь внутрь себя. Лицо его обращено к Свету, явно ему сияющему, и ухо к Слову, явно с ним беседующему… Извне — что говорят и думают или что где происходит. Внутрь — Глас Божий».
С заклинанием «В челе человеческом есть свет!» пустился он в путь, в путь по вертикали, ибо горизонтальный был ему отрезан.
«Было откровение: слово Божие…
В ноябре месяце 1827 года я стал чувствовать сильный пиитический восторг, неколебимую веру Богу, стал выражать мысли обыкновенным размером стихов и ясно чувствовал, что это действие в душе высшей силы… Я почувствовал себя Творцом, равным Богу, и вместе с Богом решился разрушить мир и пересоздать…».
Двадцать лет длился этот невиданный эксперимент. Отчет о нем — рукопись — кипа листов и толстая тетрадь, исписанные мелким, трудноразборчивым почерком, и еще пачка писем царю: религиозные и философские поиски, стихи, планы государственного переустройства, мистические откровения. Ступив в разреженную, заоблачную область духа, Батеньков не мог рассчитывать, что его скоро услышат и поймут. Дойдет ли его голос до людей, быть может, только потомки расшифруют то, что увидел он в глухом каземате при свете коптящей лампы, когда одна тень, прыгая по стенам, передразнивала его и напоминала, что он жив?
Читал ли царь эти письма и письмена? Но на докладе о Батенькове шефа жандармов собственноручно написать соизволил: «Доказан в лишении рассудка».
Царь — это человек, лишенный воображения, сказал какой-то мудрец. А у арестанта не оставалось уже ничего, кроме воображения. Царю Николаю не дано было понять, что одержимость Батенькова — не болезненная мания, а сознательный, пусть и обреченный вызов здравому смыслу, вопреки которому декабристы пошли на эшафот, который цари и тираны всех времен с таким трудом стремились сохранять на земле, тому здравому смыслу, который здравым никогда и не был.
«В челе человеческом есть свет, равный свету. Мысль».
Мысль и Слово как последняя возможность самовыражения, пробивающая путь к вышним истинам. «Вертикаль» Батенькова глубоко засела в сознании, мучила, не давала покоя. Я задумал роман под названием «Одичалый» — так подписывал Батеньков свои стихи, сочиненные в тюрьме. Роман не был написан, но идея его воскресла, вышла наружу и получила неожиданное разрешение — на современном материале.
Парадокс — несвобода открывала в человеке шлюзы духовной работы и творчества. Не только писатели, но и тысячи людей, чье призвание лежало вне сферы литературы, под натиском репрессий обратились к Слову. В лагере, тюрьме, ссылке Слово часто оставалось единственной, спасительной отдушиной.
К вечеру заверещал и щелкнул замок. Дверь широко раскрылась: «На прогулку!».
Нас посадили в лифт. Подняли очень высоко. Открыли дверь. Пахнуло морозцем. Вышла.
Ночное небо озарено снизу огнями города. Ярко направлен луч фонаря, освещающий клетку без крыши. В рост человека бетонные стенки, выше на два метра — проволочная сеть и за ней еще такие же сети клеток. Можно сделать шагов двадцать по кругу. Над клетками мерцает, отражая огни, клубится небо. В луче фонаря танцуют звездочки снежинок. Из глубины, снизу, доносятся гудки машин, звон трамваев, гул большой площади. Клетки — на крыше, на восьмом этаже. Стою. Смотрю.
Кружатся снежные звезды. Под их ритм возникают стихи:
Во что вера?
В то, что есть все-таки небо. И это помощь судьбы, что не спустили нас в колодец двора, а подняли на крышу. Здесь выход из клетки к танцу снежинок, к черному небу — ничего они не смогут сделать со мной!..
Стих в тюрьме — необходимость: он гармонизирует сознание во времени… человек выныривает из тюрьмы, овладевая временем, как пространством… Те, кто разроет свое сознание до пласта ритма и поплывет в нем, не сойдут с ума. Снежинки в фонаре тоже танцуют ритмически. Белые на черном небе. Овладение ритмом — освобождение… Они ничего не смогут сделать… Щелкнула дверь клетки: «В камеру!».
Камера — внутренней тюрьмы Лубянки, автор этих воспоминаний — дважды арестованная Нина Ивановна Гаген-Торн: «Овладение ритмом — освобождение… Ничего они не смогут сделать со мной!».
Им, таким, как Нина Гаген-Торн, чтобы сказать свое слово, надо было сначала выжить, выжить в нечеловеческих условиях, сохраняя ясность ума и присутствие духа. Надо было осознать это слово как некую сверхзадачу, необходимость оставить свидетельство о сталинщине, самом большом бедствии в нашей истории, сказать от себя — за всех погибших. А для такого взгляда надо было освободиться от навязанных сверху идеологических шор, стать свободными не внешне, но внутренне, по сути. Надо было еще этим словом овладеть, испытать муки творчества и сомнения в своих силах, насмешки благополучных «профессионалов», да, как правило, в условиях подпольных или полуподпольных, пряча записи, боясь обыска, перенося насилие властей до последнего момента.
И самым тяжелым было вот что: чтобы об этом рассказать, надо было еще раз это пережить.
Но есть все же высшая справедливость. Судьба на каком-то витке, если его достигнуть, вдруг оборачивается другим своим лицом. И сами книги помогли авторам выжить. Мощный и правдивый пласт «тюремной» и «лагерной» литературы, несущий силу и честность документа, отмечен знаком геройства, — это делает честь авторам, хотя и не делает чести стране. Но таков, видно, крест русской литературы — катарсис, в античном смысле — очищение через страдание, через беду.
Этот феномен еще требует осмысления. Может быть, потому и не сошел наш народ с ума, что находил себе спасительное убежище — в творчестве, в Слове? И не в том ли печальная разгадка особой склонности нашей к литературе?
Эту преданность жизни в родной словесности быстрее заметили на Западе — большое видится на расстоянии. «О современной русской литературе я хочу сказать особо, — писал Эжен Ионеско. — Как мне кажется, мы еще не знали такой литературы, в которой бы документ и искусство соседствовали рядом. Это литература документа, литература человеческой правды. О ней нельзя говорить в обычных эстетических категориях, как о хорошей или плохой, когда за ее каждое слово писателя ожидает каторга, тюрьма или психбольница. Для нее нужны другие оценки.
Писать в России — это героизм. Писать — это почти приближаться к святости. Когда Солженицын нам рассказывает о том, что он пережил на дне дантовского ада, мы чувствуем, что здесь не только литература, но сама истина… Вот как я хотел бы определить современную русскую литературу — она Движется, имея в виду не литературные или эстетические задачи, а истину. Правду. Свидетельство. Я должен сказать, что я чувствую большое уважение к русским писателям».
Колымские музы.
Работая в Комиссии по творческому наследию репрессированных писателей, читая десятки рукописей, я с особым пристрастием отбирал материалы, касающиеся лагерной Колымы. И не только потому, что сам своей судьбой связан с этим краем, изъездил вдоль и поперек места бывших лагерей, дружил с бывшими колымскими зэками, да и писал не раз о той Колыме, хоть и не давали такое печатать. Но и материалов в комиссию поступало больше всего о ней — о Колыме, и были такие рукописи, пожалуй, самыми интересными и ценными.
Подтверждались мысли Александра Солженицына: «Колыма в Архипелаге — отдельный материк, она достойна отдельных повествований… Отчего получилось такое сгущение, а неколымских мемуаров почти нет? Потому ли, что на Колыму стянули цвет арестантского мира?».
В наши дни Варлам Шаламов, Юрий Домбровский, Анатолий Жигулин, Евгения Гинзбург[140] напечатаны массовыми тиражами и услышаны всеми. Но не исчерпана тема. И потому так важно сейчас, не повторяя уже известное, обнародовать то, что еще неведомо. Прислушаемся к Варламу Шаламову: «Так называемая лагерная тема — это очень большая тема, где разместятся сто таких писателей, как Солженицын, пять таких писателей, как Лев Толстой. И никому не будет тесно».
Говорят: хватит рыться в прошлом! Давайте о другом! Устали! А я думаю, мы только еще подступили к своей истории, только начали что-то понимать. У нас есть хороший вдохновляющий пример — Пушкин, который в последние годы жизни, как на службу, ходил в архивы, по крохам собирал воспоминания. «История Петра», «История Пугачева»… Не жалел вдохновения! Что же до лагерной темы, тут особый долг, единственная возможность помочь павшим и отверженным, спасти их от забвения. Да и не столько им это нужно, сколько нам, живым!
На фотографии — юная девушка с ослепительной улыбкой: прямой доверчивый взгляд, роскошные косы до пояса, тонкие руки, обхватившие колени… Кто-то написал на снимке: «Солнышко!» — это слово не стерлось за целую жизнь. Ничто не изуродовало ее души, не сломило духа, не погасило улыбку. Когда я впервые опубликовал ее прозу и стихи вместе с фотографией в журнале «Огонек», посыпались письма, некоторые просто с фотографиями неопознанных загадочных женщин: «А может быть, это она?» Сам человеческий образ взволновал, растревожил.
О ее судьбе я узнал от дочери, которая позвонила в комиссию, пригласила к себе в дом, показала бережно сохраненное литературное наследие своей матери.
Нина Гаген-Торн. Красавица и умница. Ровесница века. Дочь профессора Военно-медицинской академии, обрусевшего шведа. Отчаянная с детства: ездила верхом, лазала по соснам на дюнах, уходила в море на байдарке одна, к ужасу близких.
Блестящее, многообещающее начало. Выпускница Петербургского университета. Ученый-этнограф, поэт. В юности — самостоятельная научная работа, экспедиции на Русский Север, в Поволжье. А между скитаниями — совсем другой мир: Петербург-Петроград. Встречи с Андреем Белым. Вот какими остались они в памяти Нины: «Общение… открывало неведомые пласты сознания, прасознания какого-то… Это другое восприятие мира, где человек взлетел над видимым глазами в невидимое».
Такой была увертюра. А потом жизнь. Первый срок — в 1937-м, тюрьмы и лагеря Колымы. После небольшого перерыва, за который Нина успела вернуться в Академию наук, подготовила кандидатскую диссертацию, в 47-м — новый арест, на этот раз мордовские лагеря. И там, в лагерях, огромная духовная работа: не только выжить, но и запомнить, запечатлеть в слове, сплавив воедино лиричность поэта и точность ученого.
Мясорубка работала автоматически. Не было садистской романтики 37-го года, когда мы слышали сквозь стены стоны и крики людей. Когда шептались о побоях и истязаниях, а следователи проводили бессонные ночи, вытягивая из измученных людей фантастические заговоры. Следователи изменились: в 47-м мне встретились не маньяки, не садисты и виртуозы, а чиновники, выполнявшие допрос по разработанным сценариям.
В первый допрос майор орал и матерился потому, что ему был указан этот прием. При неожиданном варианте — ответный мат от интеллигентной и пожилой гражданки — растерялся.
Другой мой следователь поставил меня у стены. Требовал, чтобы я подписала протокол с несуществующими самообвинениями. Я отказалась. Устав, не зная, что делать, подскочил, разъяренный, ко мне с кулаками:
— Изобью! Мерзавка! Сейчас изобью! Подписывай!
Я посмотрела ему в глаза и сказала раздельно:
— Откушу нос!
Он всмотрелся, отскочил, застучал по столу кулаками. Чаще допрос был просто сидением: вводили в кабинет, «садитесь», говорил следователь, не подпуская близко к своему столу. «Расскажите о вашей антисоветской деятельности».
«Мне нечего рассказывать».
Следователь утыкался в бумаги, делая вид, что изучает, или просто читал газеты: примитивная игра на выдержку, на то, что заключенный волнуется. Без всякой психологии: по инструкции должен волноваться. А следователю засчитываются часы допроса. Раз я спросила:
— Вам сколько платят за время допросов? В двойном размере или больше?
— Это вас не касается! — заорал он. — Вы должны мне отвечать, а не задавать вопросы.
Другой раз, когда он читал, а я сидела, вошел второй следователь. Спросил его:
— Ты как? Идешь сдавать?
— Да вот Спартанское государство еще пройти надо, тогда и пойду.
Я поняла, что он готовится к экзамену по Древней Греции.
— Спартанское государство? — спросила я мягко. — Хотите, расскажу?
Он покосился, а вошедший заинтересовался:
— Вы кто такая?
— Кандидат исторических наук.
— А ну, валяйте, рассказывайте! Мы проверим, насколько вы идеологически правильно мыслите.
Он сел. Оба явно обрадовались. Я дала им урок по истории Греции, и мы расстались дружески.
— Идите в камеру отдыхать, скоро ужин, — сказал мой следователь.
Спуск в лифте, переход коридорами под щелканье стрелка, и я — в камере. Миски с перловой кашей уже стояли на столе, а на скамьях сидели женщины.
«Время и пространство, время и пространство…» — думала я, шагая по камере. Можно или выйти таким же, как вошел, или, не выдержав, свихнуться… если не научишься мысленно передвигаться в пространстве, доводя мыслеобраз почти до реальности. Заниматься этим без ритма — тоже свихнешься. Помощником и водителем служит ритм.
Вспомнилось, как, лежа на койке в Крестах, я увидела Африку:
Так отчего же так странно знакомы эти вот черные дети, листья в платановом свете, красноватой земли пересохшие комья? Оттого, что я сумела нырнуть в себя, собрав и сосредоточив в образ все, что когда-то знала об Африке. И для себя довела этот образ до чувства реальности — выхода из камеры…
Я засмеялась своей власти над пространством. Подошла к женщинам, сидевшим в углу, как куры на насесте. «Хотите, прочту стихи?» — «Очень!» — Я стала читать, вперемежку свои и чужие… Каждый день просить стали: «Скажите нам что-нибудь!» Я «говорила» и Блока, и Пушкина, и Некрасова, и Мандельштама, и Гумилева, и Тютчева. Лица светлели. Будто мокрой губкой сняли пыль с окна, прояснились глаза. Каждая думала уже не только о своем — о человеческом, общем…
Был уже третий следователь у меня, и с ним я поссорилась. Отказалась подписать протокол, им написанный и полный чудовищных обвинений, которые я должна была признать. Следователь перевел меня в карцер. Карцер, или «бокс», как его называли тюремщики, — низкая каменная коробка без окна… Смысл бокса в том, что очень скоро человек, выдышав весь кислород, начинает задыхаться. В железной двери, у пола, есть маленькие дырочки, но сесть на пол, чтобы глотать идущий воздух, не позволяют. Открывается глазок двери, голос говорит: «Встаньте!».
Пленник начинает задыхаться. Дежурный заглядывает в глазок примерно каждые полчаса. Когда видит, что у заключенного совсем мутится сознание, он открывает дверь и говорит: «В туалет!».
С радостью бросается заключенный. Пока он идет до уборной и находится там — он дышит. Светлеет в глазах, яснее сознание… удушить совсем во время следствия нельзя, поэтому голодание дыхания регулирует надзор часового.
Выход из помутнения сознания можно найти — нырнув в образы, уводящие к ясным и ярким ощущениям простора, и претворяя в ритм эти образы.
Я постаралась уйти в свою юность на Севере. Вспомнила, доводя до предельной яркости воспоминания, поплыла по великой и светлой Северной Двине. И постаралась ритмизовать увиденное:
Можно, можно в самой глубокой каменной коробке научить себя слышать плеск воды, видеть ее серебристое сияние и не замечать, что ты заперта, что до неба и воздуха телу не достигнуть. Есть особая радость в чувстве освобождения твоей воли от пленного тела, в твоей власти над сознанием. Кажется — вольный ветер проходит сквозь голову, перекликаясь через тысячелетия со всеми запертыми сестрами и братьями. И мы все, запертые, поддерживаем друг друга в чувстве свободы… Я нашла себе оборону не только от задыхания в карцере, но от наступления на меня всего, что не вмещало сознание. Это превращалось в поэму в течение пяти лет. Не знаю, стало ли это поэмой в «литературно значительном» смысле. Но это — памятник моей внутренней свободы, это — прием к неуязвимости души.
— В страшной жизни, где люди носили платье с номерами, не имели связи с нормальным бытием, встретить человека, как бы витающего над всем лагерным ужасом, — чудо. И этим чудом была встреча с Ниной, — так вспоминает о Гаген-Торн одна из ее подруг по несчастью, Ксения Хлебникова-Смирнова. — Встретилась я с Ниной в Потьме. Я после брюшного тифа находилась в полустационаре третьего лагпункта. Лежали мы на сплошных нарах, больные, занятые своим горем. Почти все были обвинены в преступлениях, которых не совершали. К нам приходила, нам служила известная своей добротой Нина Гаген-Торн. Она не только старалась облегчить нам физические страдания, но и душевные. Читала свои и чужие стихи, рассказывала об экспедициях. И мы на какое-то время забывали о своей доле горькой…
Нина работала в лагерной обслуге «конем». Несколько женщин впрягались в телегу летом, в сани зимой и возили бочку с водой и дрова то в столовую, то в больницу. Труд тяжелый, а женщины были пожилые. Но Нина не унывала. Она говорила: «Конь — благородное животное. Хорошо быть конем!» В лагере было много украинских больных девушек. Нина устроила академию — занималась с девушками русской литературой и историей. Впоследствии некоторые из них поступили в университет на филологический. Кроме академии Нина написала там большую поэму о Ломоносове, которую во время обыска отобрали лагерные надзиратели. Оперуполномоченный сказал Нине: «Пишите и приносите ко мне на хранение. Когда освободитесь, я ее вам пришлю по почте». Сдержал слово, прислал…
Возвратившись после освобождения в родной Ленинград, Гаген-Торн еще много лет работала в этнографическом музее, публиковала научные статьи, монографии, не прерывала литературного творчества. Продолжала писать и о лагере:
Мне хочется показать, что делается с сознанием разных людей, когда они лишены права распоряжаться своим телом. Тело — имущество государства, вещь, которой распоряжается безличная сила. Это не рабство, принадлежность хозяину — с хозяином неизбежно создавались взаимоотношения: его ненавидели или любили, с ним боролись, ему льстили, у него просили пощады. Это был живой человек и тем самым уже не всесильная стихия. Слепой машиной были порабощены рабы в Египте. Но они, большей частью, были иноплеменники. Могли мечтать о родине. У нас большая часть заключенных была — не из чужой страны. Иностранцам — их также собрали в лагере со всех концов мира, начиная Германией и кончая Японией и Кореей, — легче: они военнопленные. Но у людей, которых захватила петля в родной стране, создавались ощущения гонимого на убой стада.
После лагерей как хорошо я стала понимать, как глубоко сочувствовать животным! У нас, как у них, была полная беспомощность перед слепой и всемогущей силой.
Пребывание подъяремным животным дало мне великую жалость ко всем подъяремным, закованным, на цепи посаженным существам. Я убедилась: выражение глаз, поведение отданного в безраздельную власть существа — почти не отличается у человека и у четвероногого. Много лет я работала с лошадьми, была возчиком. Знаю, как сопротивляются и как покоряются животные. В поведении табуна лошадей, стада коров и человеческого стада нет большой разницы.
Это требует не презрения к людям, а уважения к животным…
В литературном наследии, которое оставила Нина Гаген-Торн, — две книги прозы, воспоминания, книга стихов (ее поэтический дар ценили Ахматова и Пастернак). Поэт Илья Сельвинский писал Гаген-Торн: «С глубоким волнением прочитал Ваши стихи. В них захватывает подлинность переживания. Это гораздо выше искренности, которая иногда у некоторых поэтов как бы смакует боль и этим впадает в кощунство. Вы очень верно сказали: „О боли надо говорить простыми строгими словами…“ Именно так Вы и говорите.
Ужасно жаль, что в наше время, запутавшееся в далеко не диалектических противоречиях, Ваших стихов нельзя опубликовать. Но не падайте духом: придет и для них время — иное, освобождающее. Вы в этом отношении не одиноки: целые романы и трагедии спят в берлогах, ожидая весны».
Нина Гаген-Торн этой весны не дождалась — она умерла в 1986 году. Секрет превращения жизни в Слово она не потеряла до конца своих дней.
Освенцим без печей.
«В пять часов утра, как всегда, пробило подъем — молотком об рельс у штабного барака. Прерывистый звон слабо прошел сквозь стекла, намерзшие в два пальца, и скоро затих…» Так начинается «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына.
Так же начинался день для героя рассказа «Дубарь», рассказа, который долгие годы ходил в самиздате без имени автора: «Унылый звон „цынги“, куска рельса, подвешенного на углу лагерной вахты, слабо донесся сквозь бревенчатые стены барака и толстый слой льда на его оконцах…».
Совпадение неслучайное. Так начинались тысячи тысяч дней для всех заключенных ГУЛАГа.
Сюжет рассказа внешне прост: герой его по приказу начальства хоронит умершего в лагере новорожденного младенца, «дубаря», как на лагерном жаргоне именовали покойников. Но, повествуя об этом, автор проникает в трагическую суть человеческой жизни, касается самых глубоких и интимных сторон души и, говоря об очень страшном, предельно страшном, достигает в то же время, по всем законам классики, просветления.
Преодолевая досаду и заранее возникшее отвращение к тому, что я увижу сейчас, я развернул простыню и обнажил верхнюю половину тельца своего покойника…
Контраст между этим ожидаемым и тем, что я увидел, был так велик, что в первое мгновение у меня возникло чувство, о котором принято говорить как о неверии собственным глазам. А когда оно прошло, то сменилось более сложным чувством, состоящим из ощущения вины перед мертвым ребенком и чем-то еще, давно уже не испытанным, но бесконечно теплым, трогательным, нежным.
Желтовато-розовое в оранжевых лучах полярного солнца, крохотное тельце казалось сверкающе чистым. И настолько живым и теплым, что нужно было преодолевать в себе желание укрыть его от холода.
Голова ребенка на полной шейке с глубокой младенческой складкой была откинута немного назад и повернута чуть вбок, глаза плотно закрыты. Младенец казался уснувшим и улыбающимся чуть приоткрытым беззубым ртом. Во внешности этой статуэтки из тончайших органических тканей, которые мороз сохранил в точности такими, какими они были в момент бессознательной и, очевидно, безболезненной кончины маленького человеческого существа, не было решительно ничего от страдания и смерти… Под заскорузлым панцирем душевной грубости, наслоенной уже долгими годами беспросветного и жестокого арестантского житья, шевельнулась глубоко погребенная нежность. Видение из другого, почти забытого уже мира разбудило во мне многое, казавшееся давно отмершим, как бы упраздненным за ненадобностью. Было тут, наверное, и неудовлетворенное чувство отцовства, и смутная память о собственном, рано оборвавшемся детстве…
Маленький покойник парадоксально напоминал мне о жизни. О том, что где-то, пускай в бесконечной дали, эта жизнь продолжается. Что люди свободно зачинают и рожают детей, а те платят своим матерям и отцам такими вот улыбками еще не осознавших себя, но тем более счастливых существ…
Мне хотелось сделать для погребенного ребенка что-то еще. Повинуясь этому желанию, я сбил киркой лопату с ее черенка и той же киркой перебил этот черенок на две неравные части. Затем вытащил веревочку и крест-накрест связал обломки палки. Импровизированный крест я воткнул в могильный холмик…
Меня вдруг охватило чувство благоговения, как верующего в храме. Ушли куда-то мысли о еде, отдыхе и тепле. Это было, вероятно, то состояние возвышенного и умиленного экстаза, которое знакомо по-настоящему только искренне верующим людям. Под его воздействием я развязал тесемки своего каторжанского треуха и обнажил голову. Мороз сразу же обхватил ее калеными клещами и больно обжег уши, реальность оставалась реальностью. Я надел шапку, смахнул с бушлата несколько круглых, похожих на градины льдинок и, подобрав с земли свой инструмент, начал спускаться в долину. Впрочем, замерзшие льдинки на груди моего бушлата вовсе не были слезами скорби. При всей своей теплоте и нежности мои чувства к погребенному ребенку скорее напоминали те, которые вызываются душевным просветлением, например, созерцанием великих произведений искусства… Я испытывал не горе, а мягкую и светлую печаль. И еще какое-то высокое чувство, которое, наверно, было ближе всего к чувству благодарности. Благодарности мертвому ребенку за напоминание о Жизни и как бы утверждение ее в самой смерти…
Такой рассказ мог написать только мастер и только тот, кто сам прошел через гулаговский ад…
Женщина из Харькова привезла в комиссию рукописи своего отца. Нас сразу не нашла и попала на прием к чиновному лицу в Союзе писателей, который по случайности когда-то, перед тем как заняться литературой, поработал на Колыме, в ГУЛАГе, но не среди зэков, а среди тех, кто их охранял, — в лагерной администрации. Комиссию нашу он, понятно, недолюбливал, поэтому встретил посетительницу неприветливо.
— У вас в Союзе писателей есть такая комиссия, по репрессированным, — робко заговорила она.
— Есть. И что?
— Наверно, многие обращаются? Уже завалили рукописями?
— Да, — отвечает чин. — Ужасно много, просто пропасть! Пора уже сворачивать. Хватит!
Женщина повернулась и ушла. Хорошо, не на вокзал сразу, собралась с духом и все-таки разыскала нас, передала рукописи. А ведь в них и для нее, и для ее отца была святыня, главная ценность жизни! Среди этих рукописей был и рассказ «Дубарь». Так стало известно имя автора рассказа, многие годы анонимно кочевавшего в самиздате.
Георгий Георгиевич Демидов, 1908–1987. Раздвинем две эти неизбежные даты, заглянем в судьбу…
Демидов родился в Петербурге в рабочей семье. Рано проявил способности к науке, технике, изобретательству, стремительно прошел путь от рабочего до инженера и доцента электротехнического института. Друзья сулили ему блестящее будущее ученого-физика.
В 1938-м он был арестован в Харькове, где тогда работал, — вызвали якобы для проверки паспорта, эта проверка затянулась на восемнадцать лет. Следователь пригрозил арестом жены с шестимесячной дочкой, и Демидов подписал показания на себя, наотрез отказавшись называть еще кого-нибудь. Итог — исправительно-трудовые лагеря за участие в троцкистской, контрреволюционной, террористической организации.
На Колыме он провел четырнадцать лет, из них десять — на общих, самых тяжелых работах. Человек с твердым характером и многосторонним интеллектом, он и выжил благодаря своему высокому духу, в то время как многие его товарищи по несчастью, не имея в себе этой подъемной силы, полегли на устланных костями сопках Колымы.
Демидов писал: «Даже совершенно неспособный к наблюдению и сопоставлению человек не может не постигнуть трагедийности этого „Освенцима без печей“, — выражение, за которое, среди прочего, я получил в 1946-м второй срок».
Вскоре после того, как там, в лагере, он был вторично осужден, жене Демидова пришла телеграмма о том, что ее муж… умер. Телеграмму отправил он сам и причину этого открыл позднее, в письме дочери: «Бедная моя дочурка! Я был тогда в страшной дали, в огромной мрачной стране — тюрьме. Я не надеялся когда-нибудь выйти из этой тюрьмы. Был уверен, что погибну в ней. Мне показалось, что я только немного опережаю события, прикидываясь мертвым. Делал я это для того, чтобы избавить тебя и маму от своего существования, которое я считал для вас вредным… Ее мне обмануть не удалось».
В центральной больнице УСВИТЛа[141] Демидов встретился и подружился с фельдшером из хирургического отделения — Варламом Шаламовым, который называл своего друга одним из самых «умных людей, встреченных на Колыме». Демидов — прототип героя шаламовского рассказа «Житие инженера Кипреева», ему посвящена пьеса Шаламова «Анна Ивановна». Потом дороги их разошлись, чтобы спустя много лет снова пересечься, когда оба после освобождения обнаружились — Шаламов в Москве, а Демидов в Ухте. Завязалась переписка, возобновилось общение.
Оказалось, что Демидов тоже запечатлел свой крестный путь в слове. Это, по его признанию, была попытка начать жизнь во второй раз и с нуля. Писал, урывая редкое свободное от работы на заводе время. Ночами стучал на машинке — сломанные в лагерной шахте пальцы не сгибались и не держали ручку. «Мне мое творчество обходится очень дорого, — говорил он. — Я неизбежно дохожу до болезни, хотя далеко еще не развалина… Все спрашивают: что-нибудь случилось? Я мог бы ответить: да, случилось. Совсем недавно. Нет еще тридцати лет. И случилось не только со мной».
Сложность задачи, которую он перед собой ставил, сам Демидов прекрасно понимал — понимал со всей беспощадностью к себе. Из письма Шаламову: «„Писатели — судьи времени“ — выражение, требующее уточнения. Не всякий писатель может претендовать на такой титул. Я считал бы свою жизнь прожитой не зря, если бы был уверен, что буду одним из свидетелей на суде будущего над прошедшим. Но здесь, конечно, возникает много вопросов и сомнений. Что такое суд яйца над курицей?».
Тема большинства произведений Демидова — Колыма, невольничья страна, оказавшаяся географически и природно идеальным местом для каторги. Сталинское воспитание и лагерные порядки гасят добро и выращивают зло в человеке. Развитие комплекса неполноценности и создание кадров убийц — государственная политика. И результат — порабощенное сознание миллионов.
Так уже повелось на Руси, что именно через Слово, через литературу оно раскрепощалось. Поэтому литература у нас (разумеется, в лучших образцах) была не только искусством в классическом смысле, но — глотком свободы. Или видом внутренней эмиграции — из мрака реальности в воображаемый, параллельный мир. Или единственной доступной формой протеста, сопротивления. Вот почему у нас так много писателей и так много читателей: читать интересней, чем жить…
И в новой ипостаси — писательской — Демидов оказался не угоден своему времени. Пора «оттепели» уже миновала. Надежды быть напечатанным — никакой. «Мои официальные гонорары, — пишет он Шаламову, — это доносы, окрики, угрозы, прямые и замаскированные. И самое подлое — „товарищеские“ обсуждения в узком литературном кругу. Наша здешняя литературная яма имеет, конечно, уездный масштаб. Но источаемая ею вонь качественно та же, что и от ямы всесоюзной». Впрочем, были и обещания — предлагали и писательский билет, и большие тиражи — при одном условии: переменить тему.
Друга в литературе он не нашел. Даже с Шаламовым развела судьба. Бросился к нему навстречу, открыл душу, отдал должное его писательскому опыту и мастерству, но «докторальности, безапелляционности в наставлениях и разносного тона» — этого вынести не смог. «С кем ты меня спутал, Варлам?».
Был и другой, более принципиальный мотив в их расхождениях. Демидов не принял выстраданный бунт Шаламова против культа красоты в искусстве, казавшегося тому обманным утешением и даже оскорблением перед лицом бесчеловечной, жестокой яви. «Твои нигилистические рассуждения о ненужности всего в литературе, что апеллирует к устаревшим эмоциям, мне были известны и прежде, — отвечает Демидов. — Если не ошибаюсь, ты был поклонником Писарева. А сей последний громил даже Пушкина. Но при всей своей старомодности Пушкин остается Пушкиным».
Литературное наследие Демидова еще мало известно читателю, на родине у него не вышло ни одной книги. КГБ не выпускал его из поля зрения и после освобождения, до самой смерти. В августе 1980-го одновременно в нескольких городах, у всех, у кого хранились его рукописи, и у него самого были произведены обыски и все сочинения арестовали. Три романа, три повести, более двадцати рассказов и самое последнее, любимое детище — автобиографическую книгу «От рассвета до сумерек». Многостраничный протокол обыска — потрясающий документ наших социальных нравов, положения пишущего человека в «самой свободной стране». А незадолго до этого сгорела дача Демидова под Калугой, где хранились все черновики…
В семьдесят два года он остался без единой строки!
Хорошо, что у него есть дочь, по натуре похожая на отца. Рукописи Демидова были возвращены дочери уже после его смерти, совсем недавно, в результате длительных и упорных усилий.
«Преступлений социального характера утаить от истории нельзя, — писал Георгий Демидов. — Они даже не шило в мешке. Скорее кусок расплавленной лавы, раскаленное ядро».
Нина Гаген-Торн. Георгий Демидов. Только два имени, две судьбы. А сколько их всех, спасенных от забвения!
Из рукописей, стекавшихся в комиссию, вставала все еще неизвестная, до сих пор не открытая Колыма — полюс лютости Архипелага ГУЛАГ.
Полюс лютости.
«Колыма ты, Колыма, чудная планета! Двенадцать месяцев зима, остальное — лето…» — горькая лагерная частушка.
А ведь она действительно прекрасна, Колыма, — этот просторный край у Тихого океана! Я приехал сюда совсем в другое время, по доброй воле, прожил здесь семь счастливых лет, здесь у меня родился сын, вышла первая книга…
Прекрасна — если бы не посев смерти на склонах гор, безымянные могилы с железными бирками на подгнивших колышках, дороги, выстланные человеческими костями. Да что же это за век такой, что за планета, — когда радость непозволительна, когда счастье детей выглядит кощунством перед судьбой отцов!
Прекрасна, но не для тех, кто приехал сюда под конвоем. То была другая Колыма — чудная совсем в ином смысле.
Колыма — река, по реке — край, по краю — историческое явление.
Она была в течение двадцати лет (1934–1954) невольничьим берегом, раскинувшимся от Охотского до Восточно-Сибирского моря, от Индигирки до Берингова пролива. Одна двадцатая территории Советского Союза, самый большой остров Архипелага ГУЛАГ, равный по величине нескольким Франциям. И прошли ее, по приблизительным, неофициальным подсчетам (а где взять другие?), несколько миллионов человек! Кто прошел, многие — остались там навечно.
В этом краю, оказавшемся географически и природно идеальным местом для каторги, отрезанным от мира пустынями гор и морей, без специального разрешения ни въедешь, ни выедешь, были побиты все рекорды бесчеловечности в человеческой истории.
«Успех» обеспечен уже одним только климатом — именно здесь расположен полюс холода. Студенее лишь Антарктида, необитаемая тогда, но можно не сомневаться, что, дотянись у Сталина руки до шестого материка, он бы и там разместил лагеря, доживи он до космического века, — и на Луне устроил бы ГУЛАГ, обнес колючей проволокой.
Во всем Архипелаге Колыма отличалась не только жестокостью режима, но и самой высокой смертностью. Норма выработки для зэка-горняка бывала в полторы тонны в сутки (сравним: на царской каторге, в Нерчинске — пятьдесят килограммов!). Рабский труд, современное средневековье — и над всем этим надпись на воротах при входе в зону: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства!» Что это, как не лагеря уничтожения, свой, отечественный фашизм?
Студеное небо и вечная мерзлота — как символ одичания и бездушия. Земля, которая не принимает человека даже мертвым. И над всем этим — бодрый «Марш стахановцев Колымы»:
У нас еще и сейчас не хватает смелости посмотреть правде в глаза. Столь многократно воспетое социалистическое освоение этого края — не более чем мираж. По существу, это было колонизацией, только с использованием не местной, а привозной рабсилы, своего, а не чужого народа, и методами не менее, а, вероятно, более зверскими, чем при покорении Африки и Америки.
Бытовавшее многие годы идиллическое мнение о первом начальнике «комбината особого назначения» Дальстрой, верном ленинце, добром Эдуарде Берзине[142], о том, что при нем все было нормально, — тоже одна из многих иллюзий хрущевской «оттепели». Дальстрой с самого начала был детищем и частью ОГПУ-НКВД-МВД, разве что порядки вначале были помягче, гайки закручены чуть слабее. Но на ту же резьбу!
Преступлением были не «отдельные действия властей» и не «известные нарушения законности» — сам строй жизни был преступным, навязанным народу кровавым, насильственным путем. А жертвами не только правоверные большевики, попавшие в колымскую мясорубку, но и привезенные туда еще при Берзине члены других партий, тоже делавшие революцию «левые» и «правые» (шаг влево, шаг вправо — известно что): эсеры, анархисты, меньшевики, троцкисты или священники, не говоря уж о простом народе — крестьянине, рабочем, который попадал за решетку по пустячному поводу, за одно неосторожное слово, пощечину чиновному негодяю.
Да и среди так называемых уголовников, кроме громил и убийц, были люди, наказанные совершенно несоразмерно проступку, подведенные к нарушению закона самой властью в силу социальных условий — голода, бездомности, нищеты. Взять хотя бы один из таких законов — объявленное публично постановление от 7 апреля 1935-го, распространившее все виды наказания, включая смертную казнь, на детей с двенадцатилетнего возраста. Никто не знает, сколько этим постановлением расстреляли или упрятали за решетку и колючую проволоку беспризорных сирот и таким образом успешно решили эту социальную проблему. Куда уж тут Достоевскому со слезинкой невинного ребенка!
Берзин получил в подарок от Крупской автомобиль Ленина. Какая ирония, какой жуткий символ — машина Ильича, уже без хозяина, катит по социализму вдоль концлагерей!
Чего уж чего, а символов здесь хватало! На Колыму рабсилу вез в своих трюмах «Николай Ежов»… Прямо в магаданский парк культуры и отдыха имени Ягоды (хотя, простите, при Ежове его переименовали!).
Берзин, устав от тяжкой работы, ездил как-то отдохнуть в Ниццу. Интересно, что говорил он там любопытным иностранцам? Наверно, то же, что Максиму Горькому, — о возрождении дикой окраины, подвигах первопроходцев, о перековке человеческого материала? Да что Берзин — он был не из худших, даже лучше многих, иначе не перешел бы так скоро в разряд жертв, но прежде — от этого не уйдешь — был соучастником, помощником кремлевских и лубянских палачей.
Еще один миф — знаменитый полковник Гаранин, в 1937–1938-м — хозяин Колымы, летавший по ней расстрельной «тройкой»[143]. Он самолично расстреливал зэков, иногда просто по счету — каждого десятого или третьего, списки убитых для устрашения зачитывали на разводе всем другим — каждое утро. А потом и самого расстреляли — как японского шпиона. Так вот, я помню, что еще сравнительно недавно, уже в 70-е, в Магадане на полном серьезе рассказывали, что иностранные изверги «нашего», «советского» Гаранина подменили по дороге на Колыму его братом, своим разведчиком.
Обмануть удавалось не только свой народ, но и весь мир. Очередной начальник Дальстроя Никишов — вот ведь отчаянный какой! — принял в конце войны официальную американскую делегацию во главе с вице-президентом Генри Уоллесом. Недаром слыл театралом, держал крепостную труппу из профессионалов. Спектакль был великолепен! Американцы не заметили на Колыме зэков и отбыли на родину, восхищенные «глубокой культурой» генерала и его молодой супруги Гридасовой, начальницы Маглага.
Появились уже мифы и с другой стороны, так сказать, с обратным знаком, — когда всех без исключения заключенных зачисляют в разряд невинных жертв. Никогда не забуду, как однажды в Дрездене мой чешский друг сказал по поводу американской бомбардировки города: «Почтим память всех жертв. — И добавил: — Кроме эсэсовцев…» Сидели в наших лагерях и действительные преступники, убийцы, фашистские полицаи, которые боролись против нашей страны с оружием в руках. Были и такие, кто, прежде чем стать жертвой, побывал палачом. Ох, как непросто порой понять, где кончается палач и начинается жертва, если они совмещаются в одном человеке! Да и в лагерях, среди зэков, было немало сексотов, виновников гибели других. Кто разберется в этом дьявольском хитросплетении судеб?
Помню Бутугычаг, что в переводе с местного, эвенского, значит Черные Камни — мрачное ущелье, затерявшееся среди бесчисленных сопок и гор. Мы приехали сюда летом, и машина долго пробиралась по долине ручья в сплошных лилово-красных зарослях иван-чая. Миновали руины уранового рудника: остов обогатительной фабрики, зияющий темными дырами окон и дверей, обвалившиеся входы шахтных выработок — склоны гор еще теснее обступили нас, сомкнулись со всех сторон, скрывая солнце. Потемнело, откуда-то, словно из-под земли, повеяло холодом.
Перед нами лежал лагерь. Вернее, то, что когда-то было лагерем: мощные циклопические сооружения из дикого камня с железными коваными решетками, выбитые тысячами зэковских ног дороги, до сих пор не заросшие, кучи полусгнившей обуви и ржавых консервных банок. И полное безлюдье.
Но в лагерь мы попали не сразу. Дорогу преградил медведь. Он разгуливал невдалеке от нас, не спеша, словно хранитель здешних мест, бросая угрожающие взгляды: идите, мол, туда, откуда пришли, я здесь хозяин! И ретировался не сразу, с явной неохотой, только когда мы подошли совсем близко…
— Зря он вас пустил! — сказал мне поэт Анатолий Жигулин, когда я рассказывал ему об этой поездке. — Нечего глазеть!
Жигулин как раз был узником Бутугычага. А мы приехали с целью осмотра: не организовать ли здесь Мемориал жертвам Колымы. Теперь я думаю: может, мой старший друг прав? Надо ли торить в такие места дороги, превращать их в музей, возить экскурсантов, произносить заупокойные речи? Кажется, сама природа в образе медведя наложила на Бутугычаг табу для человека. Любое вмешательство станет попыткой с негодными средствами, а то и святотатством. А Мемориал можно поставить в другом месте, ближе к людям.
Потом мне показали аэрофотоснимок Бутугычага. Я обомлел: складки гор сходились здесь в виде четко проступающей фигуры человека, склоненного под непосильной ношей, с ногами, ушедшими по колено в землю. Природа пометила это место зловещим знаком, гигантским рисунком согбенного зэка-раба.
А люди создали еще один нетленный и нерукотворный памятник — Слово о гулаговском аде.
Есть еще один разряд рукописей, которые в прямом смысле литературой не назовешь. Ценность и сила их — в обнаженной достоверности, в красноречивости самого факта.
Простая школьная тетрадка. И в ней — без запятых, с ошибками, большими неровными буквами:
Москва Союз писателей Материал требует обработки.
Прошу вас извинить за почерк и знаки препинания у меня каторак да и болезнь двойной инсульт меня два раза парализовало. Вот уже восемь лет как парализован на почве нервной системы. Вы спросите откуда нервы пишу вам по порядку…
Иван Васильевич Окунев из села Красное Липецкой области рассказывает о своей судьбе. О том, как в 38-м, двадцатилетним парнем, был арестован и отправлен в колымские лагеря только за то, что у него оказался просроченным паспорт, в каких страшных условиях работал там и жил, вернее, пытался выжить.
Привезли нас на Колыму. Вместо обуви нам дали два рукава от списанных бушлатов и одну пару рукавиц и все это на два года. Работали в забоях на золотых приисках и рукава в забое по щебню быстро рвались выскакивала вата и голые пальцы отмерзали. И вот в декабре на наряде начальник лагеря Кулиев объявил у кого какая будет просьба говорите пока не ушли на работу.
И вот мы двое стали просить рукава. А двое трясут над головой рваными рукавицами. Нам четверым велели выйти из строя а остальным скомандовали на работу. Нас повели в изолятор. Кулиев вызвал пожарников ударом в рельсу. Слышим и видим в щели между досок как они прибежали с пожарным рукавом. Заработал движок и направили на нас. Мы бежим из угла в угол но он направлял на нас. Мы кричали звали папу и маму ругая их всякими словами. А в этот день было пятьдесят градусов утром поломалась рама автомашины от мороза.
И так поливали полчаса потом заглох движок. А часа через четыре пришел Кулиев и стал говорить чтоб мы шли в барак но мы все смерзлись и не могли тронуться с места. Тогда он позвал пожарного который пришел с маленьким топориком и стал обрубать нас друг от друга. Я стоял сзади и меня вырубили первого подтащили к двери. И закричали марш в барак! Но у меня ватные брюки смерзлись и я сказал что не могу. Я помогу! Ударом ноги в спину я вылетел на улицу ударился лицом об стежку которую протоптали разбил губу во рту оказались два зуба и стало солоно от крови.
Подбежали два пожарника и ногами покатили по направлению к бараку до барака было метров двадцать пять. Но когда подкатили я превратился в снежную бабу на мокрую одежду налип и замерз снег. Тогда поставили к бараку спиной и прикладами стали обивать снег да так что костям больно. Я упал. Тогда за ноги через порог потащили в барак а сзади катят остальных. Слезы причитания и ругань бойцов. Я лег на нижние нары против печки. Проснулся ночью болела голова кололо в груди температура большая.
Утром дневальный объявил подъем. Я стал будить мокрых соучастников но двое были мертвы. Меня отвели в санчасть. Врач спросил фамилию имя и отчество он сказал что мы с тобой тезки. Тогда он спросил откуда рождением. Я сказал с Москвы он как бы обрадовался и говорит а мы земляки. Он сказал что был главврачом Кремля. А за что вас посадили? Обвинили в смерти Максима Горького. Это все что я запомнил но фамилию я не спросил.
В течение месяца он меня вылечил. Было воспаление легкого. Четвертый из нас умер в санчасти а я остался живым. Иван Васильевич ко мне относился хорошо я выздоровел. Тогда он сказал что оставляет меня. Спрашивает что я боюсь мертвых? Я сказал боюсь только живых. Тогда я тебе дам работу. В двух километрах от лагеря находился морг. И мне надо было ночью топить печь в морге оттаивать трупы а утром приходили два врача натомировали.
И вот каждый вечер на лошади привозили 18 трупов это ежедневно и вот я на три стены ставил по 6 трупов. Они мерзлые прислонишь к стене и они стоят пока оттают. В помещении темно. Печка бочка из-под горючего дрова смоляные горят жарко бока у печки красные. Подброшу дрова сам хожу разговариваю с ними чей откуда женат или нет? А вот молодой небось не успел жениться? У тебя осталась девушка небось ждет? Но моя вышла замуж это точно такие красивые долго не сидят. Как твою звать? А моя Тоня Чубарова и щас о ней думаю. Красавица.
И оттаивал морг до 1945 года.
Но вот закончилась война про которую мы не знали. Почта не доходила но однажды повесили ложный ящик много писали жалоб но после вызывали кореспондентов и избивали до потери сознания…
Невдалеке от нашего лагеря была сопка звали ее Рыжая на ней стоял трактор. Туда привозили из других приисков на машинах накрытых брезентом они кричали до свидания ехали мимо нашего лагеря.
Там к готовым траншеям ставили людей заводили трактор и из пулемета расстреливали…
Это я надумал написать чтоб знали что такое Колыма а подумаю умру и не будут знать где хоронили репрессированных. Это тысячи.
Может кто из писателей перепишет. Но извините за почерк я парализован дважды и сейчас пишу а плечи дрожат. И плачу вспоминается что пережил. Я б назвал Хождение по мукам. Перепишите! Пусть молодежь знает а главное пусть чтут память. Теперь я умру спокойно. Рассказал почти все…

Из письма И. Окунева.
1990.
Первое чувство после прочтения: все! Хватит! После этого уже нечего читать о тюрьмах и лагерях! Больше уже никто не скажет, после этого — не рассказа, нет — выдоха, слова-выдоха никому не известного человека. И сколько еще таких, канувших в бездну! Миллионы Божьих Искр, вспыхнувших и погасших от взмаха державной десницы. И каждая вмещала в себе — мир…
Сначала, как сквозь игольное ушко, продевали через тюремную камеру, чтобы сломить, подчинить арестом, наветом, пытками.
Потом волокли железным путем в вагонном ящике, неделями, месяцами, через всю страну, прошивая ее насквозь кровавым швом — считай на прощанье ребрами каждую версту родимой. Подыхай от жажды и голода. Забудь, что ты человек!
Потом сбивали полуживым клубком в бочку трюма и по волнам катили дальше, в слезах, дерьме, блевотине, с ножом, приставленным к горлу уркой-нелюдью.
И наконец, выбрасывали на край света, где золото моют в горах, откуда возврата уж нету.
Здесь начиналась Колыма.
И если ты все-таки еще жив, забудь прошлое, ты не тот, кем был, отныне некому тебя любить и тебе любить некого. Ты колымский зэк. Здесь, на вечной мерзлоте, то пресловутое в тебе, именуемое душой, выйдет, как пар, уступая последнему инстинкту, звериной жажде жить.
Выбрасывали на магаданский берег, расшвыривали по лагерям кого куда, но всех одинаково — умирать. Так было задумано. И умереть было легче всего. Трудно — выжить. Всего труднее, почти невозможно — остаться человеком. Несмотря ни на что.
Кроме высокого примера человечности эти люди дали нам еще пример — спасения через Слово. Одна из них, Нина Гаген-Торн, сказала об этом чеканной формулой: «Те, кто разроет свое сознание до пласта ритма и поплывет в нем, не сойдут с ума. Стих, как шаманский бубен, уводит человека в просторы Седьмого Неба…».
В двадцатом столетии духовный подвиг декабриста Гавриила Батенькова повторят тысячи — сообразно силе гнета, насилия и противоборствующего им отпора. Тот же рывок в Седьмое Небо — как единственный выход.
Пуля вместо точки. БОРИС ПИЛЬНЯК.
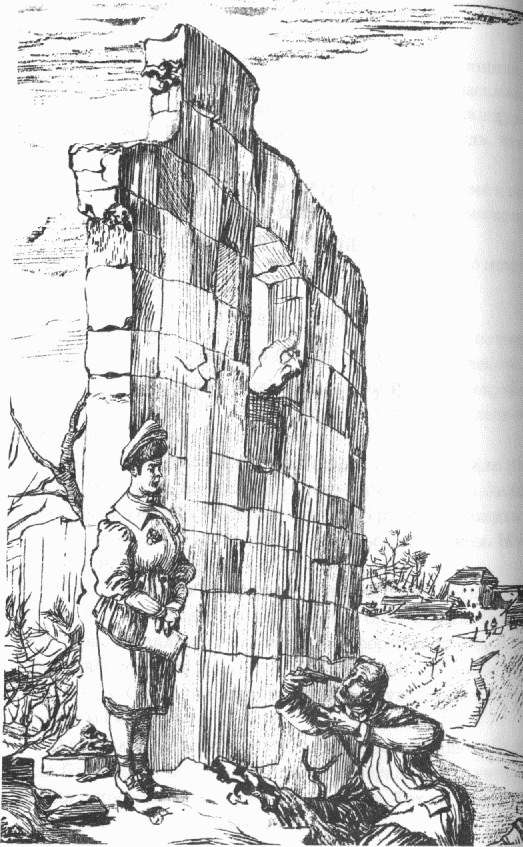
Сужение света.
Ты говоришь!
Я стал другим человеком.
Сужение света.
Суд над Борисом Пильняком начался задолго до того, как его арестовали.
В последние годы в его жизни стал повторяться все чаще один и тот же похожий на кошмарный сон случай. Встречал где-нибудь знакомых, и те удивленно спрашивали:
— Это ты?
— Я… Кто же еще?
— А мы слышали, ты арестован…
А он писал роман. Возился с маленьким сыном, любил молодую жену, сажал на даче в Переделкине деревья — выращивал свой сад. Приходили гости, сообщали об арестах, почтальон приносил газеты — и там клеймились все новые враги народа, среди которых были и его вчерашние друзья. И из разговоров, и из газет вставало все то же:
— Это ты? Ты еще не арестован?
А он работал каждый день, несмотря ни на что, отгоняя страхи, — роман уже близился к развязке. Это был давний замысел — о корнях и судьбах русской революции, да и о самом себе.
Он делал свою книгу из жизни, но и жизнь делала из его судьбы историю, печальную повесть о том, как под гнетом тьмы сужался светлый круг бытия — до лубянской камеры.
Когда же оно началось, это сужение света? Как случилось, что его яркая звезда закатилась, и он, Борис Пильняк, стал изгоем?
Поначалу он был счастливчиком в литературе, писательский путь его шел по крутой восходящей, успех, а потом и слава неизменно сопутствовали ему. И это была не шальная, глупая слава, а честная, добытая талантом и трудом. В 20-е годы он — один из самых читаемых и популярных советских писателей, автор десятка томов рассказов, повестей и романов, переведенных на многие языки, блестящий экспериментатор-модернист, мэтр, глава целой творческой школы.
Однако была в советской литературе и другая иерархия — и там он числился всего лишь попутчиком — это пренебрежительное словечко придумал нарком просвещения Луначарский и особенно обожал Троцкий, метавший ярлыки направо и налево, как гранаты. Попутчиками называли тех подозрительных, «нечистых» писателей, которые не состояли в партии и не имели пролетарской родословной, хотя и признавали революцию, — к ним относили Есенина и Бабеля, Пастернака и Замятина, Зощенко, Алексея Толстого и многих других, безусловно мастеров, но не безусловно советских. Общественный вес писателя определялся не его даром, а на идеологических весах. Бабель был объявлен революционным попутчиком, Всеволод Иванов — просто попутчиком, а Пильняк — «попутчиком» в кавычках.
Может быть, тогда все и началось, с этих зловещих кавычек? Или когда Сталин, ведущий персональный учет талантов, дал задание проводникам его линии в литературе обратить на Пильняка особое внимание?
Резон в таком надзоре, конечно, был: писатель одним из первых обнажил в революции ее изнанку. Он увидел в ней не лозунги и марши, а кровавый смерч, беспощадный ураган, вырвавшегося на свободу зверя, «стихийного, как волк». К волку Сталин питал особое пристрастие — недаром имел привычку рисовать в своих бумагах серого хищника. В книгах Пильняка большевики ходят стаей — «кожаные куртки», «кожаные красавцы», ходят, чтобы «энегрично фукцировать» (это выражение писатель подслушал у одного коммуниста, который дослужился до наркома и стал управлять государством). «Так вот знаем, так вот хотим, так вот поставили и — баста!.. И черт с вами со всеми, — слышите ли вы, лимонад кисло-сладкий?!» — вот что значит «энегрично фукцировать». А во главе всей этой новой — полуволчьей, полулюдской — породы встал выведенный писателем в «Повести непогашенной луны» «негорбящийся человек», «номер первый», в котором все узнали, не могли не узнать, Сталина.
Попутчиков сперва дрессировали, подковывали и перековывали, как необъезженных лошадей, и в конце концов перестали церемониться, рассортировали: либо вынудили подделаться под господствующую идеологию, либо отстранили от печатного станка. Под лозунгом обострения классовой борьбы и большевизации литературы талант — эта интеллектуальная собственность — подлежал экспроприации. Либо с партией, либо против нее — третьего не дано.
Решающим в творческой судьбе Пильняка стал 1929-й, год великого перелома, каким он вошел в учебники истории, — начало сталинского самодержавия, когда опустился «железный занавес», отгородивший страну от всего мира, и произошло окончательное закрепощение личности. В литературе великий перелом ознаменовался кампанией, грандиозной по размаху и ярости, получившей название «Дело Пильняка и Замятина». Поводом для нее послужило издание этими писателями своих сочинений за рубежом: Замятиным — романа «Мы», Пильняком — повести «Красное дерево».

Карикатура на Б. А. Пильняка, опубликованная «Литературной газетой» в разгар его общественной травли.
1929.
Так эти двое, по выражению Замятина, разделили амплуа черта в советской литературе, стали мишенями для общественной травли, организованной властями и с готовностью подхваченной прессой и писательской средой. Когда эта травля достигла апогея, Замятин сделал решительный шаг — обратился к Сталину и получил разрешение уехать за границу, — ему последнему была отпущена эта высочайшая милость.
Пильняк остался один, без всякой защиты, под массированными, нараставшими ударами критики. Удары были ниже пояса. Надсмотрщики от идеологии зорко следили, чтобы никто не остался в стороне.
В лубянском досье Пильняка собраны публикации «Литературной газеты» и «Комсомольской правды» — как обличающие голоса, как подтверждения его виновности. Что это за критика, ясно даже по заголовкам: «Враждебная агентура в рядах советских литераторов», «Борис Пильняк — собственный корреспондент белогвардейщины», «Вылазки классового врага», «Антисоветский поступок», «Гнусная клевета», «Проверить Союз писателей», «Против пильняковщины», «Уроки пильняковщины»… Литературные разногласия используются как политические обвинения, доносы, а пресса, призывая к расправе, кличет палачей. Само имя писателя становится ругательным словом.
Среди этой безудержной брани есть один отзыв, который потрясает больше всего, особенно когда узнаешь имя автора. Называется он — «Наше отношение».
«Повесть о „Красном дереве“ Бориса Пильняка (так, что ли?), впрочем, и другие повести и его, и многих других — не читал.
К сделанному литературному произведению отношусь как к оружию. Если даже это оружие надклассовое (такого нет, но, может быть, за такое считает его Пильняк), то все же сдача этого оружия в белую прессу усиливает арсенал врагов.
В сегодняшние дни густеющих туч это равно фронтовой измене.
Надо бросить беспредметное литературничанье.
Надо покончить с безответственностью писателей.
Вину Пильняка разделяют многие. Кто? Об этом — особо.
Например, кто отдал треть Федерации[144] союзу Пильняков?
Кто защищал Пильняков от рефовской[145] тенденциозности?
Кто создавал в писателе уверенность в праве гениев на классовую экстерриториальность?..».
Ох уж это хамское, до жути знакомое: не читал, но осуждаю! Сколько раз слышали мы подобное, уже в наши дни! Менялись только имена нечитаных, но осужденных: Ахматова, Пастернак, Солженицын, Бродский.
В этом наборе зубодробительной лексики дана целая программа массового избиения инакопишущих — чего стоит хотя бы расширительное «Пильняки», предполагающее за одним человеком сонм других правонарушителей, — и все они отнесены к классовым врагам, вина их равна фронтовой измене. А за измену известно что полагается…
Остается назвать автора кровожадной речи. Делаю это с тяжелым сердцем — Владимир Маяковский. Гениальный поэт революции. Ведь не мог же он не понимать, когда писал свой убийственный отзыв, что за этим последует?! Как не мог не понимать и другой классик соцреализма — Горький, который недовольно жаловался секретарю ЦК ВКП(б) Андрееву: «Пильняку прощается рассказ о смерти товарища Фрунзе — рассказ, утверждающий, что операция была не нужна и сделали ее по настоянию ЦК».
Алексей Максимович напоминает властям о «Повести непогашенной луны», в которой рассказывается об убийстве в больнице на операционном столе советского полководца. Уж тут Горький мог не беспокоиться — «кожаные куртки» все помнили и ничего не прощали. Каждому свой срок, просто для Пильняка в тот момент его последний час еще не пробил. Но суд уже шел. Граница между тюрьмой и волей стала размытой, условной. Каждый должен был занять свое место в этом судилище — в качестве преступника или обвинителя. Свидетели подбирались лишь для обвинения, защита исключалась.
Пильняк никогда не решался на открытое гражданское неповиновение и предпочитал лавировать, публично каяться, искусно разыгрывая советский энтузиазм, искупать ошибки правоверными сочинениями. Это был вынужденный хитрый способ наладить подпортившиеся отношения с сильными мира сего, форма психологической защиты, не без российского юродства, которым наделены многие герои его книг.
Кампания 1929-го вызвала у Пильняка внутренний надлом, от которого он уже не оправится. Конечно, будет пытаться вернуть себе утраченное положение, попасть в ногу со временем. Но маска, которую ему надели, уже приросла, от нее не избавишься, ему уже не верят.
Воля знать, воля видеть, которую он проповедовал, ослабевает. В высказываниях его появляются новые мотивы: «Каждая эпоха имеет свою мораль».
В 20-е годы он говорил: «Чем талантливее художник, тем он политически бездарнее… Писатель ценен только тогда, когда он вне системы… Мне выпала горькая слава быть человеком, который идет на рожон…» В 30-е он клянется в верности партии и социализму и славит Сталина: «Поистине великий человек, человек великой воли, великого дела и слова».
В 20-е годы он считал: «Человеческий суд не должен, не может быть столь строгим, как суд человека над самим собой» — и призывал к милосердию. В 30-е требует наказания «врагов народа» еще до вынесения приговора суда и призывает «уничтожить каждого, кто посягнет на нашу Конституцию».
Тут уж не слепота чередуется с прозрением, как это было раньше, а демонстративный цинизм, недаром после беседы с ним другой попутчик — Михаил Пришвин — «понял о пустоте всех, клянущихся в верности партии».
И в книгах его появляются новые герои — двурушники, конформисты, положившие жизнь на общественную полку не столько ради высоких идей, сколько просто ради спасения — и страдающие, деградирующие от этой раздвоенности. Писатель шел вместе со своими героями.
Он писал роман. А светлый круг его жизни все сужался.
Поэт Константин Большаков, арестованный чуть раньше Пильняка, рассказывал на следствии, как тот начал метаться, предчувствуя близкую расправу:
— Пильняка тогда прорабатывали за прошлые грехи, за помощь семье Радека во время ссылки, дружбу с Воронским, книги, написанные по его внушению. Пильняк волновался, ездил по разным местам, выступал в Союзе писателей с покаянием. Мне он говорил, что у него из-под ног уходит материальная база, его хотят добить, он этого больше всего боится. Но я видел, что он боится и чего-то другого…
Показания Большакова (они приложены к делу Пильняка) доносят до нас атмосферу тех лет — горячечную, наэлектризованную, пронизанную подозрительностью и страхом, доводящую людей до грани помешательства или самоубийства, — это тоже был способ перековки, переделки человеческих душ:
— Пильняк потащил к себе на дачу. Я заговорил, когда мы остались одни, о процессе объединенного троцкистско-зиновьевского центра. Пильняк говорил, что дело вовсе не в троцкизме, троцкиста могут пришить теперь каждому, каждый, думающий сейчас не по передовице «Правды», уже троцкист, он говорил: «Мы с тобой тоже троцкисты». Потом, опять вернувшись к этой теме, заговорил, что все его приятели — троцкисты, не только потому, что были в оппозиции, но еще и потому, что не сгибаются под общий аршин.
Я свернул на тему о своей обреченности, говорил, что в случае войны я должен буду или сам искать смерти, или меня расстреляют, потому что мне, дворянину и бывшему офицеру, не поверят. Пильняк молча и мрачно слушал, ничего не говоря.
Вскоре у меня появились признаки болезни, от которой я пролежал три месяца в постели. После болезни я прятался от людей, от слухов, от разговоров, но слухи приносили приятели, они же вызывали на разговоры. Аресты пугали и вызывали глухую, неистовую злобу. Думал остервенело, что у человека отнимают право сомневаться.
Пильняк твердил, что всех переарестуют, что подходят к нам, даже не скрывал, что сам боится ареста, что его боятся в Переделкине чуть ли не все. Мы жили и питались слухами, один фантастичнее другого. Я ограничил круг людей, с которыми встречался, до минимума. В голове был какой-то чудовищный кошмар. Я боялся пить, чтобы подсознательное не открылось бы в состоянии опьянения…
— Переживания ваши нас не интересуют! — оборвал следователь.
Сейчас, когда обнаруживаются и предаются гласности все новые преступления сталинского режима, все более страшные свидетельства о злодеяниях, совершенных над миллионами, нам, которых десятилетиями воспитывали на стереотипах, несгибаемых героях, с пением «Интернационала» идущих на казнь и без всяких сомнений «пускающих в расход» противников, — таким нам порой трудно понять истинную меру страданий, а значит, испытать сострадание к человеку как таковому, живому, единственному, хотя только такие и существуют в природе. К нему — отринутому ото всех, поставленному один на один перед всесильным государством.
Только изнутри того мира, психики, состояния и возможно увидеть все в истинном свете. И лишь с подготовленной душой, обеспеченной запасом милосердия и мудрости, можно понять нашу недавнюю историю, увидеть не безликую бойню, а трагедию каждого загубленного человека.
Пока Пильняк дописывал свой роман, сотрудники НКВД писали пространную справку на его арест.
В постановлении о реабилитации Пильняка 1956 года сказано: из материалов дела не видно, что послужило основанием к его аресту. Прокуроры, занимавшиеся реабилитацией, смотрели невнимательно — или не хотели заглядывать вглубь: документ, обосновывающий арест, я нашел, хотя и не в следственном деле, откуда он был почему-то изъят, не в КГБ, а в самой прокуратуре, в папке «Надзорного производства» бывшей жены писателя — Ольги Щербиновской, актрисы Малого театра. Она, как и его последняя жена Кира Андроникашвили, тоже актриса, была арестована и отправлена в лагеря по одной-единственной причине — близости к крамольному писателю.
Из знакомства с этим документом, имеющим скромное название «Справка», стало ясно, что многие обвинения, прозвучавшие в залах Союза писателей и редакционных кабинетах, перекочевали на стол следователя прямо из протоколов писательских собраний — в протоколы дела. Кабинеты редакций, Союза писателей и кабинеты Лубянки иногда мало чем отличались, и люди, сидевшие в них, могли бы меняться местами.
Вот отрывок из отчета о расширенном заседании редакции и актива журнала «Новый мир», состоявшемся 1 сентября 1936-го. Ответственный редактор журнала Иван Гронский говорит Пильняку:
— Ты бросил реплику, что ты отмежевываешься от врагов в своих произведениях. В каких? В «Повести непогашенной луны» или в «Красном дереве»? Эти произведения написаны по прямым заданиям троцкистов. Сознательно или несознательно ты направлял их против революции — другой вопрос…
А вот как это выглядит в справке на арест: «Тесная связь Пильняка с троцкистами получила отражение в его творчестве. Целый ряд его произведений был пронизан духом контрреволюционного троцкизма („Повесть непогашенной луны“, „Красное дерево“)».
И далее на том же собрании Гронский ставит в вину Пильняку то, что он оказывал материальную помощь сосланному Карлу Радеку:
— Это тяжелым камнем висит на твоей биографии, и ты, поскольку сейчас называешь себя непартийным большевиком, этот камень должен снять.
В справке: «Во время ссылки Радека и других троцкистов Пильняк из личных средств оказывал им помощь».
В полной мере использованы здесь и показания, выжатые у писателей, арестованных к тому времени и находящихся в руках следствия: Аросева, Губера, Большакова, Зарудина[146]. У одного — о дружбе Пильняка с троцкистами, у другого — об антисоветском окружении, у третьего — о террористических намерениях, у четвертого — о шпионаже. А тут еще подарочек, из Испании — и туда достает рука Органов! Там удалось арестовать Андреса Нина[147], генерального секретаря партии испанских троцкистов, и в его архиве нашлись письма Пильняка, в которых он сообщает еще об одном известном троцкисте — писателе Викторе Серже[148], сосланном в Оренбург, — вот ведь какой охват — от Барселоны до Урала! Ну и, конечно же, старания стукачей, как без них, — антисоветская физиономия Пильняка, озлобление против партии зафиксированы и агентурным путем. Чего же еще — больше чем достаточно!
Под скромным названием «Справка» уже изложена вся программа будущего следствия, и уже предрешен приговор, по этой выкройке и будет шиться дело, дальше — техника: припереть арестованного чужими показаниями к стенке, вытрясти из него какие-нибудь подробности, умело оформить протоколы и заставить подписаться. Как говорил большой спец по этим делам Лаврентий Берия, «дайте мне кого угодно, и через двадцать четыре часа я заставлю его признаться, что он — английский шпион».
«Необходим арест и обыск», — подвел итог составитель справки, начальник 9-го отделения 4-го отдела Главного управления госбезопасности (ГУГБ) капитан Журбенко[149].
Миновало лето 37-го. И Пильняк дописал роман, перепечатал собственными руками. Роман назывался «Соляной амбар» и кончался словами: «Вы слышали меня?! Только с революцией, только с вами!».
И тут они явились. Герои писателя, «кожаные красавцы», сошли со страниц его книг, чтобы добить автора.
Дача Пильняка сохранилась до сих пор, она в самом центре Переделкина. В доме по соседству жил тогда другой Борис, Пастернак, бок о бок, калитка между ними вообще не запиралась. И в этот день — 28 октября — Пастернак заходил, поздравил Пильняков — их сыну исполнилось три года.
Было уже поздно и темно, когда возле дома остановилась машина. Явился знакомый чекист, почему-то весь в белом, несмотря на осень. С приглашением к наркому Ежову:
— Николай Иванович срочно просит вас к себе. Ненадолго. Часика через два будете дома…
А ночью ввалилась целая толпа. Один, по фамилии Вепринцев, предъявил жене Кире Георгиевне ордер на обыск и арест. Изъяли: два кинжала, пишущую машинку «Корона» (тоже оружие, для писателя!), переписку и, конечно, рукописи…
Все последнее «творчество» Бориса Пильняка уместилось в голубенькой казенной папке — деле № 14 488 ГУ ГБ… В самих звуках уже слышится — «губить», «гибель»… «ХРАНИТЬ ВЕЧНО» — «X» и «В» напоминают другие, священные буквы…
Ты говоришь!
ФИО? Пильняк-Вогау Борис Андреевич. Год и место рождения? 1894-й, город Можайск. Национальность? Из немцев Поволжья. Партийность? Беспартийный. Специальность? Писатель-беллетрист. К какой общественной группе принадлежите? Свободная профессия…
Отобрали галстук и ремень. Арестованный был передан в руки следователя — Давида Абрамовича Райзмана.
2 Ноября, на пятый день ареста, они встретились. Райзман предъявил своему подопечному обвинения: контрреволюция, террор, шпионаж… В тот же день Пильняк писал покаянное письмо Ежову: «Я ставлю перед собой вопрос, правильно ли поступило НКВД, арестовав меня, — и отвечаю, да, правильно…».
Заявление отпечатано на машинке, подпись выведена четко. Позиция выбрана сознательно и, несомненно, угодна следствию, иначе бы не предоставили для документа машинку. Поначалу поражает явный этот абсурд: полное, безоговорочное признание своей преступности, клевета на себя; потом понимаешь — это плата, за которую обещана жизнь, сделка — покайся, повинись, помоги нам, и мы, может быть, поможем. Доказывать собственную вину будет сам арестант — это давало ему надежду избежать лишних пыток и мучений и облегчало работу следствия.
НКВД работал заведенно, как конвейер, — менялись арестованные, следователи, менялись наркомы — он «энегрично фукцировал». Через полтора года на тот же конвейер попадет другой писатель — Исаак Бабель и тоже будет писать письмо, только уже не Ежову, а Берии.
Комплекс затравленности, вины, психология жертвы воспитывались в человеке заранее, исподволь, так что в конце концов, когда его арестовывали, он уже часто был измучен, раздавлен, сломлен. На конвейер поступал в виде полуфабриката. Надо было лишь довести до кондиции, дожать.
«У меня остался только мозг, но и он туманится. Я говорю с человеком, и вдруг человек проваливается, и вместо человека передо мной сидит какое-то страшное, кровавое государство» — так говорил герой рассказа Пильняка Иван Москва.
Да, писатель «проживал» своих героев.
Моя жизнь и мои дела указывают, — писал он Ежову, — что все годы я был контрреволюционером, врагом существующего строя и существующего правительства. И если арест будет для меня только уроком, то есть если мне останется жизнь, я буду считать этот урок замечательным, воспользуюсь им, чтобы остальную жизнь прожить честно. Поэтому я хочу Вам совершенно открыто рассказать о всех моих контрреволюционных делах.
Будет неправильно, если я признаю себя троцкистом, им я не был, я смыкался с троцкистами, как смыкался и с другими контрреволюционерами, я смыкался со всеми теми, кто разделял мои контрреволюционные взгляды…
В наших разговорах в те годы я и мои единомышленники сходились на том, что политическое положение в стране очень напряженно, гнет государства над личностью, над творчеством создает атмосферу не дружества, но разъединение и одиночество, и уничтожает понятие социализма… Подробные показания о характере и времени этих разговоров я дам в процессе следствия.
Так как я ничего не хочу таить, я должен сказать еще — о шпионаже. С первой моей поездки в Японию в 1926 г. я связан с профессором Йонекава, офицером Генерального штаба и агентом разведки, и через него я стал японским агентом и вел шпионскую работу. Кроме того, у меня бывали другие японцы, равно как и иностранцы других стран. Обо всем этом я расскажу подробно в процессе следствия.
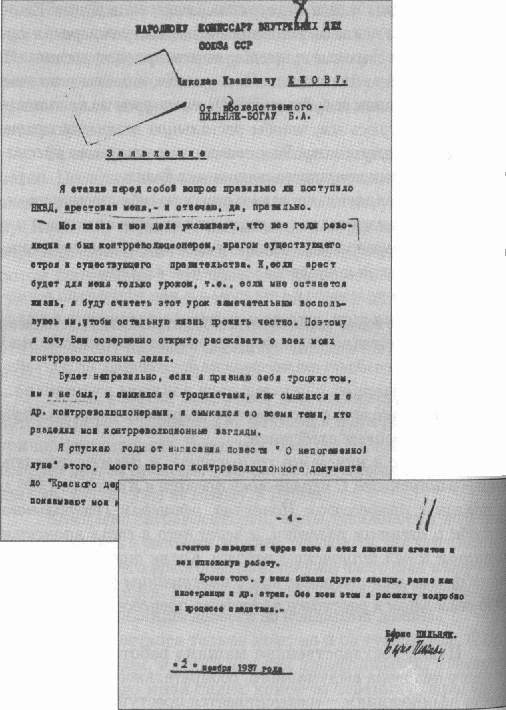
Заявление Б. А. Пильняка наркому внутренних дел СССР Н. И. Ежову. 2 ноября 1937 года.
Целая государственная машина работала, делая из живого человека выдуманного, собирательного, как на портрете по описаниям — «разыскивается преступник». Это был невиданный по масштабам эксперимент. И методы тут применялись разные: кого оболванивали, кого сгибали, ломали, а бывало, человек брался переделывать себя сам или делал вид, что переделывает. И тогда клеветал на себя. Одна из героинь пильняковского романа «Двойники» до того отдала себя обществу, что даже говорила о себе в третьем лице, равнодушными словами, как о музейном экспонате.
Но бывало и так, что люди шли на самооговор по другой причине: зачем зря страдать, если все равно расстреляют. Напишу что надо — отстанут, хоть не будут пытать. Даже сами авторы советских методов дознания — старые кадры чекистов, когда их переселяли из кабинетов в камеры той же Лубянки, часто сразу же просили бумагу и признавались безоговорочно во всех преступлениях, а случалось, и сами писали протоколы допросов за следователя, выстраивая вымышленные диалоги. Возможен и такой ход мысли: главное — выжить! Надо лгать сегодня, чтобы выжить, и завтра сказать правду.
Прошло больше месяца, прежде чем арестованного вызвали на допрос. Зато длился он много часов. Допрашивали двое — Райзман и его шеф, уже дослужившийся до майора Журбенко.
Не будем по возможности прерывать документ. Нельзя только забывать ни на минуту, что протокол писался рукой следователя, что документ этот — подделка, что в нем правда сознательно перемешана с ложью, специально, чтобы уже не разделить. В нем все лгут, по разным причинам, и трудность в том, чтобы из этого моря лжи извлечь соль истины. И мы добудем ее, если сумеем отделить факты от их ложного освещения.
Итак, 11 декабря 37-го. Пильняка приводят на допрос. Следователи начинают разоблачать его издалека, с первых лет революции. И Пильняк произносит свою вынужденную исповедь:
На путь борьбы против Советской власти я стал в первые годы революции. Во время военного коммунизма, во время напряженной классовой борьбы я сидел в Коломне, занимаясь писанием рассказов, а по существу отсиживался от того, что происходило в стране, считая, что «моя хата с краю» и «посмотрим, что из этого выйдет». Эти ощущения на очень долгие годы были решающими в моей человеческой и писательской судьбе.
Симпатизируя «Скифам»[150] в 1920 г., я объединился с группой «Серапионовы братья»[151], не принадлежа к ней формально, я разделял все ее литературные тенденции и политические стремления. Во главе этой группы стоял Евгений Замятин… До этого, еще в 1919 г., я вступил в члены Союза писателей, который объединял писателей таких же настроений, какие были и у меня, то есть людей, окопавшихся от революции…
В 1922 г., осенью, ряд писателей были приглашены в Москву телеграммой от Каменева. Каменев предложил нам организовать писательскую артель, издательство и альманах. В разговоре с Каменевым, по существу говоря, никаких политических требований нам не было поставлено, мы были сделаны самостоятельными хозяевами в издательстве… Через некоторое время в кабинете Каменева было проведено первое организационное собрание, на котором были даны установки о том, что мы можем писать и печатать что угодно. Главная задача писательской артели заключалась в том, чтобы вокруг себя собирать всех вновь приходящих писателей. Фактическим руководителем артели был тогдашний редактор «Красной нови» Воронский. Наши контрреволюционные стремления, в частности мои и Замятина, полностью совпадали с настроениями Воронского, с его литературной философией. Это и определило дружбу с Воронским на долгие годы…
Прервемся все же, переведем дух. Что контрреволюционного в этих стремлениях? Писать и печатать что угодно? Или — собирать писателей? Слова «контрреволюционный», «антисоветский», «троцкистский» и прочие в этом роде тут, как и во множестве других мест, можно вынести за скобки, за пределы здравого смысла — и тогда обнаружится степень соавторства следователя, станет ясно, как делалось дело.
В эти же годы Воронский направил меня к Троцкому, — показывает Пильняк. — Помню, что у Троцкого были также Маяковский, Пастернак… Троцкий говорил с нами об интернационализме в литературе, о том, что для него безразлично, где делать революцию, — в Москве или в Риме, а главным образом Троцкий принимал все меры к тому, чтобы очаровать…
Ближайшими друзьями я в то время считал своего литературного учителя Андрея Белого и, как уже говорил выше, моего старшего товарища Замятина. Еще со времен военного коммунизма самым близким мне человеком был поэт Пастернак…
О дружбе Пильняка и Пастернака на Лубянке прекрасно знали — из донесений сексотов. В справке на арест Пильняка приведены кое-какие сведения об этом, полученные агентурным путем: «В 1933 году Пильняк стремился втянуть в свою группу Б. Пастернака. Это сближение с Пастернаком нашло свое внешнее выражение в антипартийном некрологе по поводу смерти Андрея Белого, а также в письме в „Литгазету“ в защиту троцкиста Зарудина, подписанном Пастернаком и Пильняком. Установлено также, что в 1935 г. они договаривались информировать французского писателя Виктора Маргерита (подписавшего воззвание в защиту Троцкого) об угнетенном положении русских писателей, с тем чтобы эта информация была доведена до сведения французских писательских кругов. В 1936 г. Пильняк и Пастернак имели несколько законспирированных встреч с приезжавшим в СССР Андре Жидом, во время которых тенденциозно информировали Жида о положении в СССР. Несомненным является, что эта информация была использована Жидом в его книге против СССР».
Так что за Борисом Пастернаком Лубянка тоже пристально следила. И могла в любую минуту арестовать. Говорят, все уже было готово, но когда доложили Сталину, он отмахнулся:
— Оставьте в покое этого небожителя!
Подробно рассказывает Пильняк на допросе об истории своей самой знаменитой и самой скандальной книги — «Повесть непогашенной луны». Тираж журнала «Новый мир», который в 1926-м напечатал повесть, конфискован ГПУ прямо в типографии, к тем же, кто успел получить журнал, приходили сотрудники Органов и под расписку повесть изымали. Главный редактор «Нового мира» Полонский за потерю бдительности был снят со своего поста. Как же — Пильняк осмелился вынести на всеобщее обозрение святая святых — партийную кухню, показал, как «негорбящийся человек», «номер первый» приказал любимому своему полководцу, герою Гражданской войны, лечь на операционный стол и устроил так, что он с этого стола уже не поднялся…
Теперь мы узнаем о том, как создавалась книга, — из уст самого автора:
Идею написания этой повести мне подал Воронский. Во время писания я читал ее тогдашним моим товарищам, читал, в частности, и Агранову. Агранов рассказал мне несколько деталей о том, как болел Фрунзе. Затем у меня было собрание, обсуждавшее повесть. Присутствовали: Полонский — редактор «Нового мира», Лашевич — которого я пригласил как военного специалиста… Все они одобрили повесть, а Полонский нашел, что нужно сделать предисловие к повести, которое тут же и было написано…
Запрещение этой повести совпало как раз с моим пребыванием в Китае. Вернувшись оттуда, я обратился к Скворцову-Степанову, главному редактору «Известий», чтобы он решил мою судьбу. Скворцов-Степанов отнесся ко мне очень сочувственно, в беседе со мной сказал, что этот рассказ является талантливым произведением, обещал свою поддержку и устроил свидание с Рыковым. Рыков посоветовал мне написать покаянные письма, что я и сделал.
В последующем Радек выразил мне свое сочувствие и оказал материальную помощь. Нужно прибавить, что Радек читал в рукописи эту повесть и даже принял участие в ее редактировании… Радек был первым, кто стал со мной говорить прямо и резко против руководства партии. В беседах со мной Радек утверждал, что Сталин отходит от линии Ленина, в то время как он, Радек, Троцкий и другие их сторонники были настоящими ленинцами, и что снятие их с руководящих постов есть искажение линии Ленина, в связи с этим, говорил Радек, неминуема борьба троцкистов со сталинцами…
И Радек и Рыков к тому времени уже были репрессированы как враги народа, поэтому так настойчиво следователь связывал Пильняка именно с ними. Был репрессирован и Александр Воронский, центральная фигура в литературном процессе 20-х годов, сыгравший такую важную роль в жизни и Пильняка, и Бабеля, и многих других писателей той поры.
Когда Воронский стал организовывать группу «Перевал», — показывал Пильняк, — мы договорились о том, что я официально к «Перевалу» не буду примыкать, однако должен буду принимать активное участие в его работе, Я приходил на расширенные собрания «Перевала», дабы демонстрировать свою солидарность с ними. К этому периоду относится второе мое троцкистское произведение. В 1928 г. вместе с Андреем Платоновым я написал очерк «Че-Че-О», напечатанный в «Новом мире», который заканчивается мыслью о том, что паровоз социализма не дойдет до станции «Социализм», потому что тормоза бюрократии расплавят его колеса…
В «Че-Че-О» об этом сказано несколько иначе: «Если над машинистом поставить контролера, то паровоз истории сгорит, волочась на зажатом тормозе». Пророческие слова — так он и сгорел, наш паровоз, не дойдя до социализма! Пильняк и Платонов предупреждали об этом еще в самом разгаре марша энтузиастов, — но кто тогда их услышал? Разве что НКВД?
В те же годы был разогнан первый, еще свободный, беспартийный Союз писателей, история которого нам почти неизвестна. Тем интересней свидетельство Пильняка:
В Союзе писателей существовало настроение, что было бы хорошо, если бы литература получила отставку от партии. Обсуждая на наших нелегальных собраниях положение в литературе и в партии, мы всеми мерами, прикрываясь политикой внепартийности, чистого искусства и свободного слова, пытались доказать гнет цензуры, зажим литературы со стороны партии… Для характеристики СП надо сказать, что в нем не было партийной ячейки. В 1929 г. я был избран председателем СП, и в том же году он как антисоветская организация был ликвидирован…
В это время я написал наиболее резкую антисоветскую повесть «Красное дерево», изданную за границей. «Красное дерево» оказалось водоразделом для литераторов, с кем они: с Советской ли властью или против…
Наряду с прекращением деятельности СП стала разваливаться и группа «Перевал». Воронского выслали в ссылку. Шла проработка «Красного дерева», мой авторитет среди писателей был подорван. Тогда мы с Воронским решили создать новую литературную организацию и создали кружок «30-е годы». Мы утверждали, что литература угнетена, что те задачи, которые ставятся перед литературой, невыполнимы, что писатели привязаны на корню и имеют право писать «отсюда досюда», что в литературе идет упрощенчество. Активными участниками собраний «30-х годов» были Зарудин, И. Катаев[152], Андрей Платонов, посещал собрания раз или два Пастернак, считавшийся по духу приемлемым. «30-е годы» как литературная группа весной 1930-го распалась, но часть людей осталась в дружбе и сообщалась до самого последнего времени, помогая друг другу, бывая вместе…
Союз писателей был преобразован в Союз советских писателей. Подавляющее большинство писателей ушло в этот новый СП, но осталось на тех позициях, на которых они были до реорганизации. Когда Пастернак пошел работать в оргкомитет ССП, я всячески нападал на него, и на этой основе у меня с ним даже осложнились отношения. В силу моих, тогда особенно злобных отношений к политике партии и к руководству, я бойкотировал ССП и поэтому не выступал на съезде писателей… Съезд мне казался лицемерной бюрократической затеей, а выступления писателей на нем — лживыми и двурушническими… На протяжении ряда лет все мои общественно-литературные стремления сводились к желанию «вождить», но из этого ничего не выходило. Я терпел неудачу за неудачей, в конечном итоге большинство писателей, поняв антисоветскую сущность моих стремлений, отошло от меня…
Здесь Пильняк делает попытку взять вину на себя, выгородить своих друзей-писателей, многие из которых в то время тоже уже были арестованы или жили под угрозой ареста. Но совсем обойтись без фамилий нельзя, — и каждая новая невольно пополняла ряды «контрреволюционеров». А уже следствие умело стравить даже друзей. На оперативном совещании в НКВД 3 февраля 1935 года замнаркома внутренних дел Яков Агранов так определял методы расследования: «Наша тактика сокрушения врага заключалась в том, чтобы столкнуть лбами всех этих негодяев и их перессорить. А эта задача была трудная. Перессорить их необходимо было потому, что все эти предатели были тесно спаяны между собою».
Так пресекалась всякая свободная мысль, так проводилось избиение, удушение литературы здесь, за «железным занавесом». Зорко следили и за тем, чтобы живое, правдивое слово не просочилось сквозь этот занавес.
Особая тема на следствии — связь Пильняка с зарубежными писателями. Его хорошо знали в Европе, Америке, Японии — и не только по книгам: он много путешествовал по свету, водил знакомство с литературными знаменитостями. Среди них были фигуры, самой судьбой поставленные между Россией и Европой, восточной революцией и западной цивилизацией. Таков, например, Виктор Серж (Кибальчич) — гражданин мира, служивший французской литературе и русской революции и отторгнутый ею как троцкист, выброшенный обратно в Европу и закончивший жизнь в Мексике.
В своих «Воспоминаниях революционера» Серж приводит фразу Пильняка, произнесенную однажды:
— В стране нет ни одного мыслящего взрослого человека, который не задумывался бы о том, что его могут расстрелять.
В показаниях на следствии Пильняк подробно рассказывает о дружбе с Виктором Сержем. Беседы их были вполне откровенны: об ужасах коллективизации, о терроре, о том, что в стране такая обстановка, при которой невозможно ни жить, ни писать.
— Мы пришли к одной мысли, — говорит Пильняк, — что политическое положение чрезвычайно тяжелое, ощущается невиданный гнет государства над личностью, отсутствуют минимальные права выразить свое мнение, что мы живем сейчас на осадном положении. Социализма нет, так как социализм подразумевает улучшение отношений между людьми, а у нас культивируются волчьи отношения…
В результате наших встреч мы с Сержем пришли к выводу, что необходимо проинформировать западную общественность о положении в России.
Такая возможность вскоре представилась: из Парижа приехал Панаит Истрати, с большой помпой встреченный советским правительством как европейский революционный писатель. Румын по национальности, он писал на французском и был тогда очень популярен. Ромен Роллан называл его «балканским Горьким». Он разъезжал по всей стране, окруженный вниманием партии и Органов, озабоченных тем, чтобы на Западе появилась еще одна хвалебная книга об СССР.
Пильняка познакомил с Истрати Виктор Серж. Поначалу Пильняк не хотел с ним знакомиться: ему нечего делать с писателями, которых так легко покупают в Советском Союзе. Но Серж все же привез гостя.
— Вы не хотели встречаться со мной? — спросил тот. — Именно поэтому я и приехал. Почему вы не хотели меня видеть?
— Потому что вы смотрите на нашу страну не так, как следовало бы, а глазами официальных лиц, принимаете слишком много поздравлений и слишком часто благодарите. Положение у нас вы оцениваете ложно, и если напишете о нем, это будет пряничная сторона, а не действительность…
— Я хочу знать правду, — сказал Истрати.
И Пильняк с Сержем начали открывать ему глаза.
Рассказали, в частности, как о примере беззаконий о «деле Русакова» — старого рабочего, отца шестерых детей (старшая из дочерей его была замужем за Виктором Сержем, а младшая — за другим французом, Пьером Паскалем[153], который уже десять лет жил в России), незаконно, в результате провокации выселенного из своей квартиры в Ленинграде. Эта история — как модель советской жизни — поразила Истрати, он даже ездил потом вместе с Сержем к председателю ЦИК СССР Калинину добиваться справедливости.
Вскоре в Париже вышла книга Истрати в трех томах, написанная в сотрудничестве с Виктором Сержем и Борисом Сувариным, — очень яркая, вызвавшая большой резонанс. Советская «Литературная энциклопедия» тут же заклеймила Истрати: «Оказался наглейшим ренегатом, его книги — тупые, контрреволюционные пасквили».
— Таким образом, вы явились основным источником предательской информации против Советской страны? — спросил Пильняка следователь.
— Да, — покорно согласился Пильняк, — я повинен перед советским народом в том, что путем переданной Панаиту Истрати предательской информации пытался дискредитировать Советский Союз в глазах интеллигенции Запада…
Итак, в предательстве Пильняк уличен. Но этого мало. Теперь нужно сделать его террористом.
В протоколе появляется запись о писательском собрании у Воронского осенью 1932-го, на котором якобы возник план покушения на Сталина: «Воронский произнес речь, смысл которой сводился к тому, что в стране и партии создан такой режим, при котором невозможно жить, что если партия по отношению к троцкистам применяет террор, то троцкисты также должны ответить террором. Воронский тогда так разгорячился, что закричал: „Стрелять, стрелять надо в Сталина!“».
Дальше зафиксировано, какие преступные разговоры вел Пильняк с друзьями-писателями — Пастернаком, Фединым, Артемом Веселым[154]:
Пастернака я знаю много лет… Когда однажды приехали к нему за подписью под письмом от Союза писателей с требованием расстрела Тухачевского[155] и компании, Пастернак прятался, чтобы не подписать этого письма, и говорил мне: «Это насилие над душами», — и тут же спрашивал, не пойду ли я к жене Эйдемана[156] выразить ей свое сочувствие.
С Фединым я особенно близок. Мы с ним часто вели разговоры о невыносимом режиме в партии, о том недоверии, которым окружен человек. Этот режим нами рассматривался как террор… Если у Федина сначала было возмущение против Троцкого, «этой обезьяны, которая сидит за границей и добивается власти в России, не спрашивая нас, хотим ли мы сидеть под его пятой» (со слов Федина), то аресты, непонятные и необъяснимые, обернули Федина против вождей партии — Сталина и Ежова, как выполнителя воли Сталина. Мы сходились на том, что партии нет, что есть один Сталин, что положение в партии и в стране неминуемо грозит катастрофой. Федин боялся войны с немцами, «когда эта семидесятимиллионная масса, голодная и убежденная в своем нацизме, железным сапогом раздавит Россию»…
Уже перед самым арестом у Пильняка был такой разговор с Артемом Веселым:
— Ну вот ты, Артем, революционер-большевик, член партии, как же ты чувствуешь себя в партии?
— Волком…
— Ну если ты настоящий революционер и большевик, как же ты допускаешь, чтобы в твоей партии ты был волком?
— Это большой разговор, без водки не выговоришь, — раздраженно сказал Артем и помолчал. — Хочу в партию, а мне говорят — лезь в подворотню…
И снова помолчав, в раздумье добавил:
— Хоть бери револьвер и иди с ним.
— На кого?
— Ну, на кого? Конечно, на Сталина!..
Артем Веселый был решительным, смелым человеком, у которого слова редко расходились с делом. После этой беседы Пильняк понял, что его друг тоже доведен до последней черты отчаяния.
(Артем Веселый был арестован в один день с Пильняком, в том же самом Переделкине. Допрашивали их почти одновременно, и даже следователи совпадали. И тоже — покаянное письмо Ежову.).
Однако никаких фактов о терроризме пока нет, одни разговоры. Следователь наседает:
— Мы располагаем данными, что вы практически подготавливали теракт. Признавайтесь!
И подследственный признается во всем, что от него требуют. Да, он вместе с друзьями задумал убить Ежова. Как? Проникнув в его квартиру через знакомых женщин или прямо на улице. Почему же не исполнили? Из-за бдительности НКВД, аресты сорвали эти злодейские планы.
Затем следователь дотошно расспрашивает Пильняка о его знакомствах с иностранцами, причем ответы записывает таким образом, что каждый иностранец становится шпионом, каждая встреча — явкой, а простые разговоры — передачей информации.
Признание под рукой следователя превращается в пародию. Получается, что японским шпионом Пильняк сделался не ради идей или денег, а просто так, без всякого объяснения и давления, добровольно и бескорыстно, — «стал разведчиком среди определенных слоев интеллигенции». И снабжал он вражескую разведку такими секретами: информация об общественной жизни в СССР, о литературе и группировках в Союзе писателей, сообщал даже фамилии писателей…
Ну где, в какой стране писателей так высоко ценят! Ну просто какой-то тайный орден, за проникновение в секреты которого борются все разведки мира!
Допрос окончен. Фактов не добыто никаких, но следствие это, как видно, и не волнует: все равно конвейер сработает без осечки, автоматически. Лишь бы хоть как-то соблюсти формальности. Но и тут — ляпы, не все гладко.
Оригинала протокола в деле нет, хотя и должен быть. Перед нами — машинописный экземпляр, подписанный Пильняком. Но что-то нечисто с подписью. Она поставлена внизу каждой страницы и под некоторыми ответами (не всеми) и местами настолько не похожа на подпись Пильняка, настолько искажена, что возникают сомнения в ее подлинности. Или она сделана в очень тяжелом состоянии? Или это подделка? В одном месте ответ почему-то подписан дважды, в другом подпись прерывает фразу на середине, невпопад — так, будто ставилась заранее, на чистом листе, на котором потом печатался текст.
26 Марта 38-го — второй и последний допрос. Райзман добирает показания. Теперь речь о поездке Пильняка в Америку в 1931 году. Арестованный рассказывает, а следователь формулирует, развивает, дополняет. И вот результат:
— Открыто против СССР и партии я выступать не мог, но я превратил свою поездку в поездку туриста, смазав то общественное значение, которое ей хотели придать друзья Советского Союза…
Большего криминала выжать не удалось.
Следственное дело Пильняка — смесь правды, неправды и полуправды. Здесь и искренняя боль писателя за тяжкое положение страны, нищету и бесправие народа, неприятие деспотизма и цензурного гнета над литературой. Если все эти мучительные раздумья выделить и напечатать отдельно, действительно получится обвинение, но не Пильняку, а тоталитарному строю, который его судил.
И в то же время — наговоры на себя и других, фантастические выдумки, спровоцированные или выжатые следствием, доходящие до абсурда. Такое следствие — узкий тоннель с рельсами и настигающий сзади, готовый расплющить буфер — беги! В иные моменты вся нелепость дела выходит наружу, даже кажется: уж не намеренно ли арестованный клевещет на себя, чтоб очевидней стал этот фарс? Очевидней — для кого? Для объективного суда? Для понимающих потомков? Но цена каждого слова непомерно высока — на карту поставлена жизнь, и не только своя.
И конечно же — следователь, с его казенными, пропагандистскими трафаретами. Иначе как объяснить, что блестящий писатель начинает говорить вдруг языком полицейского чиновника? Стоило между двумя безобидными словами вставить «троцкиста» или «террориста» — и фраза принимала зловещий смысл. И побольше таких слов — кашу маслом не испортишь, протоколы допросов буквально нашпигованы ими. Так из критики делается контрреволюция, из мятущегося художника — заклятый враг, в этом стилисты из НКВД поднаторели.
На допросах неизбежно всплывают имена, иногда подсунутые самим следователем — для него это новые, потенциальные преступники. Расходятся круги. А потом снимается слой за слоем и, в первую очередь, те, кто духовно чужд, кто мыслит, протестует, способен сопротивляться.
Фамилии тасовались, как карты в колоде, перебрасывались из дела в дело, были там свои тузы и свои шестерки. Часто в вопросах следователя уже давалась какая-то обойма имен, которая потом, в протоколе, переносилась в ответ подследственного. И наверняка про очень многие свои показания Пильняк мог бы сказать следователю знаменитое, евангельское: «Ты говоришь!».
И все же за строчками протоколов слышится мотив сопротивления, неприятия сталинщины. И с этой точки зрения преступление Пильняка и его друзей перед режимом очевидно. Они были по самому естеству своему противниками деспотии, как ни пытались с ней ужиться. И волчья власть рано или поздно уничтожила бы их — как несовместимую с собой породу.
Дело Пильняка — очевидное свидетельство, что Сопротивление было, пусть не открытая организованная борьба с тоталитарным строем, но все же оппозиция, чреватая взрывом. Сопротивления Словом.
Я стал другим человеком.
20 Апреля Пильняк получил копию обвинительного заключения и узнал, что предан суду Военной коллегии. Наверняка был и инструктаж, его накачивали: не ломать версию следователя, добытую таким трудом, доиграть трагикомедию.
На следующий день был суд. Военная коллегия заседала в таком составе: председатель — все тот же бессменный армвоенюрист Василий Васильевич Ульрих, члены — диввоенюрист Зарянов и бригвоенюрист Ждан, секретарь — военюрист 1-го ранга Батнер[157]. Заседание продолжалось с 17.45 до 18.00 — пятнадцать минут!
Председатель объявил, чье дело подлежит рассмотрению и по каким статьям. Секретарь доложил, что подсудимый доставлен и что свидетели не вызывались. Затем судьи «удостоверились в самоличности» подсудимого, который никаких ходатайств и отвода суду не заявил.
Секретарь торопливо огласил обвинительное заключение с целым букетом подписей — от Райзмана до прокурора Союза Вышинского[158].
— Признаете ли вы себя виновным? — спросил Ульрих.
— Да, полностью, — говорил Пильняк. — И полностью подтверждаю свои показания. На следствии я рассказал всю истинную правду и добавить ничего не имею.
Судебное следствие закончилось. Роль сыграна до конца.
Последнее слово подсудимого. Каждая фраза заранее продумана, взвешена. И кажется, это уже обращение не столько к трехглавой гидре суда, сколько поверх него — к способным слышать:
— Я очень хочу работать. После долгого тюремного заключения я стал совсем другим человеком и по-новому увидел жизнь. Я хочу жить, много работать, я хочу иметь перед собой бумагу, чтобы написать полезную для советских людей вещь…
И вот приговор — равнодушное канцелярское клише, куда вписывались миллионы горячих, трепетных жизней:
— Именем Союза Советских… бывшего писателя… участником антисоветских, троцкистских, диверсионных, террористических организаций… подготавливал теракты… товарища Сталина и Ежова… шпионскую работу в пользу Японии… к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор окончательный и подлежит немедленному исполнению.
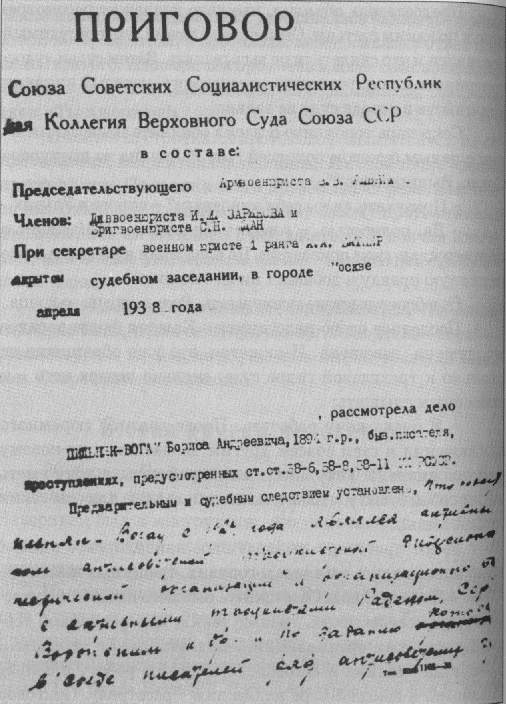
Приговор Военной коллегии Верховного Суда СССР по делу Б. А. Пильняка (Вогау). 21 апреля 1938 года.
Маленький желтый листочек: «Приговор приведен в исполнение… Начальник 12-го отделения 1-го спецотдела лейтенант Шевелев».
В «Литературной энциклопедии» сказано, что Пильняк умер в 1937 году, семье его сообщили — в 1941-м… Все ложь! Теперь можно сказать точно — год 1938-й, 21 апреля.
Дальше в деле уже другая бумага, свежее — реабилитация. В 1956 году Военная прокуратура установила, что Пильняк был арестован без санкции прокурора, что показания Большакова и Артема Веселого, как и самого Пильняка, опровергаются результатами проверки. Он был осужден необоснованно, с использованием противозаконных методов следствия, почему дело о нем и прекращается за отсутствием состава преступления.
Среди лиц, дававших отзыв о Пильняке для реабилитации, был Иван Гронский, тот самый редактор «Нового мира», стеливший ему дорогу на Лубянку и теперь бывший тут как тут — при его посмертном освобождении. И хоть теперь Гронский признавал, что Пильняк не был врагом народа, но продолжал говорить о своем «более чем настороженном отношении» к писателю, что «должен был, естественно, проверить всех сотрудников журнала, особенно тех, кто был связан с троцкистами, и, в первую очередь, разумеется, Бориса Пильняка», называл его книги клеветническими. И даже много позднее после реабилитации писателя считал, что «Повесть непогашенной луны» — «идеологическая диверсия». Ни тюрьма, ни концлагерь, через которые прошел и сам Гронский, не открыли ему глаза, всю жизнь, до самой смерти повторял одни и те же шаблонные фразы — и так ничего и не понял!
Гражданская реабилитация Пильняка свершилась, а до творческой — возвращения к читателю его книг — было далеко. Для этого понадобилось еще двадцать лет.
После ареста его сочинения были изъяты из всех библиотек и книжных магазинов, за хранение их тоже грозила кара. Только с 1976 года стали опять выходить его книги. Целое поколение выросло без них, и ужас в том, что мы начинаем узнавать его биографию, как и многих других писателей, чье Слово было репрессировано, — с конца!
При изучении дела был сделан и запрос об изъятых рукописях. «Не сохранились…».
Как распутать давно и намеренно запутанный клубок? Во всех этих событиях, судьбах, голосах звучит полифония самой жизни, большого романа.
«Я хочу жить, много работать, я хочу иметь перед собой бумагу, чтобы написать полезную для советских людей вещь…».
Свой последний роман Борис Пильняк уже никогда не напишет. Тот роман, который он прожил, но не пережил. Светлый круг его жизни сузился до черной точки пули.
Буревестник в клетке. МАКСИМ ГОРЬКИЙ.

Маска и лицо.
Горьковеды из ЧК.
На аркане.
Удушение в объятьях.
Предсмертие.
Послесмертие.
Маска и лицо.
Максим Горький не был репрессирован, жил и умер в чести и почете у советской власти. Но материалы о нем в лубянском архиве я запросил — зная, что ни один крупный художник, а тем более такая всемирная знаменитость, как Горький, не остался вне внимания Лубянки. Запросил вроде бы наудачу — но будучи уверен: слишком частую сеть набросили Органы на общество, чтобы в нее не попала такая крупная рыба. И не ошибся…
Владимир Ильич!
С Заксом[159] я не буду работать и разговаривать не хочу. Я слишком стар для того, чтоб позволить издеваться надо мной…
Да и вообще я вижу, что мне пора уходить в сторону…
Максим Горький — Владимиру Ленину…
Прошло немало времени, пока, перерыв груду журналов и книг в библиотеках, наведя справки в архивах, я смог понять, что за бумаги передо мной.
И прежде всего обнаружил один поразительный факт: Горький — писатель без биографии. А ведь шел уже 1990 год, когда более семи десятков лет он был иконой советской истории!..
В многочисленных изданиях, посвященных ему, повторялся набор хрестоматийных, тщательно процеженных данных, уложенных в некое подобие жития. Будто невидимая, но твердая рука провела черту — что нужно знать и чего нельзя. Отношения Горького с современниками искажены, некоторые люди вообще изъяты из его жизни. Четырехтомная «Летопись жизни и творчества» писателя полна зияющих провалов и неувязок. Сколько писем, на которые есть и ссылки, не напечатаны, а те, что печатались, сильно урезаны, — что скрыто за этими купюрами? То же со статьями и даже фотографиями. То же и с архивными документами, многие из них — за семью печатями.
Словом, получалось, что Горький — эта всемирная знаменитость — едва ли не самый неизвестный советский писатель.
«Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный… То кричит пророк победы: „Пусть сильнее грянет буря!“».
Это с детства — заставляли учить в школе.
Так оно и вошло в наше сознание, в нашу историю изначально, с пеленок: Буря — Революция и Горький — Буревестник, Вестник Революции. Роман «Мать», первый шедевр соцреализма, высоко ценил Ленин. Ну, это мимо — скучно. Пьеса «На дне» — да, конечно. «Человек — это звучит гордо, человек — это великолепно. Че-ло-век!».
Горький двоился. С одной стороны — набор стереотипов, вдалбливаемых в голову, примелькавшихся, как портрет с усами, висящий в каждой школе и библиотеке, обычно рядом с Лениным или Толстым. Икона, критиковать нельзя. С другой стороны — не отмахнешься, несомненный талант. Но читать его хотелось все меньше, казался далеким прошлым. Предпочитали Горькому Бунина (почему-то всегда с ним сравнивали), что считалось признаком фронды, вольномыслия.
Короче говоря, я всегда считал Горького Писателем, хотя любимым он никогда не был. И даже как бы не мог быть.
Потом многие годы Горького будто не существовало. Правда, зимуя на полярной станции, на острове в Ледовитом океане, я решил перечитать всю классику (заносчивая идея!), взялся и за Горького — и увяз на втором или третьем томе. Не осилил.
Однажды пришли мы вместе с сыном Сережкой — ему тогда было восемь — в Дом-музей Горького в Москве, у Никитских ворот. Запомнилась фраза гардеробщицы — шепнула как будто по секрету:
— Здесь ему жилось максимально горько…
Почему? Роскошный особняк. Осмотрев все, Сережка, привыкший к советскому образу жизни — коммунальным квартирам, где в одной тесной комнате семья умудрялась разместить обеденный и письменный столы, родительскую постель, детскую кроватку и бабушкин диванчик, книжные полки, буфет и шкаф для одежды и скарба, а если жизнь семьи осеняют музы, то еще и пианино, и пишущую машинку, — Сережка был потрясен.
— Папа, а кто это все убирал?
— Кто? Слуги.
— Как слуги? — Он был потрясен еще больше. И тут же скомандовал: — Пошли отсюда!
Не вязалось такое в уме моего демократического сына с образом «певца горя народного», страдальца и заступника угнетенных, звавшего Революцию для справедливости на земле. Не вязалась тогда и у меня реплика о горькой жизни Горького здесь, в этом особняке, с атмосферой внешнего комфорта и семейного благополучия.
Прошло несколько лет. У меня умер друг, одинокий художник Шумилин. После похорон я пошел к нему, в его квартирку-берлогу, чтобы забрать картины, — родных у Шумилина не было. Целый день разбирал, складывал, увязывал, курил, вспоминал. Вызвал такси. Уже перед уходом заглянул на антресоли. Там, в груде одежды, засохших красок и кистей, лежали какие-то два круглых тяжелых предмета, завернутых в бумагу.
Развернул — и отшатнулся: Ленин! Цементная голова, посмертная маска. Развернул другую — Максим Горький, этот полегче, гипсовый… Два лика смерти, отрешенных, загадочных, страшных. Что с ними делать, куда деть? Для Шумилина они могли быть моделью, а для меня?
Сунул в мешок — потом решу.
Пробовал как-то звонить в музеи Горького и Ленина — говорят, у них уже есть, не надо. Так и лежат они у меня в кладовке до сих пор. Но совсем забыть о себе не дают — вопрошают…
Что меня больше всего поразило тогда, у Шумилина, это непримиримое противоборство, враждебность лица и маски, жизни и смерти. Мог ли я думать, что пройдет время — и снова возникнут передо мной эти две маски, уже на Лубянке? Сумею ли я теперь разглядеть за маской — лицо?
Ленин и Горький. Два великих друга. Увы, дружба эта в тех документах, которые я нашел на Лубянке, предстает совсем в новом, неканоническом свете, без привычной сусальной позолоты. Но прежде чем заговорят эти документы, вспомним историю отношений Горького и Ленина.
Встретились они впервые в 1905 году, хотя знали друг друга гораздо раньше, встретились — и сразу прониклись обоюдной симпатией. Два волжских бунтаря, возжелавших переделать Россию. Поначалу в их отношениях Горький даже больше покровительствовал Ленину, так как был знаменит и обеспечен, а Ленин и его партия только еще утверждали себя, рвались к власти. Однако если романтик писатель отклонялся от жесткой линии реалиста вождя, что случалось нередко, он тут же подвергался принципиальной критике: Ленин как бы поправлял, воспитывал его в марксистском духе. Отношений это не портило. Ведь все это пока больше область теории, мечты. Все эти наскоки и упреки в политических ошибках Горький в конце концов парировал улыбкой:
— Я знаю, что я плохой марксист. И потом, все мы, художники, немного невменяемые люди…
Ну что тут скажешь? Владимир Ильич только разводил руками.
Но вот она, революция, о которой столько мечтали большевики, — свершилась! Из мечты стала явью, от слов перешла к делу.
Горький ужаснулся. Кто правит бал? Слепые фанатики и авантюристы! Ведь за весь этот позор, бессмыслицу и кровь расплачиваться будет не Ленин, а сам народ! В газете «Новая жизнь» писатель по горячим следам событий публикует свои «Несвоевременные мысли», где отвергает большевистскую революцию, видит в ней трагедию и гибель России.
Такого Горького мы не знали, в школе не проходили. И газета «Новая жизнь», редактируемая Горьким, по приказу Ленина была летом 1918-го закрыта, а «Несвоевременные мысли» запрещены и не издавались у нас вплоть до последнего времени.
Но Ильич неизменно успокаивал:
— Нет, Горький от нас не уйдет. Все это временное, чужое. Вот увидите, он обязательно будет с нами.
И оказался прав, — Горький то ли действительно перестроился и раскаялся, то ли просто сдался на милость победителя. Возможно и то, и другое.
«Собираюсь работать с большевиками на автономных началах, — пишет он Екатерине Павловне Пешковой, своей первой жене, — надоела мне бессильная академическая оппозиция „Новой жизни“».
Замечательно выражение «на автономных началах» — попытка еще как-то спасти свою самостоятельность, личность. Это при большевиках-то, при диктатуре!
Тогда же сын Горького Максим Пешков, работающий у Дзержинского, доверительно пишет Ленину: «Папа начинает исправляться — „левеет“. Вчера даже вступил в сильный спор с нашими эсерами, которые через 10 мин. позорно бежали».
Выстрел Фанни Каплан потряс писателя — ведь он всегда был на стороне пострадавших. Горький навестил Ленина в Кремле после ранения и снова почувствовал себя большевиком.
— Октября я не понял и не понимал до покушения на жизнь Владимира Ильича, — признавался он впоследствии. — Мы встретились очень дружески, но, разумеется, пронзительные, всевидящие глазки милого Ильича смотрели на меня, «заблудившегося», с явным сожалением… Его отношение ко мне было отношением строгого учителя и доброго, заботливого друга.
Дружба была восстановлена. И подкреплена делом. Горький развернул бурную деятельность на культурном фронте: организовал издательство «Всемирная литература», под крылом которого объединил лучшие писательские силы страны, создал Всероссийскую комиссию по улучшению быта ученых, руководил Экспертной комиссией, собравшей специальный фонд из национализированных ценностей и произведений искусства. Эти три учреждения действительно много значили в то время: благодаря им были спасены от истребления не только культурные ценности — многие ученые, писатели, художники, музыканты обязаны Горькому самой жизнью.
Гражданская война — на всех границах. Внутри страны — страшный голод, разруха. Горький, живя в Петрограде, напрягает силы в помощь гибнущей культуре. Пусть нет времени для собственных рукописей — сейчас важнее помочь интеллигенции выжить: достать крупу и воблу, выбить дрова, сохранить жилье, уберечь от арестов. Вести эту титаническую работу без поддержки Ленина было бы немыслимо. В то время они часто встречаются при поездках Горького в Москву: в Кремле и на даче у Ленина в Горках, на различных заседаниях, переписываются, обмениваются своими книгами.
Но в середине 1919-го наступает новое охлаждение. Горький, видя, что все его действия решительно ничего не меняют и что революция и культура становятся все менее совместимыми, впадает в отчаянье.
Ильич опять берется за исправление друга, пишет ему:
«Нервы у Вас явно не выдерживают… Вы договариваетесь до „вывода“, что революцию нельзя делать без интеллигенции. Это — сплошь больная психика… Занимаетесь Вы не политикой и не наблюдением работы политического строительства, а особой профессией, которая Вас окружает озлобленной буржуазной интеллигенцией… Понятно, что довели себя до болезни: жить Вам, Вы пишете, не только тяжело, но и „весьма противно“. Еще бы!.. Жизнь опротивела, „углубляется расхождение“ с коммунизмом… Не хочу навязываться с советами, а не могу не сказать: радикально измените обстановку и среду, и местожительство, и занятие, иначе опротиветь может жизнь окончательно».
Вождь снова увещевает писателя, уже готового взбунтоваться, обращает в свою веру, лечит, как врач — больного, как отец — неразумное дитя. И все упорнее советует покинуть страну, буквально подталкивает к отъезду, хотя, казалось бы, когда как не теперь нужны родине истинные патриоты и деятели культуры. Советы эти только огорчали и раздражали Горького — он подозревал в них просто желание избавиться от назойливого защитника врагов новой власти.
Но Ленин не успокаивается, вновь и вновь атакует Горького, пытаясь примирить его с арестами среди интеллигенции:
«Дорогой Алексей Максимович!.. В общем мера ареста кадетской (и околокадетской) публики была необходима и правильна.
Когда я читаю Ваше откровенное мнение по этому поводу, я вспоминаю особенно мне запавшую в голову при наших разговорах (в Лондоне, на Капри и после) Вашу фразу: „Мы, художники, невменяемые люди“.
Вот именно! Невероятно сердитые слова говорите Вы по какому поводу? По поводу того, что несколько десятков (или хотя бы даже сотен) кадетских и околокадетских господчиков посидят в тюрьме для предупреждения заговоров… Какое бедствие, подумаешь! Какая несправедливость!..
Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно…».
Отношение к интеллигенции выражено вполне определенно: не щадить!
Наступает 1920-й. Ленин все более успешно делает революцию, Горький все менее успешно спасает от нее культуру. О демократии, как в 1917-м, уже речи нет. Взамен обещанной свободы пришел красный террор. Слишком несовместимы оказались дела Ленина и Горького.
В их отношениях чувствуется надрыв. Горький изо всех сил старается играть свою роль, хотя то и дело проговаривается, выдает себя. На чествовании Ленина, в связи с пятидесятилетием, он ставит юбиляра выше Петра Великого, но произносит при этом зловещую фразу:
— И вдруг мы видим такую фигуру, глядя на которую, уверяю вас, хоть я и нетрусливого десятка, но мне становится жутко. Делается страшно от вида этого великого человека, который на нашей планете вертит рычагом истории так, как это ему хочется…
Горький уже прозревает в своем друге какие-то новые для себя черты, и этот новый Ильич его пугает. Тем не менее для народа они — вместе. Так надо. На демонстрации в честь открытия Второго конгресса Интернационала красный вождь идет с красным бантом и красной гвоздикой в петлице. И рядом с ним шагает красный писатель.
Это на публике, а за кулисами — иное. В те же дни Ильич строчит проект постановления о статьях Горького в журнале «Коммунистический Интернационал».
«В этих статьях нет ничего коммунистического, но много анти-коммунистического. Впредь никоим образом подобных статей в „Коммунистическом Интернационале“ не помещать».
В сентябре опять наступает кризис.
Свидетельство его — документ, с которым мне довелось ознакомиться в кабинете Лубянки.
Неизвестное письмо Горького вождю большевиков!
Это возмущенная реакция на препятствия в работе издательства «Всемирная литература». Затевая его вместе с издателем Гржебиным, Горький заключил договор с Народным комиссариатом просвещения на финансирование этого огромного и нужного для русской культуры дела. И встретил сопротивление Закса, заведующего Государственным издательством, референта Совета Народных Комиссаров по вопросам культуры.
Была тут своя подоплека. Закс доводился шурином одному из вождей партии, председателю Петроградского совета Зиновьеву, стоящему в то время на третьем месте в негласной иерархии большевиков после Ленина и Троцкого. А Зиновьев был давним врагом Горького: это он особенно настаивал на том, чтобы закрыть газету «Новая жизнь», и даже осмелился однажды устроить обыск в горьковской квартире, угрожая арестовать близких ему людей, что кончилось большим скандалом у Ленина. Происки Зиновьева увидел Горький и теперь.
Писал это письмо Горький долго, мучительно, в три приема. Первый вариант датирован 15 сентября 1920 года. Это лаконичный ультиматум, тон его резок. Первые же слова клокочут гневом: «С Заксом я не буду работать и разговаривать не хочу. Я слишком стар для того, чтобы позволить издеваться надо мной… Да и вообще я вижу, что мне пора уходить в сторону…».
Обида захлестывает Горького, он не может удержаться, чтобы не уколоть Закса его всесильным родством:
«Теперь в угоду зависти или капризам т. Закса, за которым я знаю пока одно достоинство: он шурин Зиновьева, — теперь вся моя работа идет прахом». Это уже во втором варианте письма, незавершенном, обрывающемся на отчаянной ноте: «…мое решение твердо. Довольно я терпел. Лучше издохнуть с голода, чем позволять все то, что до…».
Третий, видимо окончательный, вариант этого письма Горький пишет на следующий день, 16 сентября:
Владимир Ильич!
Предъявленные мне поправки к договору 10-го января со мной и Гржебиным — уничтожают этот договор. Было бы лучше не вытягивать из меня жилы в течение трех недель, а просто сразу сказать: «договор уничтожается».
В сущности, меня водили за нос даже не три недели, а несколько месяцев, в продолжение коих мною все-таки была сделана огромная работа: привлечено к делу широкой популяризации научных знаний около 300 человек лучших ученых России, заказаны, написаны и сданы в печать за границей десятки книг и т. д.
Теперь вся моя работа идет прахом. Пусть так.
Но я имею перед родиной и революцией некоторые заслуги и достаточно стар для того, чтоб позволить и дальше издеваться надо мною, относясь к моей работе так небрежно и глупо.
Ни работать, ни разговаривать с Заксом и подобными ему я не стану. И вообще я отказываюсь работать как в учреждениях, созданных моим трудом, — во «Всемирной Литературе», издательстве Гржебина, в «Экспертной Комиссии», в «Комиссии по улучшению быта ученых», так и во всех других учреждениях, где работал до сего дня.
Иначе поступить я не могу. Я устал от бестолковщины.
Всего доброго.
А. Пешков.
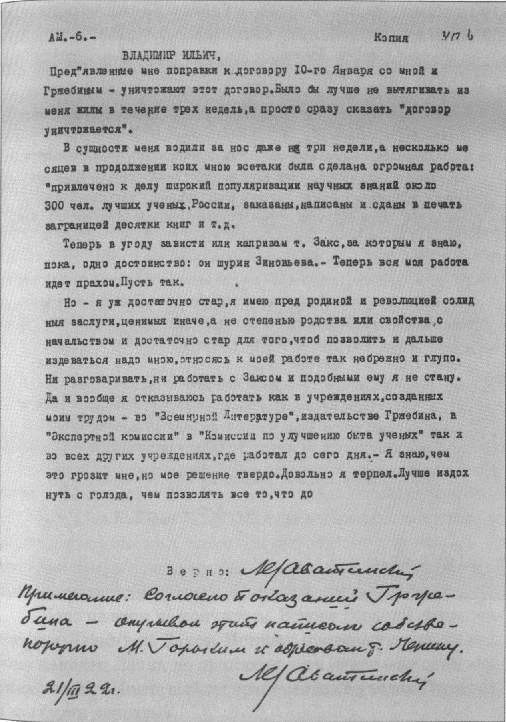
Копия черновика письма А. М. Горького к В. И. Ленину.
Из архивов КГБ СССР. 15 (16?) сентября 1920 года.
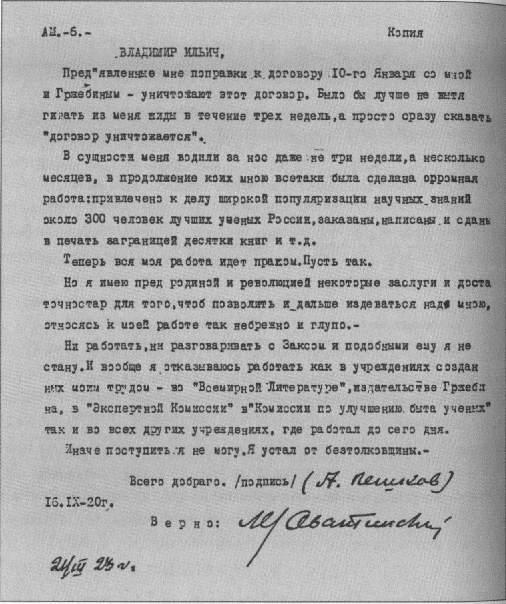
Копия письма A. M. Горького к В. И. Ленину.
Из архивов КГБ СССР. 16 сентября 1920 года.
Было ли отправлено это письмо и попало ли оно к адресату? Видимо, да. Ибо уже 22 сентября упомянутый Закс получил хорошую взбучку. ЦК партии приказал ему немедленно выдать шесть миллионов рублей для издательства и предложил «ни в коем случае не осложнять и не затруднять работу товарища Горького в Петрограде и за границей».
Дело на этом не кончилось. Вскоре Горький опять жаловался Ленину на Закса. История протянется еще на год, пока наконец Ленин не прикажет дать Заксу еще один «архинагоняй»: «Иначе выйдет архискандал с уходом Горького, и мы будем неправы».
В лубянской папке таилось и другое письмо того же автора тому же адресату:
Владимир Ильич!
Арестован коммунист ВОРОБЬЕВ, старый партиец, человек с большим революционным прошлым. Его знают Бухарин, Трилиссер[160], Стасова и т. д.
Арестован он потому, что у него найдены сапоги ЧЕРНОВА[161].
Но, по словам людей зрячих, эти сапоги суть — женские ботинки, принадлежащие некой Иде, несомненной женщине, что можно установить экспертизой.
Полагая, что этот скверный анекдот не может быть приятен Вам, Вы, может быть, прекратите дальнейшее развитие его…
А. Пешков.

Копия письма A. M. Горького к В. И. Ленину.
Из архивов КГБ СССР. 24 сентября 1920 года.
Как выяснилось, существует вариант письма (от 24 сентября 1920-го) — он был извлечен из Центрального партийного архива и опубликован только в 1991-м. Я не сразу узнал текст — совпало лишь самое начало, весь «скверный анекдот» отсутствовал. Выразительные многоточия охраняли имидж вождя, который еще совсем недавно был неприкасаемым.
И тут дело решилось в пользу Горького. Воробьев был спасен. Ленин показал письмо Дзержинскому, тот выяснил, что Воробьев хоть и укрывал эсеров, но «по доброте сердечной, а не из политических соображений», и передал дело в партийный суд. Известно, что жизнь Воробьева оборвалась в 1938 году — дата кровавая, мало кто из большевиков ленинского призыва ее перешагнул.
Перед нами машинописные копии горьковских писем.
Под текстами напечатано: «Верно» — подпись от руки: «М. Славатинский». На неоконченном варианте письма о Заксе приписано: «Согласно показаний Гржебина — отрывок этот написан собственноручно М. Горьким и адресован т. Ленину». И снова — «М. Славатинский. 21.3.22 г.».
Знакомая фамилия! Изучая следственные дела писателей, например поэта Алексея Ганина[162], расстрелянного в 1925 году, я уже встречал эту фамилию. Начальник 7-го отделения Секретно-политического отдела ОГПУ. Убивал без жалости. Неужели и Горького он числил в своих подопечных? И брал показания у его знакомых? И когда — в 1922-м, при жизни и Ленина, и Дзержинского?! Такое не сразу укладывалось в сознании. Мог ли какой-то Славатинский вести досье на Горького без их ведома? А то, что оно велось, несомненно, — на обороте окончательного варианта письма о Заксе есть помета: «В дело. Формуляр М. Горького».
Чтобы понять все это, надо проследить историю отношений Горького и Ленина до конца.
20 Октября 1920 года произошла их знаменитая и, видимо, последняя встреча на квартире Екатерины Павловны Пешковой в Москве. Весь советский народ знает о ней по многочисленным описаниям, по фильму режиссера Юткевича. Вождь там — воплощенная человечность, самый человечный человек, влюбленный в искусство. Играл Исайя Добровейн. Звучала «Аппассионата». По России гуляла метель, и спасти Россию мог только Ленин. Сцена удалась…
На самом деле благостное слияние двух великих душ было, скорее всего, прощанием. Сквозил в ней еще один подтекст — Ильич упорно склонял Горького к эмиграции:
— Слушая ваши рассказы, даже боишься: не успеет написать. К тому же о здоровье вы нимало не заботитесь, а здоровье у вас — швах. Валяйте за границу, в Италию, в Давос…
И вдруг добавил:
— Не поедете — вышлем.
Фраза эта сильно врезалась Горькому в память, он вспоминал о ней и много лет спустя. Мог ли он предполагать тогда, что пройдет всего два года — и высылка станет государственной политикой, «мерой пресечения» инакомыслия, выбрасывать интеллигентов за границу будут уже десятками и отнюдь не по доброй воле? Чего стоит хотя бы «философский пароход», когда из страны одним махом выдворили целое созвездие лучших умов России — философов, писателей, экономистов, историков!
Зато когда действительно следовало отпустить, правительство не спешило.
Летом 1921-го опасность нависла над жизнью поэта Александра Блока. Горький бомбардировал Ленина и Луначарского телеграммами: «Спасите! У Блока цинга и нервное истощение. Отпустите в Финляндию лечиться. Здесь он погибнет!».
Пока в коридорах власти судили да рядили, дать ли визу Блоку и его жене, поэт умер. Не умер — доведен до гибели, то есть убит. А через семнадцать дней после его смерти расстреляли другого поэта, Николая Гумилева, расстреляли поспешно, по-бандитски, примешав его к белогвардейскому «заговору». И тут прошение Горького не помогло[163].
Август 1921-го — черная дата в истории нашей литературы. Погибли два лучших поэта России — с них начинается страшный мартиролог, бесконечный список писателей, погубленных советской властью. А в конце того же года умер «последний классик» русской прозы XIX века и первый правозащитник советской эпохи — Владимир Галактионович Короленко, его смерть, несомненно, была ускорена тем террором и зверствами, которые воцарились при большевиках и от которых пострадали многие друзья и родные писателя.
Для Ленина смерть Блока и Гумилева — не событие. Издержки производства. В бумагах его той поры эти имена даже не упоминаются. Если для Горького человек — самоцель, то для его высокого друга это только сырье, годное или не годное горючее для костра мировой революции.
Об этом ясно скажет сам Горький, через десять лет, более трезво взглянув на события прошлого:
— Сегодняшняя действительность была для Ленина только материалом для построения будущего…
Восьмого октября Горький пишет прощальное письмо Ленину перед отъездом в Европу. Последняя его забота — об оставленном деле, о трех учреждениях, которым отдано столько энергии и сил: «Всемирной литературе», Комиссии по улучшению быта ученых и Экспертной комиссии (все они или захирели, или были закрыты после его отъезда).
Как вспоминает Луначарский, Ленин, выпроваживая Горького из России, рассуждал так:
— У него тонкие нервы — ведь он художник… Пусть же он лучше уедет, полечится, отдохнет, посмотрит на все это издали, а мы за это время нашу улицу подметем, а тогда уже скажем: «У нас теперь поблагопристойней, мы можем даже и нашего художника пригласить».
«И вот Алексей Максимович, — добавляет Луначарский, — гонимый своей болезнью, необходимостью спасать свою жизнь, дорогую для всех, в ком живет настоящая любовь к людям, откололся от нас расстоянием. Но это не оторвало его от нас. Ниточка, по которой течет кровь, такой сосудик к сердцу Алексея Максимовича остался».
Теперь мы видим, что одной из ниточек, которые связывали Горького со страной, была та, что свили в ЧК, и эта ниточка уже никогда не отпустит писателя, превратившись к концу его жизни в толстый канат. И держать другой конец каната будет уже другой вождь — Сталин.
Итак, в 21-м Горький Ленину уже не столько помогал, сколько мешал в наведении революционного порядка. Следовало спровадить строптивого художника подальше, и благовидный повод был: забота о его же здоровье — спровадить от греха подальше и, пока его нет, накинуть на взбесившуюся Россию узду и хомут, укротить. Ибо Ленин в решительные минуты никогда не исходил из дружеских, человеческих симпатий («Человеческое, слишком человеческое», как говаривал Ницше), но всегда только из высшей революционной целесообразности и интересов своей партии.
Истинного Ленина мы не знали. Вместо правды нам подсовывали миф, вместо лица — лик. И когда стали приоткрываться бронированные двери спецхранов, оказалось, что в партийном архиве были сокрыты 3724 никогда не публиковавшихся ленинских документа — на несколько томов! Да еще три тысячи документов, подписанных им, — они тоже были замурованы, спрятаны от нас. Посмертно заточили своего вождя!
Не зря прятали! Со страниц этих документов на нас глянул другой Ленин — неугодный коммунистическому мифу, непохожий на икону. Вдохновитель красного террора, создатель ВЧК, которая была его детищем, и детищем любимым.
Один из его соратников — Гусев — вспоминал:
«Ленин нас когда-то учил, что каждый член партии должен быть агентом ЧК, то есть смотреть и доносить… Если мы от чего-либо страдаем, то это не от доносительства, а от недоносительства… Можно быть прекрасными друзьями, но раз мы начинаем расходиться в политике, мы вынуждены не только рвать нашу дружбу, но идти дальше — идти на доносительство».
Вот и разгадка, почему письма Горького попали на Лубянку. Разумеется, без санкции Ильича устанавливать слежку за его другом никто не решился бы.
Как-то одна маленькая девочка, все рисовавшая принцев и принцесс, спросила меня:
— А вы в Мавзолее были?
— Был.
— И Ленина видели?!
— Ну да.
— Страшно?
— Почему страшно?
— Ну как же! Ведь он все-о-о видит, все-о-о слышит…
Горьковеды из ЧК.
Ходом событий писатель был поставлен на гребень истории — между интеллигенцией и властью, между Востоком и Западом, удержаться на этом гребне, на всех ветрах, почти невозможно. Постоянные метания Горького между желанием сохранить свою духовную независимость и страхом отстать от паровоза революции, между традициями европейского гуманизма, которому он поклонялся, и варварским, штурмовым сотворением нового, невиданного мира — эти противоречия, пронизавшие всю его жизнь, и составляют его трагедию.
Летом 1922 года в Москве проходил процесс над партией эсеров, когда-то вместе с большевиками делавших революцию, а теперь зачисленных в контрреволюционеры. Горький, обосновавшийся к тому времени в приморском местечке Герингсдорф, в Северной Германии, узнав о предстоящей расправе, решил: «Не могу молчать!» Он обратился с письмом к Анатолю Франсу с целью всколыхнуть общественное мнение Европы (письмо было опубликовано в Берлине, в «Социалистическом вестнике»). Посылая его Франсу, Горький приложил к нему другое свое письмо — заместителю председателя Совнаркома А. И. Рыкову. Оба послания попали на Лубянку, их приобщили к делу.
Достопочтенный Анатоль Франс!
Суд над социалистами-революционерами принял цинический характер публичного приготовления к убийству людей, искренне служивших делу освобождения русского народа. Убедительно прошу Вас: обратитесь еще раз к Советской власти с указанием на недопустимость преступления: может быть, Ваше веское слово сохранит ценные жизни социалистов. Сообщаю Вам письмо, посланное мною одному из представителей Советской власти.
Сердечный привет!
Максим Горький.
3 Июля.
А. И. Рыкову. Москва.
Алексей Иванович!
Если процесс социалистов-революционеров будет закончен убийством — это будет убийство с заранее обдуманным намерением, гнусное убийство.
Я прошу Вас сообщить Л. Д. Троцкому и другим это мое мнение. Надеюсь, оно не удивит Вас, ибо за все время революции я тысячекратно указывал Советской власти на бессмыслие и преступность истребления интеллигенции в нашей безграмотной и некультурной стране.
Ныне я убежден, что если эсеры будут убиты, — это преступление вызовет со стороны социалистической Европы моральную блокаду России.
Максим Горький.
1 Июля.
Обращение к Франсу действительно получило широкий резонанс. И переполошило Кремль. Ленин назвал письмо Горького «поганым». Троцкий вынес резолюцию: «Поручить „Правде“ мягкую статью о художнике Горьком, которого в политике никто всерьез не берет; статью опубликовать на иностранных языках». И вскоре «Правда» обрушила на Горького отнюдь не мягкий памфлет С. Зорина под заголовком «Почти на дне», обыгрывающим название знаменитой пьесы: «Своими политическими заграничными выступлениями Горький вредит нашей революции. И вредит сильно…».
Совместное выступление Горького и Франса (к ним присоединились и другие известные деятели), вероятно, все же повлияло на участь эсеров: Президиум ВЦИК хоть и утвердил смертный приговор, вынесенный Верховным революционным трибуналом, но приостановил исполнение его при условии полного прекращения партией эсеров своей деятельности.
Еще большее возмущение среди «кремлевских мечтателей» вызвал другой поступок Горького — публикация его книги «О русском крестьянстве». Это уже был прямой вызов. В лубянском досье писателя появился материал, озаглавленный «Максим Горький за рубежом». Никаких пометок на этом материале нет, нет ни авторства, ни даты, потому трудно установить его происхождение: то ли это обзор, сочиненный на самой Лубянке, то ли донесение кого-то из множества зарубежных агентов, то ли заметка, подготовленная для печати. Опус этот, однако, стоит того, чтобы его привести:
После отъезда М. Горького за границу он был осажден целым рядом эмигрантских газет, пытавшихся узнать об отношении писателя к русской революции и русскому народу.
Летом 1922 г. Горький опубликовал в иностранных газетах несколько статей, произведших сенсацию среди общественных кругов Европы и вызвавших обсуждение на страницах наших газет.
В этих статьях, ныне выпущенных изд. И. П. Ладыжникова отдельной книжкой под названием «О русском крестьянстве», Горький высказывает очень безотрадное суждение о русском народе, а в связи с этим и о совершенной русским народом социальной революции. Общий вывод из статей — это «трагичность русской революции в среде полудиких людей», это трагичность большевизма, по идее движения городской и промышленной культуры, электрификации, точной и сложной организации и индустриализации, по осуществлению оказавшегося восстанием мужицкой стихии, жестокой, дикой, анархической и разрушительной. Отсюда заключение: «Планетарный опыт Ленина, человека аморального, относящегося с барским равнодушием к народным горестям, теоретика и мечтателя, не знакомого с подлинной жизнью, — безответственный опыт его и иже с ним не удался».
Впрочем, все страдания, принесенные большевизмом русскому народу, Горький склонен считать благодетельными, как укрепившие и очистившие народный дух и волю.
Общественные круги Европы, антисоветски настроенные, разумеется, с должной выгодой для себя используют авторитетность горьковского имени среди масс.
В последнее время Горький, дотоле державшийся аполитично и выставлявший себя прежде всего защитником русской культуры, сближается с социалистическими антибольшевистскими группами (Абрамович, Мартов, Дан, Чернов, Слоним, Шрейдер). По инициативе этих групп изд. З. И. Гржебина предпринят исторический журнал «Летопись Революции», который выставляет себя беспартийно-социалистическим и пытается в беспристрастной оценке дать перспективу революционных событий последнего века. Горький принимает в журнале ближайшее участие…
Трудно предполагать, что столь враждебно настроенные к нам меньшевистские и эсеровские круги, к которым примкнул за рубежом Горький, сумеют выдержать беспристрастно-исторический тон в своем журнале.
Можно подумать, что Лубянка открыла филиал института по изучению Горького. Тщательно анализируется пресса о нем, перепечатываются публикации эмигрантских газет, делаются переводы с разных языков. Интересно полистать эти разношерстные листки, собранные в кучу неутомимыми горьковедами из ЧК. Повороты и зигзаги в поведении Горького, действительно непоследовательном, обсуждались тогда во всем мире и трактовались кому как выгодно — и все они отпечатались в лубянских хранилищах, слой за слоем.
Одна эмигрантская газета обвиняет Горького в поклепе на русский народ, другая сообщает о решении Советского правительства арестовать Горького, если он пересечет русскую границу. И все вместе они обрушились на него осенью 1922-го, когда Горький после, казалось бы, полного разрыва с советской властью вдруг заявил о своей лояльности к ней. Единственное, с чем пока он не соглашался, — это с политикой в отношении интеллигенции. Народ же русский, выразителем которого и был Горький в глазах всего мира, этот народ, стало быть, лучшей доли, чем та, которую он получил, не заслуживал. Народ, по мнению Горького, надлежало не защищать, а пасти, и большевики с этим справлялись прекрасно.
Вот Горький беседует с корреспондентом американской газеты «Forward» об антисемитизме и роли евреев в русской революции. Здесь, между прочим, есть пассаж, который, без всякого сомнения, не обошли вниманием на Лубянке. «Я верю, — заявил Горький, — что назначение евреев на опаснейшие и ответственные посты часто можно объяснить провокацией: так как в ЧК удалось пролезть многим черносотенцам, то эти реакционные должностные лица постарались, чтобы евреи были назначены на опаснейшие и неприятнейшие посты».
Кстати, о внимании Горького к еврейскому вопросу у нас почти не писалось, а если говорилось, то только тенденциозно, «как надо». В письме, опубликованном в сионистском журнале «Рассвет», писатель углубляется в эту щекотливую, опасную тему и делает тонкое наблюдение о распространении антисемитизма в России при советской власти из городов в деревню, но дальше признается в бессилии понять коренную причину русского антисемитизма — «постыдную и мучительную». Тут же Горький декларирует свое отношение к религии в связи с «бестактным или невольно спровоцированным участием евреев в продотрядах, в антирелигиозной агитации, в деле разоблачения „святых мощей“». Для меня, говорит Горький, мощи и церковь — не святыня, истинная святыня — человек.
Слежка за Горьким была в это время уже тотальной: наблюдали не только за ним самим, но и за всеми, кто входил с ним в контакт. Так, в Герингсдорфе Горького навестил французский писатель, редактор журнала «Les ecrits nouveaux» Андре Жермен. Восторженный француз поделился своими впечатлениями с художницей Марией Багратион, также знакомой горьковской семьи, жившей в Тифлисе. Письмо Жермена перлюстрировали, перевели в грузинской ЧК и отправили в Москву, оно тоже легло на стол товарищу Славатинскому. Так ничего не подозревавший, влюбленный в Горького почитатель был использован Органами в роли информатора.
Это письмо — портрет Горького, написанный в несколько наивно-преувеличенных тонах, но в то же время содержащий искренние, ценные наблюдения. Во всяком случае, он куда более правдив, чем тот канон большевистского глашатая, который подавался официальной советской пропагандой:
Меня приняли, не спрашивая моего имени, с такой простотой и благородством, которые сближают автора «босяков» с королями пастухов Гомера. Без всякой церемонии я стоял перед человеком, одетым небрежно, подавляющим своим высоким ростом, с лицом мужика, с чертами могучими и жесткими, под которыми угадывалась жизнь многообразная и увлекательная, но уже на склоне…
Горький прошел по большевизму, не принимая участия ни за, ни против. Это то, что ему не прощают верхи, что разочарует поклонников социализма, когда они его поймут. Спасать искусство и науку, помогать духовному развитию России — его глаза всегда были устремлены на эту работу…
Главари большевизма, которых можно ненавидеть, но у которых нельзя оспаривать теперь их сурового величия, поняли это. Они позволили ему председательствовать в артистических и научных комиссиях, говорить о чистой красоте произведений искусства восхищенной аудитории рабочих и солдат… Они терпели его свободную деятельность с некоторым заигрыванием, как Менады переносили среди них лиру Орфея, как наши кровавые отцы 1793 года приглашали на свои пиры души усопших знаменитых людей, как тиран Дионисий, гордившийся обществом Платона. Он отказался им угождать с героической гордостью…
Я не хочу пропустить еще другую работу, которая его удерживала в России под угрозой голода и холода до последней границы его сил и о которой он не соглашался говорить, — это работа его доброты. Повсюду, где он только мог, он вырывал жертвы у террора. Его чистое сердце не разбирало политического цвета несчастья, и его дом удивительно расширился, как и его сердце, чтобы поддержать и приютить осужденных. Его чистые взгляды безжалостно разрушают идола, которого нынешние демагоги окружают нежными чувствами с тем же стремлением, которое заставляло их отцов целовать стопы царственного лица…
Эти наблюдения Жермена, в особенности те, что касаются разрушения ленинского идола, конечно, только укрепляли уверенность властей в неблагонадежности знаменитого писателя. Как и то почтение его перед культурой Запада, о котором рассказывает Жермен:
Он глубоко уважает Францию, Англию и Италию, согласно его мнению та часть будет наиболее известна Европе, которая наиболее освещена. Вдруг с его губ слетает следующая странная мысль: «Влияние на мир должно принадлежать латинской и английской расе как более аристократической, чем все другие». Одно ясно — это его громадное беспокойство за будущее европейской культуры: «Разве нет угроз европейской культуре, что вы думаете?» С его простотой, с его громадным доверием он несколько раз ставит мне этот вопрос…
Три слова, которые мне послужат позднее для восстановления стершегося от времени образа, они танцуют в моем утешенном уме, эти слова: веселость, детство и доброта, — заканчивает письмо Андре Жермен.
Писем Горького, и в особенности к Горькому, Лубянка собрала множество, хватит, наверное, на целый том. В этой книге я привожу только неопубликованные материалы или те фрагменты, которые изымались перед публикацией, так что почти все, что читатель прочтет здесь, он прочтет впервые. Что-то стыдливо прятали, что-то убежденно вырезали с чувством исполненного долга, по партийной инструкции, внедренной в сознание, творя для нас и личность писателя по своему образу и подобию.
В этом отношении показательно письмо Горького Екатерине Павловне Пешковой из Мариенбада от 3 марта 1924 года. Оно печаталось в «Архиве Горького» с весьма характерными купюрами, делавшими текст не только убогим, но и совершенно непонятным. Приведем здесь несколько вычеркнутых публикаторами строк:
…Мне кажется, что пора бы перестать говорить о том, что я подчиняюсь каким-то влияниям, и надо помнить, что мне 55 лет и я имею свой, весьма приличный опыт…
Должен сказать, что меня особенно раздражают намеки на чьи-то «влияния» и проч. в этом духе. Довольно бы уж. Если бы на меня действовали влияния, то я, разумеется, давно подчинился Владимиру Ильичу, который умел великолепно влиять, и теперь я грыз бы бриллианты, распутничал с балеринами и катался в самых лучших автомобилях…
Заметим, что писалось это через полтора месяца после смерти Ленина.
Горький тогда опять оказался на распутье, ему надо было как-то определить свое место в неузнаваемо изменившемся мире — в новой эпохе и новой России, куда он шагнул из девятнадцатого века, из России Толстого и Чехова. Отстаивать ли традиционный гуманизм и бесстрашную правдивость нашей литературной классики или подчиниться теперешним хозяевам Родины — коммунистам, для которых литература, да и сам человек — лишь средство в борьбе? В этом мучительном поиске был тогда не он один — очень многие почувствовали себя оторванными от корней, потеряли духовные ориентиры, искали точку опоры. И ждали ответа от него, живого классика, мудреца и правдолюба.
Несколько лет назад к Горькому обращался начинающий писатель Сергей Алинов — просил отзыв на свой рассказ и, конечно же, задавал извечный русский вопрос: что делать? Теперь, в августе 1924-го, Алинов пишет Горькому опять — и какая метаморфоза! Дело не только в том, что вместе с письмом этот человек посылает Горькому уже не рукопись рассказа, а целых три изданных книги, среди которых и роман, — но как изменился тон! Алинов уже считает возможным снисходительно, жалеючи поучать Горького как безнадежно отставшего от времени и выражает в письме то кредо, которое вскоре станет определяющим для официальной советской литературы, — это отход художника от независимости, конформизм и не просто капитуляция перед власть имущими, но и добровольное, осознанное, какое-то воинственно-горделивое рвение служить им.
Алинов пишет:
Дорогой Алексей Максимович!
…Вы мне советовали «искать правду», а на вопрос, где она, говорили: «Правда за границами политических взглядов и программ», а где именно — неизвестно.
Спорно и непонятно здесь для меня то, Алексей Максимович, как можно молодому русскому писателю, живущему в России в 1921 году, советовать «искать правду», правду, которая есть неизвестно что и которая неизвестно где, но только за границами политических взглядов и программ…
Ах, Алексей Максимович! Русские писатели долго искали правду. Они не нашли ее — и, вероятно, потому, что тоже, как и вы, не знали, какая это правда и где она именно…
В России происходят любопытные вещи, Алексей Максимович, люди думают как-то совсем по-новому, и если на Западе люди неподвижнее вещей, если на Западе круговорот вещей огромен, а люди до сих пор, по выражению Троцкого, прочно прикреплены к своим социальным гнездам, то у нас в России, Алексей Максимович, вещи неподвижнее людей…
Из всего человечества прикрепляясь к тому кругу людей, который сейчас живет около меня и которому я сейчас нужен (если хотите — иного пути в «человечество» нет), вместо исконной «вечности» я ориентируюсь на тот кусок ее времени, в котором сейчас живут, борются, страдают и радуются мои современники; вместо «справедливости» я прикрепляюсь к политической программе; вместо неизвестной «правды» — к известной полуправде…
Выбор ясен: партийный подход — вместо общечеловеческого, известная полуправда — вместо неизвестной правды. Вот столбовая дорога, по которой должна идти теперь литература. Как колючей проволокой, кавычками ограждены — «правда», «человечество», «справедливость», «вечность».
Такое письмо наверняка вызвало у лубянских горьковедов чувство глубокого удовлетворения — написавший его был явно свой, проходил тест на благонадежность. Славатинский начертал: «Это письмо писал коммунист Алинов — писателю Максиму Горькому».
Совсем иную реакцию вызвало другое письмо — работника «Международной книги» Михаила Николаева[164], адресованное даже не самому Горькому, а его сыну Максиму, — письмо сугубо бытовое, шутливое, но и оно было внимательно прочитано, приобщено к делу. Острый нюх Славатинского что-то тут учуял, и он наложил такую резолюцию: «1 экз. — к делу Горького, 2 — к делу Крючкова». (Крючков — секретарь Горького, значит, и на него заведено дело!) «На Николаева у нас должен быть материал, обратите на него серьезное внимание».
Так засвечивались корреспонденты Горького и его близких, брались на заметку, а может быть, и на прицел.
Особый интерес вызывает в ОГПУ то, над чем работает писатель, его взгляды, отношения с врагами советской власти — такие фразы подчеркиваются, выделяются. В письме Горького писательнице Богданович от 4 августа 1925-го подчеркнута фраза: «Бывший благородный русский человек расскажет Вам, как он зарабатывал в Париже деньги тем, что публично совокуплялся с бараном. Ох, если бы Вы знали, какая гниль и пакость русские эмигранты… И до чего они злы. Ну и черт с ними, скоро вымрут».
Досье Горького — уже особое хозяйство, в котором усердно хлопочет большая группа сотрудников. Письма испещрены служебными приписками: «7 Секретный отдел», «т. Агранову», «т. Славатинскому. В дело», «т. Гендину. К делу Горького», «С подлинным верно. В. Шешкен» — и целые гирлянды подписей.
На аркане.
Второй пласт времени, запечатленный в досье Горького, — 1926–1928 годы.
Нет уже в живых Ленина — власть цепко перехватил Сталин. Умер прямодушный Дзержинский — его сменил вкрадчивый Ягода (официальный преемник Дзержинского — Менжинский — часто болел и больше числился, чем работал). ВЧК сменила вывеску на ОГПУ. Летучий истребительный отряд революции постепенно превращался в громадную полицейскую машину, протянувшую свои рычаги и провода не только на всю страну, но и во все стороны света.
С досье Горького теперь в основном работают двое: некто, подписывающийся буквами «К. С.», и Николай Христофорович Шиваров, да, да, тот же самый «Христофорыч с Лубянки», спец по литературе, который сделает карьеру на писателях. Но пока, на Горьком, он, видимо, еще только учится.
А что происходит с самим писателем? Он живет на своей вилле в Сорренто с видом на Везувий, купаясь в лучах благодатного средиземноморского солнца, по-прежнему — в ореоле мировой славы, в окружении многочисленных домочадцев, помощников, гостей и работает, как завод: пишет свою эпопею «Жизнь Клима Самгина», статьи, воспоминания, ведет обширнейшую переписку. Вроде бы все как нельзя лучше. Здоровье, правда, швах, как выражался Владимир Ильич, но это давно и, видимо, навсегда. Что же до ностальгии — эта болезнь, по его признанию, была ему незнакома.
Теплое, родное гнездо! Все тревоги и баталии мира разбиваются о порог дома. Здесь любят его и заботятся о нем, зовут друг друга милыми прозвищами: сам он в этом интимном кругу — просто Дука, его улыбчивая, кудрявая невестка Надя — Тимоша, его новая жена и помощница Мария Будберг — Титка, секретарь Петр Петрович Крючков — Пе-пе-крю. Рядом — сын Максим и маленькие внучки Марфа и Дарья. Есть и другие близкие, почти члены семьи: Соловей — обладающий даром ясновидения, столь же талантливый, сколь ленивый художник Иван Ракицкий, который однажды, еще в Петрограде, залетел в дом, да так и прибился, остался совсем, и хлопотливая Липа — медсестра Олимпиада Дмитриевна Черткова, тоже добровольная помощница. Наезжает и подолгу живет уже давно не жена, но по-прежнему верный друг Екатерина Павловна Пешкова, навещает Зиновий Пешков — офицер французской службы, брат Якова Свердлова, усыновленный когда-то Горьким…
Скоро писателю стукнет шестьдесят — время подводить итоги. И пора наконец решить — с кем он в большом мире? Где успокоит свою старость?
Был ли он эмигрантом? Как посмотреть. С одной стороны, конечно, — эмигрант поневоле. Что ему делать с советской властью, если она не признает бытия людей, не зараженных политикой с колыбели? Когда однажды он узнал, что вдова Ленина, Крупская, составила список книг для изъятия из библиотек, и там — Библия, Коран, Данте и Шопенгауэр, он решил, что ему надо вообще выйти из советского подданства. Даже принимался строчить заявление, но потом отложил. Ибо, с другой стороны, не сам ли он говорил, что евангельский гуманизм — плохая вещь?
И ругали его с двух сторон. Из родных краев язвила советская пресса: высоко-де летал Буревестник, да вот сел плохо — прямо в болото. Футурист Маяковский объявил, что Горький — труп и больше литературе не нужен. Но и с противоположного края, из Парижа, кого, как не его, оплевывают белогвардейцы? Называют его очерк о Ленине величайшим преступлением в истории русской печати…
А он — один, между двух огней, под перекрестным обстрелом.
Умонастроение Горького в это время хорошо видно из его неизвестного, хранившегося в лубянском архиве письма, адресованного молодому другу из Советского Союза, писателю Всеволоду Иванову:
…Очень удивлен Вашими словами: «Мучительно тяжело понять и поверить, что русский мужик не христианин, не кроткий Богов слуга, а мечтательный бандит». Не ожидал, что Вы можете так думать и что для Вас приемлема литературная идеализация народниками крестьянства. Я этим никогда и не болел, хотя меня народники усердно воспитывали именно в этом направлении. Более того, я вообще органически не понимаю, как можно идеализировать нацию, массу, класс. Я плохой марксист и слагать ответственность за жизнь с личности на массу, коллектив, партию, группу — не склонен.
Кроме того, я знаю, что зерно перца энергичнее пригоршни мака. И мне кажется, что было бы и не искренно, и смешно, если бы я думал иначе. Не стану, разумеется, отрицать, что мужик — бандит, хищник, анархист, но думаю, что быть ему таковым уже недолго. Бандит и анархист он потому, что издревле не верит в прочность социального бытия своего, от неверия и «мечтательность». Лично я и не желаю ему такой веры, ибо — не те времена, чтобы веровать. Мир человеческий дожил до эпохи, коя дерзновеннейше колеблет и расшатывает все и всякие веры и уверенности, хотя так называемое «неорганическое вещество» зловеще свидетельствует о своей неустойчивости.
Драматизм чувства, скрытого в словах Ваших, мне как будто понятен. Когда я представляю себе всю темную и хаотическую огромность русско-китайской, индусской и всякой другой деревни, а впереди ее вижу очень небольшого, хотя и нашедшего Архимедову точку опоры безумнейшего русского революционера, то, разумеется, такое соотношение сил возбуждает у меня некоторую тревогу за судьбу революционера, за Вашу в том числе.
Глубоко верно сказано Вами: «То, что нам нужно пережить и понять, превышает знания, понятия и даже чувства наших отцов». Очень верно. И намного превышает…
Живете Вы, очевидно, нелегко. Очень советую, приезжайте в Италию. «Шляться» здесь приятно и смешно. Отдохнете, подумаете, посмотрите на себя. Вам пора писать большую вещь.
О Бабеле ничего не знаю. Буду огорчен, если опять Бабель не побывает у меня, я его очень ценю и ставлю высоко.
Только вчера встал на ноги и могу писать, а несколько дней тому назад впервые почувствовал, как близка человеку неприятная штучка, именуемая «смертью». Налит камфарой, которую вспрыскивали мне раз пять, камфарой и еще какой-то жидкостью. Чувствую себя отвратительно…
Крепко жму руку!
8 Сентября 1927 г. А. Пешков.
Письмо очень важное для понимания эволюции Горького. Выводы, которые он делает здесь, безотрадны: времена — «не те, чтобы веровать», русский мужик — «бандит, хищник, анархист». И что самое поразительное: душа писателя болит не за мужика, а за «безумнейшего революционера»!
Перед нами не совсем тот, даже совсем не тот Горький, которого мы знали, и понятно, почему это письмо до сих пор держали под замком.
В другом, тоже неопубликованном письме Всеволоду Иванову — в начале 1928-го — Горький уже сообщает о своем твердом решении приехать в Россию. Но начинается письмо с гнева на Россию изгнанную, эмигрантскую, которую он и не понимал, и не принимал:
Дорогой друг…
Подлинная причина, почему однофамилец Ваш[165] отказался печатать стихи в «К<расной> н<ови>», конечно, — опасение скомпрометировать себя в среде «благомыслящих людей». Если б он оскоромился сотрудничеством в журнале Вашем, — эмигранты отгрызли бы ему пальцы, уши и нос. И даже еще что-нибудь.
Они тут совсем выживают из ума: Сергей Булгаков написал книгу о «Бестрепетном зачатии». Евлогий вместе со Струве выдумывают новую религию, присовокупляя к Троице — Софию-премудрость, и т. д. Но боготворчество не мешает им зверски ненавидеть друг друга.
Да, в мае приеду и, кажется, не увижу Вас: почему черти несут Вас в Ташкент? И почему Вы прислали 2-й том, не прислав первого? Я очень люблю читать Вас, пришлите.
С этим юбилеем я начинаю чувствовать себя знаменитым, как Мери Пикфорд, и уже боюсь, что мне предложат вступить в законный брак с Серафимовичем. Вот что: под Харьковом существует уже 6-й год колония «социально опасных» детей, я состою шефом ее. Организация, положение, жизнь ее — удивительно интересны. С детьми я переписываюсь, и на каждое мое письмо они отвечают 22 письмами, по числу начальников различных рабочих отрядов. Любопытно — страсть как.
Нет ли у Вас — в «Кр<асной> н<ови>» — человека, который бы съездил туда и описал колонию? Стоит.
Но имени моего упоминать не надо.
Жму руку.
Ваш А. Пешков.
И здесь Горький предстает без хрестоматийного глянца, далеким от гуманизма и истинного понимания происходящего. Уж он-то должен был знать, что для тысяч и тысяч русских, лишенных Родины, эмиграция — великое несчастье, что многие из них, став пасынками Европы, влачат жалкую, нищенскую жизнь, мог бы если не посочувствовать им, то хотя бы не охаивать, не представлять каким-то озверевшим стадом. Он — писатель! — не мог не знать, что изгнанные из России о. Сергий Булгаков и Петр Струве — не злодеи, а серьезные мыслители и ученые, и коль сам жил без веры в Бога, то хотя бы не называл эту веру выживанием из ума!
В первом письме Иванову он отрекается от русского мужика, здесь — от русской интеллигенции, той самой, которую когда-то защищал от современных варваров — большевиков и к которой себя относил. В кого же и во что он теперь верит? В «безумнейшего революционера»?
Зато все заметней тяга к другому. Советские методы воспитания — вот что ему теперь любопытно. Он тешит свое тщеславие вниманием к нему социально опасных детей из колонии, как будто не понимает, что все это шефство — организованный спектакль, одна из тех ниточек, за которые его дергают, притягивают и связывают. Или не приходит Горькому в голову вопрос, почему через десять лет советской власти в стране развелось так много бездомных и жуликов?
Вот это и поражает больше всего — постепенная сдача позиций, готовность к обману и самообману, подмена подлинного, действенного сострадания к людям формальным шефством и фальшивой опекой — опасные симптомы той болезни, которая, прогрессируя, приведет в конце концов Горького к духовному перерождению.
Лубянский архив Горького очень пестр и разнороден, вполне возможно, что туда попала не только перлюстрированная корреспонденция, но и что-то добытое агентурным путем или из архива писателя, изъятого у него дома сразу после смерти. По свидетельствам очевидцев, часть архива — целый чемодан — увезла из Сорренто в Лондон его жена и секретарь Мария Будберг (есть основания полагать, что чемодан тот в итоге тоже перекочевал на Лубянку). Теперь, через столько лет, выяснить все это с полной достоверностью очень трудно. Горьковские материалы прошли через многие руки и частично рассеялись. Сотрудники Лубянки говорили мне не без досады, что их постоянно «грабил» партийный архив (Горький почему-то проходил по партийному ведомству), что-то передавалось в разное время и в другие государственные хранилища.
Но и то, что осталось на Лубянке, бесценно. Среди адресатов и корреспондентов Горького люди разных слоев, положений и национальностей, от знаменитых до совсем неизвестных.
Переписка с писателями свидетельствует прежде всего о громадной работе, которую вел Горький с литературной молодежью, натаскивая ее в писательском ремесле, — в этом он просто феноменален и сделал так много, как никто: он стал «повивальной бабкой» для целой когорты советских писателей, среди которых такие первоклассные мастера, как Бабель, Олеша, Паустовский.
Но самое неизвестное, пожалуй, не переписка с писателями, а голоса самого народа, до сих пор не услышанные, обращения к Горькому простых людей, которыми руководили не профессиональные интересы, а искреннее желание высказаться, излить душу и — открыть глаза Горькому на то, что происходит на Родине. Кажется, не было такого слоя населения в России, от которого бы не долетал голос до далекого Сорренто. В этих письмах — весь срез жизни, драгоценные свидетельства о том времени, в них говорит сама история.
Взывая к Горькому, люди ждали его авторитетного действия в защиту поруганной справедливости. Один из корреспондентов пишет:
Что большевикам присуща жестокость и кровожадность, свидетельствуют те многочисленные казни, которые теперь совершаются у нас даже за маловажные политические и иные преступления, как растраты; об этом же свидетельствуют многочисленные убийства многих наших лучших людей, всею душой преданных интересам народа, о том же свидетельствует зверская расправа с детьми царя…
Неужели Вас не возмущает эта жестокость правящей партии и Вы не должны, пользуясь своим авторитетом и влиянием, показать ей всю гнусность и мерзость такого легкого отношения к человеческой жизни, всего лицемерия ее возмущения и протестов, когда другие правительства применяют неизмеримо более слабые наказания и репрессии к членам Коммунистической партии, когда те прибегают к насильственным средствам захвата власти. Против таких гнусностей царского правительства возвышали голос когда-то наши лучшие люди — Л. Толстой, В. Соловьев, В. Короленко, выступали против них и представители науки, обсуждая с разных точек зрения этот вопрос. А теперь? Все молчим, как в рот воды набравши. Ниоткуда нет протеста и осуждения, как будто так и должно быть. А вот расточать лесть Советской власти — на это у нас сколько угодно охотников; не гнушаются этим и люди науки. Все это очень печально, так как показывает страшный моральный упадок всей нашей интеллигенции, происходит оно, это замалчивание, в силу одобрения таких действий или за отсутствием мужества осудить их.
Скорее всего, причина — в недостатке мужества, в чем убеждаешься на каждом шагу. Когда власть как теперь, все боятся свободно и искренне выразить свое мнение по тому или другому политическому вопросу или действию правительства, боятся говорить, боятся писать в частных письмах и только шепчутся, оглядываясь по сторонам…
Если Вы этого не знаете, то, значит, не знаете современной России, а если знаете и не возвышаете своего голоса, то берете на себя тяжелый грех. Вы, Алексей Максимович, конечно, высоко ценили и уважали Л. Толстого, Чехова, Короленко. Как, Вы думаете, они отнеслись бы к Советской власти, ее правящей партии? Несомненно, с величайшим осуждением, не молчали бы.
А. К.
Это письмо анонимно и без адреса, как и многие другие, что вполне понятно: люди, живущие не в прекрасном далеке, а в реальности тоталитарного государства, знали, что слово правды под запретом, и, естественно, боялись. Удивительно что Горький этого не понимал. Или делал вид, что не понимает, намеренно закрывал глаза и зажимал уши? Не хотел разрушать свою сказку о социализме, прогрессе, о прекрасном настоящем и еще более прекрасном будущем? Эта сказка была для него, как видно, дороже правды жизни.
Мало того, он выступил в советской печати с гневной отповедью своим критически настроенным корреспондентам (статьи «Анонимам и псевдонимам», «Механическим гражданам СССР» и «Еще о механических гражданах»). Он, который всегда провозглашал любовь к человеку единственной своей верой, тут оказался глух и слеп к пронзительному зову реального человека — страдающего, униженного и оскорбленного. Или не понимал, что люди, открывшие ему сердце, ставят себя под удар, рискуют, не знал, что все письма, идущие за границу, вдобавок к такому лицу, проходят тщательную цензуру, а за авторами сразу устанавливается наблюдение? И тут анонимность и псевдонимность не всегда помогают, ибо у тайной полиции есть свои возможности и средства их расшифровать.
Видно, не понимал. Иначе не писал бы своему секретарю Крючкову: «„Руль“[166] подозревает, что письма „механических граждан“ я сообщаю в ГПУ. Не стесняются, негодяи…».
Удивительная наивность — как повязка на глаза: то наденет, то снимет. И врагами своими числит «механических граждан» и русских эмигрантов, то есть всех, кто не согласен с политикой советской власти. Такая наивность очень на руку ГПУ!
Разбирая эти письма, то досадуешь, то горюешь. И отдавать «нашего» Горького жалко, и за людей горько: открывают душу ему, а туда сразу влезают липкие щупальца Органов. Где же он, мудрый учитель, правдоискатель и заступник, художник-романтик?
Буревестник превращен в подсадную утку, используется как ловушка для инакомыслящих. Доказательств тому — множество.
На письме Горькому Андриана Кузьмина из Москвы, например, Шиваров написал: «Оригинал сфотографирован — остался у тов. Медведева. Им же дано задание о наблюдении над Кузьминым».
Прочитаем письмо — станет ясно, почему Андриан Кузьмин стал объектом внимания для ГПУ.
Москва. 25 декабря 1927 г.
Гражданин Максим Горький!
Несколько слов по поводу Вашего выступления в связи с десятилетием Октябрьской революции и по поводу Вашей статьи от 23 декабря с ответом «псевдонимам и анонимам».
Предупреждаю: пишущему эти строки 52 года, никогда (ни раньше, ни теперь) ни к каким привилегированным или партиям не принадлежал. Следовательно, никакой особо враждебной тенденции ни к прошлому, ни к настоящему нет. Есть трудовой взгляд на жизнь — как она есть… Ваша статья (и та, и другая) возбудила большие толки и пересуды, формулировать грубо которые можно так: Горький сидит на двух стульях. С одной стороны, как бы благословляет все происшедшее с 1917 года, а с другой — как бы нет. А вот как мне кажется: конечно, хорошо хвалить все, что сам не переживал. Я как-то читал какое-то поэтическое описание кавалерийской атаки в одном сражении и подумал: красиво, увлекательно, но хорошо, что автор сам в ней не участвовал…
Вы живете вдали, своевременно уклонившись от счастья быть слепым и безгласным объектом эксперимента, проводимого вопреки Вашему желанию и против желания почти всего населения Вашей страны…
И вообще, рассуждая трезво, без злобы и ослепления, можно ли сочувствовать тому, что делается против желания почти всех окружающих тебя людей? Здесь можно возмущаться всякой жестокостью как таковой, но нельзя же замалчивать и то, что этот эксперимент стоил стране людоедства. Что касается Вашей ссылки на историческую аналогичность с временем Петра Великого, то здесь, по-моему, передержка: не с временем Петра I и его реформами следует сравнивать аналогичный момент, нами переживаемый, а с временем, если уж хотите, Павла I.
Когда этот сумасбродный и озлобленный человек дорвался до власти, то он шпицрутенами и фухтенами насильно пытался обратить русского человека в пруссака… пока его не убрали. В Питере, в Эрмитаже, есть картина проф. Шарлемана «Парад в Санкт-Петербурге»… Мужички, переодетые пруссаками, — в одном мундире, в буклях и косах, застывшие на морозе, и все терпели целые шесть лет.
У нас теперь время тоже подходит к тому, где всем начинает надоедать «игра с социализмом», проводимая наследниками Павла. Да и среди наследников наступает отрезвление, диктуемое самосохранением, поэтому всех удивляет Ваше выступление: десять лет молчали — и вдруг начинаете петь… тому, к чему даже сами создатели начинают относиться по-иному, и где результатом всего вырисовывается тупик.
Не вовремя выступили, впрочем, литераторы всегда были плохие политики.
Непосредственным поводом для многих писем послужило объявление в советской печати о приезде Горького на родину.
…Что представляет из себя в настоящее время СССР, наша новая Россия, Вы увидите сами, — так начинается одно из писем. — Не ездите как знатный гость для этого на Волховстрой, на возобновленные фабрики и заводы, как делают это иностранные делегации, знакомящиеся только с внешней, со спокойной стороной нашей культуры, наблюдающие только то, что им можно показать… Сделайте противоположное: забудьте, что Вы писатель с именем, никуда не ездите с официальными провожатыми, как бы под арестом, а… поезжайте всюду, куда потянет душа, всенародным наблюдателем, как Вы делали это в Ваши молодые годы. При Вашем знании вообще народа, всех его слоев и переплетов, Вы, без сомнения, скоро увидите в нем новые расслоения, а среди них — новые веяния, новые движения мысли. Это новое… просачивается всюду и везде, под неустанным административным воздействием власти и в силу неслыханной и невиданной в капиталистических государствах материальной зависимости масс от центра.
В голове этого общественного движения — небольшая кучка людей, сподвижников Ленина… Эта группа людей, собственно, и составляет партию. Ее тезисы, ее положения, ее идеи лежат в основе нашего законодательства, революционным порядком втиснуты во все обороты народного обихода, принудительным впрыскиванием влиты в плоть и кровь русского народа. И часто против его воли…
К приезду Горького в стране готовились юбилейные торжества в его честь — писателю исполнялось 60 лет. Газеты запестрели заметками о предстоящем юбилее, директивами об организации чествований. Один из корреспондентов вложил в конверт со своим письмом вырезку из «Вечерней Москвы», чтобы до юбиляра дошли циркуляры власти как доказательства принудительной любви к пролетарскому писателю:
ЮБИЛЕЙ М. ГОРЬКОГО В ВУЗАХ.
Главпрофобр[167] разослал вчера правлениям всех вузов и других подведомственных ему учебных заведений особое письмо о проведении чествования М. Горького. Между 26 марта и 1 апреля во всех учебных заведениях должны быть устроены торжественные заседания с докладами о жизни и творчестве Горького, сопровождаемые литературными и музыкальными выступлениями. Ко дню 60-летия М. Горького (29 марта) должны быть организованы выставки, посвященные его творчеству.
Письмо с этой вырезкой тоже анонимно, но из текста видно, что писал его ученый. Писал резко, нелицеприятно, не только выражая свое отношение к писателю, но и, что особенно важно, рисуя бедственную участь советской интеллигенции:
Милостивый государь Алексей Максимович!
Принадлежа к числу русских научных деятелей, уже 25 лет работающих в высшей школе, я счел себя вынужденным, несмотря на предписания, уклониться от всякого участия в официальных торжествах, организованных в циркулярном порядке в ознаменование Вашего юбилея. Высоко ценя Ваш блестящий литературный талант, я считаю равно оскорбительным подобные торжества как для Вас, самого крупного из современных русских художников, так и для нас, деятелей науки и представителей русской интеллигенции, которая всегда придавала серьезное значение аналогичным чествованиям лишь в том случае, когда эти манифестации являются актом свободного изъявления общественных симпатий и настроений.
Но я решил писать к Вам на этот раз не столько с тем, чтобы дать Вам некоторое понятие, как у нас организуются теперь в Советской России всякого рода показные демонстрации, а с тем, чтобы высказать Вам, с тяжелым чувством, ряд недоумений, которые волнуют и вызывают невольное возмущение среди многих и многих русских людей, давно привыкших гордиться Вами как одним из славных русских писателей, имя которого связано с лучшими русскими художниками слова. Я разумею Ваши систематические выступления в советской прессе, где Вы, простите, так до странности легкомысленно выступаете против последних, не добитых еще советским режимом представителей русской интеллигенции и покрываете своим большим именем вопиющую ложь современной русской жизни. Из своего прекрасного далека, пользуясь совершенной свободой и независимостью, хотя и под защитой фашистского правительства, под благословенным небом Италии, в прекрасной вилле с неограниченной жилой площадью, Вы, вслед за официальной лживой прессой Советской России, повторяете на глазах всего культурного мира (хотя и зараженного также в своих господствующих верхах буржуазной ложью) заведомую, для тех, кто пережил эти десять лет в самой России, неправду, которая не может быть оправдана никакими, даже и самыми возвышенными целями и идеалами.
Мы, люди науки, умственного труда, живого и печатного слова, лишены всех прав свободного научного и интеллектуального творчества и, обреченные под страхом скорпионов ГПУ (о которых и не снилось жандармерии царского режима) молчать, — мы слышим Ваши дифирамбы Советской власти за ее заботы об ученых и науке…
Я не говорю уже о том, что ни для кого не тайна, что сейчас в России нет ни высшей, ни средней школы, ни свободных научных учреждений. Не говорю о гибели молодого поколения, не только лишенного правильного общего образования, но и воспитанного в варварском отношении к величайшим сокровищам мировой и особенно русской культуры.
Конечно, мои слова не убедят Вас, что-то затемняет Ваши глаза, но я хотел бы не убедить Вас (для этого Вам следовало прожить с нами десять лет), а разбудить в Вас просто голос человеческой совести, чувство самой простой справедливости и нравственной осторожности. Вы собираетесь приехать в Россию. О, конечно, Ваше прибытие в Россию будет сплошным триумфальным шествием на советских автомобилях, но не так хотелось бы, чтобы Вы прошлись по современной России, не в звании разрекламированного советского писателя, а прежнего Максима Горького, друга Антона Павловича Чехова, того Горького, который, как прежде, незаметным босяком еще раз прошел бы по матушке России и взглянул бы на подлинную страну не через «Известия» и «Правду», ложь съездовских речей и партийной демагогии, а открытым взглядом…
Простите за это не юбилейное слово. Знаю, Вы с презрительной улыбкой бросите это письмо в корзину как еще одно анонимное, жалкое и бессильное словоизвержение врага пролетариата и т. д. Да, Вы, свободный писатель, можете в Ваших письмах в советских газетах, пользуясь монополией, говорить все, что угодно, в защиту Советской власти, имеете все возможности травить нас вполне безнаказанно. От нас Вы ничего не можете услышать в ответ: мы связаны по рукам и во рту у нас советский кляп. Но, зная это, полагаете ли Вы, что Вы поступаете как рыцарь свободного слова?
Алексей Максимович, подумайте об этом наедине с Вашей совестью, когда-то такой чуткой ко всякой жизненной лжи и подлости. Пусть мы в Ваших глазах люди отсталые, не понимающие величия мировых задач и благородных лозунгов социальной революции, пусть так (хотя это вовсе не так), но все же не кажется ли Вам, что с противниками следует поступать честно. Связанных не бьют. Я не хочу верить, что Вы сознательно пишете неправду или что Вы продались Советской власти, как говорят кругом. Если бы я так думал, я, конечно, не писал бы Вам. Но я недоумеваю, как же Вы берете на себя так опрометчиво судить о том, чего Вы не знаете, не видите, не переживаете.
Вы даже, по-видимому, не отдаете себе отчета в том, почему Ваши многочисленные корреспонденты, о которых Вы говорили в одной из Ваших статей в «Известиях», не могут подписать своего имени под письмами, с которыми они обращаются к Вам с Вашей родины. Не знаю, пройдет ли благополучно через советский охранный аппарат и дойдет ли до Вас этот анонимный вопль души…
Вы жестоко ошиблись бы, если бы подумали, что Ваш корреспондент — сторонник старого режима. Он слишком много в своей жизни потрудился над разрушением последнего, чтобы мечтать о его реставрации. Но еще более ошиблись бы Вы, если бы приняли его за тайного агента постыдной русской эмиграции или члена какой-нибудь внутренней подпольной контрсоветской организации. Он бесконечно далек и от того, и от другого. Он просто принадлежит к последним остаткам тех культурных запасов, за счет которых до сих пор жила и еще продолжает жить Советская Россия. Вопреки убийственным условиям господствующего режима он пытается по мере сил продолжать культурную традицию научной и просветительной работы, стремясь внести нечто положительное в жизнь разоренной страны, ибо только такая работа — сознательная и нужная теперь в нашей родине. Что же касается врагов Советской власти, то внутри страны у нее есть только один действительно опасный враг — это она сама.
29 Марта 1928 г.
Писем множество, и чуть ли не в каждом — SOS! Спасите наши души!
Вот голос деревенского правдоискателя, не шибко грамотного, зато совестливого, пробившийся из самой глубинки в Сорренто:
…Мы, крестьяне, находящиеся в глуши от центра нашей матушки Руси, услышав Ваш приезд, радушно его встречаем за глаза. Мы надеемся, что Ваш приезд к нам будет исправлять имеющиеся наши промахи и ошибки наших правителей, т. к. появилось таковых очень много, как-то: растраты, самодурство, вплоть до контрреволюции, а это потому, по нашим крестьянским мнениям, что не проведен трудовой закон открыто.
Вам много сказать еще что есть. Полная власть на местах, как, например, — мелкие наши начальники, как сельсоветы, вики[168], они прямо выдают себя кум королю, почти никогда не исполняют имеющиеся у нас законы, а в частности, кодекса земельного, т. е. закон говорит одно, а они делают другое, и это обстоятельство портит все строительство. А ежели коммунист, т. е. партийный, то к нему близко не подходи и его слова закон, а верно оно или нет, он в этом и не думает отдать отчета… И ежели у меня хватило смелости указать, что это неверно, то первое — рискуешь попасть в неприятные элементы, а кроме того, получишь ответ, что это делается в порядке партийной дисциплины. И вот плохо то, что доносят дальше и дальше, например, уезд, в порядке партийной дисциплины, его поддерживает даже губерния, а между тем это лицо творит полную контрреволюцию, и все это в порядке партийной дисциплины. И вот это и заставляет делать партийца смело всевозможные пакости, он знает, что у него есть ограда — партия, и это у нас так развелось, самовольство, нужно его изжить. Я полагаю, закон, изданный хотя на год, месяц, должен безоговорочно применяться строго ко всем, а к партийцу тем больше. У нас, ежели личность не понравилась секретарю волкома[169] или вика, накладывают налог, продают последних коров, овец, постройки и т. д., и ваши все жалобы остаются в пустыне вопиющими. Все идет партийной линией…
Поэтому вот просим, наш гость, обратить на это внимание, это все Вам пишется верно. Плохо проводится такое важное дело, и плохо, когда коммунисты гадят и портят под предлогом коммунизма, да и суд как-то плохо глядит на имеющийся закон и делает, что ему нашепчут его сотоварищи, а также горе тому, кто не сделает по-ихнему, то завтра полетит вон, и так поставлено, что они не закона боятся, а боятся друг друга, а это на жизни сильно отражается. Просим подсобить нашим вождям ввести строгий закон, простой, прямо чтобы его знал каждый из нас в деревне и мог сказать и видеть, что это неверно, и он не боялся, что его за то будут преследовать, и это нужно скорее, скорее спасти нас от гибели…
«Уважающий Вас Иван Бол…» — подписался под письмом автор, оборвав фамилию на первом слоге, словно зажав рот ладонью, — «крестьянин»… Один из многих миллионов русских людей, чей голос чудом, сквозь мглу лет и заточение на Лубянке, долетел до нас со словом правды.
Немало, конечно, рассказывали Горькому и частые гости, приезжавшие из Союза. Все они тоже попадали на заметку в ГПУ. Вот фрагмент из доноса агента «Саянова»: «Большое внимание следует обратить на лиц, которые по вызову Горького ездили к нему за границу в Сорренто. Очень может быть, что и здесь затесалось некоторое количество врагов, обманывавших честного и прямодушного старика.
Об одном таком „посетителе“, ездившем по вызову Алексея Максимовича в Италию, я знаю со слов П. П. Крючкова. Речь шла о Зубакине Б. М., неудачном поэте и, кажется, историке религии…».
Борис Зубакин! Однажды нам, в Комиссию по наследию репрессированных писателей, принесли целую пачку бережно сохраненных стихов этого прекрасного поэта. Удалось рассказать о нем по телевидению, показать его вдохновенное лицо, почитать стихи — и, как всегда в таких случаях, посыпались письма. Оказалось, многие берегли добрую память об этом поэте и о его расстрелянной судьбе. Не исключено, что помог аресту Зубакина и этот донос «Саянова». Дорого тогда стоила поэту поездка в Сорренто!
Вряд ли всю эту подоплеку понимал сам Горький. О чем-то догадывался, чем-то возмущался, но верил другому: там, в Союзе, в целом все идет как надо, по пути прогресса. Голоса одиночек тонули в сводном хоре других, более удачливых, его гостей, домочадцев, секретарей и советской печати — те твердили одно: ваш дом — на родине, там вы нужнее всего, там ваше место на земле. В самом деле, где его читатель? Где его больше всего печатают? Откуда идут основные гонорары? Вот и недавно он получил от Советского правительства значительную сумму — и за изданные книги, и за те, что только готовятся к печати.
Был у этого хора и свой невидимый дирижер. С тем же упорством, с каким в свое время выталкивал Горького за рубеж Ленин, теперь притягивал его к себе Сталин. Нежелание писателя жить на родине обсуждалось тогда всюду и бросало тень на руководство страны: вот-де Горький хоть и приветствует на словах советский режим, а жить-то все же предпочитает в фашистской Италии!
Советские журналисты будут объяснять возвращение Горького тем, что ему невмоготу жить вдали от вождя, от его братской любви, которая оплодотворяет творчество. Нет, не Сталин Горькому, а Горький Сталину был нужен.
Кто самый крупный писатель? Горький! При Ленине не смог жить, уехал, а теперь вернется, где же еще творить, как не в самой свободной и счастливой стране? Пусть одобрит, поддержит нас своим всемирным авторитетом, восславит своим гениальным пером. Кроме того, Сталин рассчитывал поставить Горького во главе литературы и тем самым навести в ней порядок — разумеется, под своим контролем, — установить иерархию, подобную партийной.
— Взгляните на небо, — говорили доброхоты. — Даже птицы каждую весну летят с юга на север. Пора…
Удушение в объятьях.
И вот настал час, когда Горький после почти семилетнего отсутствия снова увидел Россию, когда, по словам Луначарского, его «восторженно схватил в свои гигантские объятия победоносный пролетариат».
Первые поездки его на родину были парадно-ознакомительными — он проводил здесь лето, а осенью неизменно возвращался в Сорренто. Дом в Москве для него подыскал сам Сталин, — построенный в начале века для миллионера Рябушинского роскошный особняк в стиле модерн на Малой Никитской, неподалеку от Кремля, сразу стал своего рода общественным и культурным центром, местом контакта власти с творческой интеллигенцией. Кроме того, Горькому были выделены две огромные комфортабельные дачи со специальной охраной — в Крыму и в Горках, под Москвой.
Опустим все те фанфары, которыми встречали писателя, — до сих пор только их мы и слышали, — заглянем вглубь событий, опираясь на следующий «культурный слой» в лубянском архиве. Это материалы следственных дел арестованных в 1937-м «врагов народа», участников контрреволюционного заговора — Генриха Ягоды, секретаря Горького Петра Крючкова, критика Леопольда Авербаха[170], своеобразного антигероя советской литературы, — и доносы литераторов, входивших в горьковский круг.
Со сложными чувствами, не без содрогания публикую я эти трагические, разоблачительные, даже сенсационные документы — в них много такого, что тоже заставит по-иному посмотреть на Горького и его окружение, да и вообще на историю нашей литературы. Иногда не хочется и верить открывшимся фактам, но приходится: факты, как верно говорил Владимир Ильич, — упрямая вещь.
Кроме публичного, общественного внимания, которым был окружен Горький с первых же шагов на родной земле, он сразу стал объектом тайного контроля, манипуляций со стороны Органов и личной опеки самого Ягоды. Генрих Григорьевич вошел в дом Горького уже при первом визите писателя в Москву. Земляк — тоже из Нижнего Новгорода, считай, даже родня — женат на племяннице Якова Свердлова, а брат того, Зиновий, как известно, носит фамилию Пешков, — приемный сын Алексея Максимовича.
Поначалу шеф ОГПУ (в 1934-м переименованного в НКВД) держался, надо думать, осторожно и на почтительном расстоянии, постепенно, при последующих приездах Горького, сближаясь с ним и его домом все теснее. Главной его целью тогда было во что бы то ни стало перетянуть писателя в Советский Союз, и ясно, что добивался он этого не по личной инициативе, а по прямому указанию товарища Сталина.
Будучи сам агентурой Сталина, Ягода завел у Горького и собственную агентуру. Следующее звено в цепочке Сталин — Ягода, безусловно, Петр Петрович Крючков.
Это был облысевший блондин небольшого роста, курносый, коренастый, упитанный, носивший пенсне. Знавшие его отмечают еще кольцо с ценным александритом, которое он постоянно носил. Камешек тот имел свою историю. Когда-то он был привезен Горькому с Урала и подарен им своей второй жене — Марии Федоровне Андреевой. Потом александрит перекочевал от хозяйки к Пе-пе-крю — у нее он тоже одно время секретарствовал.
Сотрудничая с Горьким с 1918 года, Крючков постепенно забирал в свои руки общественные, литературные и издательские связи писателя, так что стал в конце концов не только его канцелярией, но как бы и двойником, часто подменяя его и выступая от его имени во множестве дел. И надо отдать должное, этот умный и аккуратный человек сделал для Алексея Максимовича очень много полезного, стал ему и в рабочем, и в житейском плане просто необходим.
Неизвестно, был ли связан Крючков с Органами до знакомства с Ягодой, но после его двойная роль несомненна. Уже будучи в тюрьме, на следствии, он рассказал, что вплоть до ареста Ягоды постоянно бывал у того на квартире, а в выходные дни и на даче. Часто встречались они и у Горького. «Установились дружеские отношения», — говорит Крючков, смысл и характер дружбы секретаря писателя и главы Лубянки прозрачен.
— А в здании НКВД вы встречались с Ягодой? — спросил его следователь.
— Примерно пять-шесть раз в год я бывал у Ягоды в его служебном кабинете.
— По каким делам вы ходили к нему на службу?
— Часто я ходил к нему в связи со своими поездками в Италию, к Горькому. И иногда за деньгами.
— Какими деньгами?
— Например, в 1932 году Ягода по своей инициативе передал мне четыре тысячи долларов для покупки за границей машины для Горького. В 1933-м Ягода предложил мне две тысячи долларов (хотя я не просил), мотивируя это тем, что нам, мол, не хватает денег для ликвидации дачи в Сорренто. Деньги эти я взял, без расписки…
Признания ошеломляющие! Оказывается, Горький финансировался ОГПУ, еще живя в Италии. Это, по понятным причинам, держалось в глубокой тайне, скрывалось аж до наших дней и вот только теперь всплывает наружу. И как финансировался — деньги передавались без всякого оформления, из рук в руки. Тут есть о чем подумать.
Знал ли о щедрых подарках Лубянки сам Горький? Не мог не знать. Но тогда его сближение с Ягодой, увы, приобретает еще одну, весьма прозаическую краску.
Больше того, как выясняется из показаний Крючкова, Ягода снабжал деньгами не одного Горького, но и других членов его семьи:
— Несколько раз я получал от Ягоды денежные суммы в иностранной валюте для М. И. Будберг, также без расписок. Для той же Будберг Ягода в 1936-м передал Н. А. Пешковой, невестке Горького, и мне четыреста фунтов (просили триста). Наконец, в сентябре 1936-го Н. А. Пешкова мне сказала, что получила от Ягоды через его личного секретаря Буланова большую сумму в долларах. Рассказывая мне об этом, Пешкова со смущением заметила: «Зачем мне всучили такую большую сумму?».
— Чем объясняется такого рода щедрость Ягоды? — спросил следователь.
— Эта щедрость, конечно, не случайна. Это задаривание близких к Горькому людей находится в тесной связи с линией Ягоды, особенно обозначившейся начиная с 1931 года, — линией на монополизирование влияния в доме Горького в своих целях…
Крючков подробно расписывает это навязчивое влияние, которое доходило до того, что Горький после долгих и подробных рассказов Ягоды с возмущением говорил:
— Зачем он мне рассказывает такие вещи, о которых мне не нужно знать?
Степень доверительности тут была такой, что Ягода даже посвящал писателя в служебные секреты, видимо, считая его совсем своим. Поведал ему о похищении в Париже белогвардейского генерала Кутепова, организованном ОГПУ… Или втайне надеялся стать горьковским персонажем, предлагал себя в качестве героя?
Крючков на допросе называет двух женщин — очень близких Горькому.
Мария Игнатьевна Будберг, она же Закревская, она же Бенкендорф, она же в доме Горького Мура, Титка, неофициальная третья и последняя жена Горького. Очаровательница и авантюристка, имевшая среди своих мужей и любовников и таких знаменитостей, как классик шпионажа Локкарт и классик литературы Герберт Уэллс. Тайне Муры посвящена целая книга — «Железная женщина», автор, Нина Берберова, много сил кладет на то, чтобы разгадать эту тайну, — и все же капитулирует.
Предполагается, что Будберг была двойным агентом — английским и советским, предполагается, но не утверждается, ибо доказательства запрятаны глубоко, а возможно, и уничтожены.
Кроме денег, получаемых ею от Ягоды, есть еще одно косвенное свидетельство о причастности Будберг к нашим доблестным Органам. Следственное дело Крючкова открывается списком восьми «скомпрометированных» им лиц, и среди них не был арестован и уничтожен в застенках советских тюрем только один человек — она, Железная женщина, отмеченная в списке как «участница антисоветской организации правых». Правда, в 1938-м, когда шел процесс, она была уже далеко, в Лондоне, но ведь добраться туда для Органов — не проблема, можно и выманить к себе. Видно, ей на роду написано войти в историю этаким сфинксом в юбке.
Еще более глубокое проникновение в дом Горького пытался осуществить Ягода через невестку писателя, жену его сына Максима, мать его внучек. Но не просто расчет притягивал его к Надежде Пешковой, а истинная страсть: и ему хотелось быть любимым. А тут и красота, и обаяние, и необычайный шарм — это отмечали все, включая Ромена Роллана («молодая очень красива, весела, проста и прелестна»).
Осталось немало рассказов о назойливых и нескромных ухаживаниях вездесущего Генриха, ставивших объект его внимания в двусмысленное, неловкое положение. Так что, вольно или невольно, и она, Тимоша, как и все домочадцы Горького, входила в сферу влияния шефа ОГПУ, могла при случае в чем-то помочь ему, хотя бы информировать.
Был к тому же и многочисленный штат прислуги — повара, шоферы, библиотекари, садовники, уборщицы и прочие — на Малой Никитской и на обеих дачах, их тоже можно было завербовать или употребить для дела. Вовсе не обязательно люди эти являлись агентами Лубянки, многие помогали Органам искренне, добровольно, потому что были правоверно советскими или действовали, как они считали, из благих побуждений, в интересах Горького.
Прибавим сюда и самих чекистов, например Семена Григорьевича Фирина и Матвея Самойловича Погребинского[171], частенько навещавших писателя. Его глубоко волновала идея коммунистической перековки душ — эти двое стояли во главе исправительно-трудового воспитания заблудшей народной массы: первый руководил лагерями, второй ведал созданием специальных коммун для уголовников.
Так что Горький, навещая Россию и тем более окончательно перебравшись на родину в 1933-м, оказался в плотном кольце служителей Лубянки, вырваться из которого он уже не сможет. Даже снабжение писателя и его семьи было поручено управлению НКВД, тому же, которое отвечало за обеспечение Сталина и членов Политбюро, а дом Горького был связан прямым проводом с кабинетом Ягоды.
Это многослойное окружение все глуше отгораживало Горького от внешнего мира, реальной жизни. Но ведь и сам он не пытался разорвать его, принимая предложенную ему нишу без особого сопротивления. Тем более что кольцо это удобно и приятно камуфлировалось то под лавровый венок, то под юбилейный пирог.
Огромный штат осведомителей был у НКВД и среди братьев писателей. Я обнаружил донесения по меньшей мере четырех сексотов, зашифрованных кличками, — и все вхожи к Горькому, все работают не покладая рук. Да и шире литературное общение Горького было во многом несвободно, навязано ему.
— Я подвел к Горькому группу писателей: Авербаха, Киршона, Афиногенова, — рассказывает Ягода на следствии, — с ними же бывали Фирин и Погребинский. Это были мои люди, купленные денежными подачками, игравшие роль моих трубадуров не только у Горького, но и вообще в среде интеллигенции. Они культивировали обо мне представления как о крупном государственном муже, большом человеке, гуманисте. Их близость и влияние на Горького были организованы мной и служили моим личным целям.
О том же дал показания и Крючков:
— Эти люди представляли собой своеобразную агентуру Ягоды вокруг Горького. В задачу Авербаха, Киршона и Афиногенова помимо всего прочего входило всячески в глазах Горького превозносить Ягоду, рекламировать его роль в перековке людей, то есть в той области, которой Горький особенно интересовался. Ягода, в свою очередь, изо всех сил старается поднять удельный вес этой своей агентуры и протащить ее к руководству литературными организациями.
А вот как все это выглядит с точки зрения Леопольда Авербаха, из его показаний на следствии:
— Я и ряд моих товарищей часто бывали у Горького и были с ним крепко связаны. На деле мы вовлекали Горького в нашу групповую борьбу, причем именно Ягода посмеивался над тем, что мы, дескать, недостаточно вовлекаем Горького, не умеем использовать его отношение к нам, что мы зря в этом отношении церемонимся. Основной тон его размышлений, опять-таки типически характеризующий его, сводился к сентенции: в драке все средства хороши, отбросьте романтические морализирования и стеснения, опирайтесь на Горького как на силу, гнилая интеллигентщина, дескать…
Поначалу Горький недолюбливал Авербаха — этого крикливого, пронырливого, самоуверенного демагога, более способного к интригам, чем к творчеству. Плотный здоровяк, с круглой, бритой, похожей на бильярдный шар головой, с уверенным, хорошо поставленным голосом, всегда в бойцовской позиции, неистовый Леопольд даже внешне являл собой образец героя нового времени, комсомольского вожака, заводилу и застрельщика. Книгами своими Авербах похвастаться не мог, зато постоянно намекал на близость к партийной элите: мать его — сестра Якова Свердлова, жена — дочь Бонч-Бруевича, а сестра Ида — законная супруга Ягоды, самого шефа ОГПУ. А по всепроникающей паутине свердловских корней он добирался через Зиновия Пешкова, своего дядю, и до Горького — получалось и тому, хоть седьмая вода на киселе, а родня.
Будучи председателем Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП), Авербах претендовал на руководство всей литературой, будучи роднёй Ягоды, располагал хитрыми способами добиться этого. И оказывался порой даже сильнее самого Горького. Когда Алексей Максимович попытался защитить от рапповской травли Евгения Замятина, Михаила Булгакова и Бориса Пильняка, доказывая, что они не мешают истории делать свое дело, слова эти так и не были услышаны: напечатать статью писателя с мировым именем не удалось. Издательскую политику вершили ретиво-пробивные авербахи — не таких ли имел в виду Ленин, который, как известно, считал, что в нашем большом хозяйстве любой талантливый мерзавец пригодится.
Ягода сделал все, чтобы расположить Горького к своему шурину. Когда Горький жил в Москве, эти двое почти каждый выходной день заявлялись к нему. Авербах даже гостил несколько месяцев в Сорренто и сумел-таки втереться в доверие к Алексею Максимовичу.
В 1937 году в своем заявлении наркому внутренних дел Ежову арестованный Авербах признался:
«Я особенно торопил переезд Горького из Сорренто, и когда я ехал в Италию, Ягода именно с точки зрения своих расчетов просил меня систематически убеждать Алексея Максимовича в скорейшем полном отъезде из Италии».
Из Сорренто Авербах возвращался «радостный и гордый» — Горький уже готовил чемоданы к своему очередному советскому вояжу. И для себя его гость кое-что схлопотал: обеспечил смычку писателя с рапповцами. В Москве Авербах сразу помчался в ЦК докладывать, что Горький смотрит на РАПП как на проводника линии партии в литературе.
Но тут-то Авербах и просчитался, переусердствовал, забежал впереди телеги. У партии были свои планы, что делать с литературой. Прошло несколько месяцев, и в апреле 1932-го как снег на голову — постановление ЦК «О перестройке литературно-художественных организаций». И РАПП, которую еще вчера наша печать называла не иначе как ячейкой ЦК в литературе, а заграничная — сталинской дубинкой, ликвидировали, появился Оргкомитет во главе с Горьким, призванный покончить с групповщиной, объединить всех писателей в единый Союз советских писателей. Терять привилегии не хотелось — по испытанной большевистской привычке Авербах бросился было в драку и тем самым еще больше себе навредил, навлек на себя гнев самого Хозяина. Сталин, собрав всех этих передравшихся писателей, устроил ему публичную трепку, после чего наш забияка, конечно, присмирел.
В том же году прогремел очередной праздник в честь Горького, обставленный с неприличной помпезностью. Повод — сорок лет творческой деятельности. Пользуясь именем писателя как государственной собственностью, Сталин распорядился засеять им всю страну. Имя Горького получил Литературный институт, Центральный парк культуры и отдыха и Тверская улица в Москве, десятки улиц в других городах и весях, Нижний Новгород вместе с областью, сотни фабрик и колхозов, библиотек и школ, Ленинградский Большой драматический театр и Московский Художественный…
— Товарищ Сталин, но это же больше театр Чехова, — робко заметил один из литературных функционеров, Иван Гронский.
— Не имеет значения. Горький — честолюбивый человек. Надо привязать его к партии канатами…
Так по образу и подобию сталинского культа создавался культ Горького в литературе, давящий и губительный.
26 Октября 1932 года в доме на Малой Никитской состоялась знаменательная встреча, которая вошла в историю и определила литературную политику на много лет вперед — вплоть до самой горбачевской перестройки. Об этой встрече писалось по-разному: каждый участник трактовал ее по-своему и, как правило, тенденциозно, исходя из собственных интересов, но лишь так, как в тот момент разрешалось сказать.
Взглянем и мы на эту встречу — теперь материалы, которые были спрятаны в секретных архивах, позволяют более объективно представить, что здесь произошло.
Вот я стою в дверях просторной столовой горьковского Дома-музея. Справа — рояль, и на нем фотография, с которой смотрят чудесные, счастливые лица — невестка Алексея Максимовича и его маленькие внучки Марфа и Дарья. Длинный стол уходит от двери к широкому причудливому окну. Книги, портреты. Экспозиция. Шуршат войлочными тапками редкие посетители…
В осенний вечер 1932-го здесь все выглядело иначе. Исчезает фотография с прекрасными лицами. Тимоша с детьми, наверно, где-то наверху, укладывает их в постель. Столы — по всей комнате, в белых скатертях, ломятся от выпивки и закусок. Окно плотно задернуто шторой. Сияет люстра.
Столовая переполнена. На почетных местах — кремлевские вожди: Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович. Впрочем, они совсем не выглядят вождями — просты, доступны, острят, с удовольствием едят и пьют. Вокруг и вперемежку — писатели, с полсотни человек, — эти более сдержанны, насторожены. Нет здесь ни Ахматовой, ни Мандельштама, нет Пастернака и Платонова, нет Булгакова и Бабеля, Андрея Белого, Николая Клюева, Бориса Пильняка — тех, кого сегодня мы считаем гордостью и славой нашей литературы. Зато много просто талантливых, «хороших и разных», но только «своих». И еще больше — функционеров и деятелей от литературы.
Не будем слушать все речи и спичи, прозвучавшие здесь, — многое теперь покажется не столь уж интересным и очень далеким от творчества. Сначала решали организационный вопрос: кому и как руководить литературой, мирили рапповцев и оргкомитетчиков. Другая проблема была посложней — ведь мало собрать писателей в единое стадо, надо задать им направление, руководящую идею, указать не только как жить, но и как писать. Нужен основополагающий принцип, метод работы. О пресловутой свободе творчества не упоминалось — ее, как несуществующую, оставили врагам социализма. Устами мудрого Сталина была предложена своя, самая передовая, невиданная теория — соцреализм.
Будем справедливы, Сталин — не единственный творец этой единственно правильной теории. Тут, как в бессмертной гоголевской пьесе, надо еще поискать, кто первым сказал «Э!».
Горький, например, тоже немало потрудился в поисках руководящего принципа для писателей, единой главной линии, чтобы идти в будущее не поодиночке и порознь, а стройными рядами и в ногу, четко выполняя команду, не сбиваясь с пути. Еще раньше, на другой писательской встрече, Алексей Максимович предлагал:
— Не следует ли нам объединить реализм и романтизм в нечто третье, способное изображать героическую современность более яркими красками, говорить о ней более высоким и достойным тоном?
Но и он не был тут первооткрывателем. Размышляя над феноменом Ленина, Горький заметил, что правота того была не только в силе разума и несокрушимой теории, но и в чем-то еще… «Это еще, — думал Алексей Максимович, — есть высота точки наблюдения, а она возможна только при наличии редкого умения смотреть на настоящее из будущего… Эта высота, это умение и должны послужить основой того „социалистического реализма“, о котором у нас начинают говорить».
Проросли зерна, брошенные Ильичем!
Вот эту идею теперь и подхватил Сталин, его верный продолжатель. Именно так. Изображать жизнь не такой, какая она есть, а такой, какой она должна быть. Жить в настоящем, а смотреть из будущего! Не напоминает ли это изобретение другую гениальную идею — скрестить помидор с картошкой, чтоб и стебли, и корни давали плоды?
Вряд ли кто-нибудь когда-нибудь понимал на самом деле, что это за штука такая — соцреализм. Недаром советские литературоведы посвятили его толкованию целую библиотеку. Участник встречи в горьковской столовой Иван Гронский предлагал Сталину назвать новый метод литературы и искусства пролетарским социалистическим, а еще лучше — коммунистическим реализмом, но тот выбрал — социалистический. На одном из собраний художников в то время Гронского атаковали вопросами:
— Скажите хотя бы что-нибудь о социалистическом реализме.
Гронский ответил кратко:
— Соцреализм — это Рембрандт, Рубенс и Репин, постав ленные на службу рабочему классу, — и пошел дальше.
И пошли дальше. Рассказывают, что Михаил Шолохов как-то, уже в хрущевские времена, поехал в Болгарию. Там его спросили: что такое соцреализм, классиком которого он является. Подвыпивший Шолохов ответил так:
— Был у меня друг, Сашка Фадеев. Я его часто спрашивал: Сашк, а что такое соцреализм? И знаете, что он отвечал? А черт его знает, Миша!
Так до сих пор никто и не выяснил, что это за овощ и с чем его едят.
Но вернемся в горьковский дом. Застолье там уже в самом разгаре. Полилась водка, вспыхнул смех, и вот писатели осмелели, забалагурили, задвигались, перемешались с вождями. Фадеев уговаривает Шолохова спеть, Малышкин лезет чокнуться с товарищем Сталиным.
— Выпьем за товарища Сталина! — трубит поэт Владимир Луговской.
И тут происходит нечто ужасное. Сидящий против Сталина прозаик Никифоров, которому Иосиф Виссарионович щедро подливал, вдруг вскакивает и, окончательно расхрабрившись, кричит:
— Надоело! Миллион сто сорок семь тысяч раз пили за здоровье товарища Сталина! Небось это даже ему надоело…
Притихли. Поднимается и Сталин. Протягивает руку своему визави и пожимает кончики пальцев:
— Спасибо, Никифоров, правильно. Надоело это уже.
Загудели, как улей.
И чем уж совсем покорил Сталин писателей в тот вечер — он назвал их инженерами человеческих душ, добавив, что производство душ важнее производства танков. Пытался было что-то возразить военный нарком Клим Ворошилов, но был посажен на место: да, важнее танков! Воодушевленные и гордые от сознания своей значительности, разошлись писатели по домам.
Так под литературу был подведен жесткий идеологический каркас, сковавший ее на много лет вперед. А на широко разрекламированном Первом съезде советских писателей, собственно, только довели до сведения общества то, что уже давно решили и продумали до мелочей в кабинете Сталина и горьковской столовой, выдав это за чаяния самих инженеров человеческих душ.
Пройдет только несколько лет, и каждый четвертый из участников памятной встречи у Горького окажется в тюрьме, многие будут расстреляны и, конечно, наивно-неосторожный Никифоров.
О закулисных манипуляциях в литературной среде много и подробно рассказывали и Крючков, и Авербах, когда попали за решетку. Из их показаний встает перед нами многоликий собирательный образ шефа НКВД, умевшего, оставаясь в тени, направлять события. Работая над горьковскими бумагами, я часто повторял про себя: ищешь Горького — найдешь Ягоду! — таким вездесущим он оказывался. И понятно, что именно из сверхзасекреченных архивов Лубянки впервые выходит на свет так обнаженно и с такими подробностями эта историческая фигура — советский Фуше.
Крючков сообщал, что Ягода изо всех сил пытался сделать Авербаха генеральным секретарем Союза писателей, при председателе Союза Горьком, добиваясь согласия последнего, даже снабжал его тенденциозно составленными сводками ГПУ. В тех же целях — поставить своего человека во главе литературы — Ягода в 1933-м дал указание Авербаху написать письмо Сталину.
— Особую активность начинает проявлять агентура Ягоды в связи со съездом писателей, — говорит Крючков. — В результате Горький в письме к Сталину снова выдвигает Авербаха в руководство Союза писателей. Ягода проявляет к этому особый интерес, неоднократно расспрашивает меня, есть ли ответ от Сталина…
След с Лубянки ведет прямо в архив Сталина — там надо искать разгадку многих тайн не только нашей истории, но и литературного процесса.
Целое исследование о происках и личности Ягоды написал на следствии Авербах в своих собственноручных показаниях, выдержанных в присущем ему демагогическом стиле. Еще вчера подобострастно выслуживавшийся перед своим высокопоставленным родственником, спекулирующий близостью к нему, Авербах теперь всячески очерняет его, пытаясь этим обелить себя:
Я по-новому вижу теперь Ягоду. Я понимаю теперь, что за его отношением к Горькому, например, скрывалась отнюдь не любовь к старику, не старая привязанность к нему, не естественная тяга к тому гигантскому внутреннему обогащению, которое давало общение с Горьким. Связь с Горьким нужна была ему как суррогат отсутствующей у него связи с советской общественностью, как возмещение отсутствия у него корней в рабочем классе и в партии.
Меня всегда несколько удивляло и неприятно поражало, с каким волнением расспрашивал Ягода, не было ли у меня в разговоре с Горьким чего-нибудь касающегося его, Ягоды, как отзывался о нем Горький. Я объяснял это кругом явлений, относящихся к дружбе Ягоды с Тимошей. Но мне ясно теперь, что за этим скрывалась просто боязнь того, что Горький, мудрейший знаток человеческой души, поймет и раскроет его душонку, почувствует его внутреннюю гниль и растленность…
Ягода не разбирался в существе литературных вопросов. Да он явно и не ставил перед собой этой задачи. Читал он крайне мало и о ряде имен и произведений знал только понаслышке. Всех основных литературных знакомых Ягоды (кроме, конечно, Горького) ввел к нему я… В разговорах с Горьким мы говорили о том, что Ягода — не политик, что он хозяйственник, организатор, администратор, честно проводящий линию партии, но, несмотря на свое место руководящего чекиста, никак не участвующий в ее выработке.
Ягода говорил со мной, посвящая меня в свои планы так откровенно, не только потому, что я его родственник. Нет, в заговорщической деятельности Ягоды я выполнял роль орудия в его планах на Горького, в ряде случаев выполнял роль политического советника…
Меня особенно поразило, что Ягода со смешком относится к сути дела, он все сводит к личным взаимоотношениям, случайным мелочам… Но теперь для меня ясно, что это важнейшая черта, характеризующая его вообще, неизбежно рожденная его провокаторским прошлым. Он никогда не вел разговоров на политические темы, он всегда посмеивался надо мной за то, что я, дескать, всюду ищу какие-то принципы и теории. В облике Ягоды главным было грязное принижение всего, подлое, циничное отношение к людям, местечковое комбинаторство, попытки во всем и вся найти что-то низменное и из него исходить…
Политика и власть требуют суровости и жестокости. Они не мирятся со щепетильностью в выборе средств, в желании прожить в белых перчатках, с брезгливостью — и вот расшифровка: программа, теория, массы — только мишура, игра, пыль в глаза. В лучшем случае у искренних, а потому, с точки зрения Ягоды, дополнительно глупых, — романтические бредни. Реальная политика — борьба за власть во имя личного самоустроения. Ее высший закон — умение ставить одновременно на разные силы, жить их столкновениями, перестраховываться. Тактическая мудрость — в беспринципном комбинаторстве и ловком маневрировании, основанном на принципе «главное — не стесняться». Это не новый вариант Николо Макиавелли или Игнасио Лойолы. Это местечковый меняла, вдруг почувствовавший себя на международной бирже в кресле Ротшильда.
Люди делятся на своих и не своих. Задача заключается в наличии большого кадра своих людей, своих — значит, лично преданных, то есть чем-то обязанных, поставленных в такое положение, что им опасно перестать быть своими, то есть чего-то боящихся, то есть привязанных на чем-то низменном и грязном. О своих людях Ягода всегда говорил с омерзительным цинизмом. Поражало, что он радовался всему, что выяснялось плохого о ком-либо. К каждому надо, конечно, найти ключ, но лучше и прочнее всего, если этот ключ — от кармана… Свято одно — удачная интрига. Что там борьба классов — вот, дескать, за ней найти борьбу интриг и эти интриги учесть и перекрыть! Всех надуть — высшее достижение.
Неплохой портрет — даже с литературной точки зрения!
Мне стало ясно, — продолжает Авербах, — что за отношением Ягоды к Горькому скрывается определенная политическая игра, находящаяся в связи с его постоянной боязнью за отношение к нему партруководства. Горький был нужен Ягоде как орудие в игре, как надежда на помощь, как, в случае разоблачения, прикрытие. Здесь были расчеты на то, что воспоминания о давнем знакомстве с Горьким могли рассматриваться всеми как свидетельство его революционного стажа. Он стремился быть своим человеком у Горького для того, чтобы свою собственную внутреннюю безыдейность и интеллектуальную скудность прикрыть авторитетом дружбы с Горьким. А главное, Ягода стремился к тому, чтобы встречаться у него с членами Политбюро, чтобы через Горького воздействовать на оценку его, Ягоды, членами Политбюро…
Этот особый интерес лубянского начальника подчеркивает в своих показаниях и Крючков:
Другая сторона линии Ягоды в доме Горького заключалась в стремлении быть постоянно в курсе того, о чем говорят члены Политбюро, бывающие у Горького. Проще говоря, Ягода в своих целях практиковал внутреннюю слежку за членами Политбюро.
Обычно он на эти встречи не приглашался. Роль такого рода информаторов Ягоды играли, в частности, я и Тимоша. Как правило, каждый раз, как только члены Политбюро уезжали от Горького, Ягода в тот же день или на следующий приезжал или звонил мне по телефону, спрашивая: «Были? Уехали? О чем говорили? За ужином говорили? О нас говорили? Что именно?» — и т. д. На эти расспросы я обычно рассказывал ему то, что мне становилось известным либо от личного присутствия при этих разговорах, либо от Горького.
В тех случаях, когда мне лично приходилось по поручениям Горького бывать у Сталина, Ягода расспрашивал, а я рассказывал о характере поручений и содержании разговора. Так было, в частности, в 1931–1933 годах, когда я с письмами Горького из-за границы бывал у Сталина. Ягода расспрашивал меня о содержании этих писем.
И снова — сообщение о каких-то неведомых письмах, и опять след уводит в тот же архив Сталина.
А вот письмо Горького к Авербаху хранилось в деле последнего, пока его не прибрал к рукам архив ЦК КПСС. Осталась ссылка на это и изложение письма в виде справки — из нее видно, что в результате пронырливой активности Ягоды и активной пронырливости Авербаха Горький уже возложил на неистового Леопольда исполнительную власть в литературе, оставив себе роль законодателя. Он советует и указывает из своего Сорренто, кого из писателей следует печатать, каковы должны быть литературные герои и общее направление в литературе.
«Будите людей, поднимайте на дыбы. Пишите, читайте, это Ваше дело».
Если бы Авербах только, как советовал Горький, будил людей, поднимал на дыбы, писал и читал! В том-то и дело, что интересы литературы и интересы политики сплелись в один неразрывный клубок, разделить их было нельзя. Все смешались, кружились в этом бесовском танце — Горький и Сталин, Авербах и Ягода, Киршон — Афиногенов, Фирин — Погребинский…
И если Авербах поднимал людей на дыбы, то Ягода — на дыбу.
А дыба эта в творчестве заплечных дел мастеров принимала различные формы — тут и тюрьма, и концлагеря, и каторжные стройки, и расстрелы.
«Горький неимоверно высоко ценил работу НКВД с преступниками и отзывался о ней с нежным восхищением, со слезами радости, — показывал на следствии Авербах. — У него было чувство горячей и какой-то просто личной благодарности к тем, кто ведет эту работу. Я думаю, что в его отношении к Ягоде громадную роль сыграло то, что эта работа связывалась у него с именем Ягоды».
Возможно, близость Горького к карательным органам располагала к ним и зарубежных наблюдателей советской жизни. Доверие к писателю, мировой авторитет невольно распространялись и на его окружение.
«Полицейским идеализмом» Ягоды чуть было не увлекся и Ромен Роллан во время своего посещения Горького в 1935 году. Он, правда, оказался все же трезвее своего друга и оставил за собой право на сомнение, право на защиту безвинных жертв.
Каким увидел шефа НКВД Ромен Роллан?
«У страшного Ягоды — тонкие черты лица, и выглядит он уставшим, но изысканным и еще молодым человеком, несмотря на седину довольно редких волос (он напоминает мне Моруа, но более утонченного); темно-коричневая форма прекрасно сидит на нем; говорит он спокойно и вообще весь — олицетворение мягкости».
Завязался разговор. Ягода возмущен тем, что в советском праве нет идеи мщения, хвастается заботой о гигиене заключенных. Роллана удивляет, что при этом его собеседника совершенно не волнуют страдания, человеческие чувства. И в то же время он вызывает симпатию, хочется ему верить.
«Но снова сомнения: Ягода убеждает, что в Советском Союзе нет цензуры писем и что вообще режим слишком мягок. Неужели он считает всех такими наивными простаками? Как будто мы не знаем, что письма и к нам от здешних друзей, и от нас к ним проверяются и приходят распечатанными, с рассчитанным на дураков штемпелем: „Извлечено из почтового ящика в поврежденном виде“! Даже полиция Фуше работала аккуратней, хоть не перепутывала письма, рассовывая их обратно по конвертам, — а мы получали и такие».
«Но даже зная все это, — запишет после беседы в своем дневнике Роллан, — испытываешь чувство вины за свои сомнения, глядя в честные и кроткие глаза Ягоды».
Господи, французскому гуманисту, с его представлениями о человеческом достоинстве, даже в голову прийти не может, с кем он разговаривает, кто перед ним сидит!
Ягода продолжает рассказ о своей кипучей деятельности на ниве перевоспитания преступников, — глаза загораются огнем, в голосе — сдержанное волнение. Загадочная личность, изучает его Роллан, что за контрасты! Безжалостный командир НКВД — и полный благости святой в миру…
— Лет через десять-двадцать преступников у нас не будет! — обещает Ягода.
Какие иллюзии! — удивляется Роллан. Как может политик такого ранга впадать в сентиментальный оптимизм в духе Жан-Жака Руссо? Нет, будущее наверняка обманет надежды этого фанатика.
И кому верить в этой стране? Вот Екатерина Павловна Пешкова ненавидит Ягоду, сурово осуждает его. То, что она рассказывает о положении в стране, совершенно противоречит тому, что говорит Ягода. Она уже отчаялась… А другие уверяют, что Генрих — добрый человек, с больным сердцем, ему можно только посочувствовать — надорвался, бедняга, на неблагодарной работе, столько взвалил на плечи…
Так они сидят и мирно беседуют, два идеалиста, — и заблуждаются оба, потому что один думает о людях лучше, а другой хуже, чем они есть. Посланцы разных цивилизаций — сидят и беседуют — и никогда не поймут друг друга.
Вот с каким прекраснодушием заглядывал Горький в будущее: «Лет этак через пятьдесят, когда жизнь несколько остынет и людям конца 20-го столетия первая половина его покажется великолепной трагедией, эпосом пролетариата, — вероятно, тогда будет достойно освещена искусством, а также историей удивительная культурная работа рядовых чекистов в лагерях». Да уж, как в воду глядел: через пятьдесят лет, в пору перестройки и гласности, мы смогли-таки постичь нашу трагедию во всем ее великолепии и воздать должное удивительной работе чекистов!
Сегодня мы можем сказать определенно: это выдумки или заблуждение, что Горький сопротивлялся насилию и что стал бы помехой в 1937 году, за что-де Сталин его и убрал. Желание спасти репутацию писателя, приукрасить историю понятно, но, увы, обречено. Хотелось бы верить, но факты говорят о другом. Горький — вторая по значению фигура в стране — не протестовал против небывалого в истории закона, по которому правительство объявило равную со взрослыми кару, вплоть до смертной казни, детям от двенадцати лет, даже за воровство. Он «не заметил» ареста поэтов Николая Клюева и Осипа Мандельштама и еще в 1929-м, съездив на Соловки, выразил восторг от первого советского концлагеря. Уже тогда он предал свой народ, благословил тиранию.
Побывав на каторжном строительстве Беломорканала, Горький обнимал Ягоду и проливал слезы от умиления:
— Вы сами не понимаете, черти драповые, что вы делаете!
Понимали, еще как понимали. И посмеивались, должно быть, над чувствительным стариком.
Если бы провести конкурс на самую позорную и лживую книгу в истории, то на первый приз вполне может претендовать «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина». Это под редакцией Горького и по указке НКВД советские писатели, целой ватагой, выполняли социальный заказ и с воодушевлением, с подъемом писали апологию рабского труда.
Это Горький, когда под предлогом борьбы с кулаками уничтожали крестьянство, кормильца России, дал властям страшный лозунг: «Если враг не сдается — его уничтожают» («Правда», 15 ноября 1930 года). Каким эхом отзовется горьковский призыв по всем тюрьмам и лагерям, сколько зэков услышит его из уст палачей!
«Отчеты о процессе подлецов читаю и задыхаюсь от бешенства», — писал он о фальсифицированном, постыдном суде над технической интеллигенцией, Промпартией.
Это он в 1931-м соглашался с судом над меньшевиками, среди которых были и его прежние друзья, называл их преступниками и вредителями и добавлял, что не все еще выловлены и надо еще ловить.
«Как великолепно развертывается Сталин!» — восклицает он в письме Халатову, главе Госиздата[172]. А через год уже называет партийного вождя «Хозяином» — не с подачи ли Горького это слово закрепится за Сталиным в советском словаре? Не случайно же оно замелькало в это время под пером писателя! «Надо разъяснить всем литераторам-коммунистам, — пишет Горький Кагановичу 15 августа 1934-го, — что хозяином в литературе, как и в других областях, является только ЦК и что они обязаны подчиняться последнему беспрекословно». А что есть ЦК, как не Сталин?
Это Горький позднее, после убийства Кирова, когда без суда и следствия по приговору троек расстреливали мнимых шпионов и диверсантов, призывал: «Нужно истреблять врага безжалостно и беспощадно, нимало не обращая внимания на стоны и вздохи профессиональных гуманистов!» («Правда», 2 января 1935 года).
Трудно сказать, когда в точности произошло с Горьким такое перевоплощение: он стал не только жертвой, но орудием Сталина и НКВД в духовном закабалении страны. А это трагедия не только его, большого художника, но и всей обольстившейся социализмом России.
Это и есть настоящая история болезни Горького, которая, конечно, ускорила и физическую смерть. Не предчувствие ли такого конца диктовало ему еще в 1914 году отчаянные строки:
Предсмертие.
В мае 1934-го Горького постигло страшное горе. Внезапно, проболев всего несколько дней, умер его сын Максим.
Событие это до сих пор окутано тайной. В естественную смерть Максима мало кто поверил. Молодой и здоровый, спортивный, полный энергии человек, талантливый художник и заядлый автомобилист, Максим увлекался воздухоплаванием, строил планы о полярных путешествиях и уже успел побывать в Арктике. Правда, вот выпивал, но на Руси это заурядная привычка. И вдруг — погиб, в одночасье, от обычной простуды.
«Захворал папа, простудился на аэродроме, лежит, кашляет», — пишет Горький внучкам, бывшим в то время в Крыму. «Простудился на рыбной ловле», — вспоминает Тимоша. «После выпивки я вывел Макса в сад и оставил на скамейке», — признается Крючков.
Таковы противоречивые сообщения домочадцев.
Властями смерть Максима была квалифицирована как злонамеренное убийство. Но это не сразу, позднее, когда в 1938-м окажутся на скамье подсудимых участники так называемого «правотроцкистского блока» и среди них Ягода и Крючков, когда уже не будет в живых и самого великого писателя и смерть сына и отца свяжут в один узел коварного заговора. Тогда убийство Максима будет рассматриваться как удар, направленный в его отца: через устранение горячо любимого сына подорвать здоровье Горького, морально сразить его, вселить апатию к общественной деятельности, ускорить смерть. А зачем надо было убивать Горького? Он — помеха для задуманного государственного переворота, потому что до конца будет с партией, Сталиным, и никаким другим путем его не вырвать из-под влияния вождя.
Убить Максима задумал Ягода. По этой версии, он создал целую преступную группу в составе Крючкова и докторов — домашнего врача горьковской семьи Левина, профессора Плетнева, доктора Виноградова[173] — из санчасти НКВД. В деле Крючкова на сей счет говорится подробнейшим образом.
— Какие интересы преследовали при этом вы? — спросил Крючкова следователь.
— Я лично был заинтересован в устранении Максима как наследника Горького. Ягода это хорошо знал и эту мою заинтересованность использовал. Дело в том, что в 1918 году мне удалось пристроиться к Горькому, втереться к нему в доверие, стать его личным секретарем. На протяжении всех лет я пользовался полным его доверием и являлся полновластным хозяином в его доме, во всех его литературных, издательских делах, бесконтрольно распоряжался всеми его средствами.
У меня возникла мысль убрать Максима Пешкова, с тем чтобы остаться монопольным хозяином, распорядителем значительного литературного наследства Горького, дававшего незаурядный доход. Таким образом, предложение Ягоды об устранении Максима полностью совпало с моими личными интересами, и я его без долгих колебаний принял.
Ягода в беседах со мной намекал, что ему известны мои стяжательские махинации со средствами Горького: «Петр Петрович, я буду с вами откровенен. Я понимаю, что означает для вас ваша роль, ваше положение в доме Горького. А я вас могу в два счета от Горького отстранить. Больше того, ваша судьба целиком в моих руках. Имейте в виду, что первый нелояльный ваш шаг по отношению ко мне повлечет за собой более чем неприятные последствия».
Получение задания, по протоколу допроса, выглядит так:
— Надо устранить Горького, — говорит Ягода.
— Но как это сделать? — Крючков.
— Вы ведь знаете, как сильно Алексей Максимович любит своего сына. Если Макса не станет, это настолько надломит Горького, что он превратится в безобидного старика.
— Что же вы предлагаете мне — убить Макса?
— Это же в ваших интересах. Если Макс останется наследником, вы останетесь у разбитого корыта. Доктор Виноградов говорит, что на Макса плохо действует алкоголь и что этого само по себе достаточно, чтобы подорвать его здоровье и ускорить развязку. Вот и подумайте. А о других действиях позаботится Виноградов. Он лечащий врач Макса, хорошо его знает…
И Крючков приступил к делу. Выражалось это в том, что он усиленно подливал Максиму, оставляя его пьяным на сквозняке. Был создан культ коньяка «Нарзак» (смесь коньяка с нарзаном), которым и удалось подорвать здоровье сына Горького. Но все это еще не опасно для жизни.
Тогда Ягода предлагает:
— А вы сделайте так, чтобы он пьяным полежал на снегу.
Сказано — сделано. Первое покушение предпринято в марте. И что же? Легкий насморк. А Ягода торопит.
Еще одна попытка — в конце апреля опьяненный Максим оставлен спать при открытом окне. Снова неудача. И вот наконец покушение удалось. «2 мая, после выпивки, я вывел Макса в сад и оставил спать на скамейке». В результате — температура, головная боль, Максим слег. «Дальнейшее лечение было фактически актом убийства, совершенного Левиным, а затем привлеченным к лечению Виноградовым».
Между тем Левин определил у больного только легкий грипп. И вот появился Виноградов.
— По своему обыкновению, он привез с собою все необходимые лекарства из санчасти НКВД, — продолжает рассказ Крючков. — Вопреки возражениям Чертковой Виноградов из своей аптечки дал принять Максу какую-то микстуру, несмотря на то что такая микстура, по заявлению Чертковой, была в аптечке дома Горького. В результате ее действия положение Макса еще больше ухудшилось, он совершенно ослаб и уже не мог подняться с постели.
Жена Пешкова и сам Алексей Максимович стали настаивать на созыве консилиума. Этому, однако, очень рьяно сопротивлялись Левин и Виноградов, заявляя, что они ждут резкого улучшения состояния здоровья Макса, что ничего опасного в этом заболевании нет. Около кровати больного развертывается своеобразная борьба между Виноградовым и Чертковой. Виноградов пытается давать лекарства, привезенные им, а Черткова настаивает на том, чтобы эти лекарства давались из аптечки Горького. Я не знаю, подозревала ли что-нибудь Черткова, но она очень энергично отстаивала право давать лекарства лично. По крайней мере, я вспоминаю замечание Виноградова, сказанное вслед уходившей из комнаты Чертковой: «Нельзя ли как-нибудь отвязаться от этой старухи?».
Несмотря на все старания Виноградова обострить болезнь, положение Макса стало заметно улучшаться. Помню, когда я об этом сообщил Ягоде, последний сказал: «Вот сапожники, скольких уже залечили, а тут с чепухой никак не справятся». Как мне стало известно, Ягода после этого говорил с Виноградовым. Последний затем сказал мне, что надо найти возможность или предлог дать больному выпить шампанского. При этом Виноградов сказал: «Мне Генрих Григорьевич говорил, что вы знаете все и должны мне помочь в этом. Я рассчитываю, — продолжал Виноградов, — что в результате шампанского у больного неизбежно появится расстройство желудка, а тогда будет простым предлогом дать ему слабительное. Это его доконает».
Это мною было выполнено. Через несколько часов Макс стал жаловаться на боль в желудке. Виноградов немедленно дал больному слабительное. Выйдя из комнаты, Виноградов заявил мне: «Ну, теперь можно считать, что наша задача решена. Это очень опасная вещь, и даже неспециалисту ясно, что при такой температуре давать слабительное — значит убить человека. Смотрите не проговоритесь!».
Состояние Макса после этого эпизода резко ухудшилось. Он впал в беспамятство, стал бредить. 11-го числа Максим Пешков скончался…
Все это было похоже на дурной детектив. Явная липа — так и я думал вначале. И написал уже эту главу, решив, что убийство Максима — фальсификация. Тем более что главный убийца, доктор Виноградов, арестован не был и даже проходил на процессе как эксперт, член медицинской комиссии, созданной специально для подкрепления ложного приговора. Не может же быть, чтобы убийца, разоблаченный на следствии, остался цел и невредим и даже сам фигурировал как разоблачитель.
Но что-то тревожило смутно, заставляло вновь и вновь возвращаться к этой смерти, ворошить все новые материалы. Помог Роберт Конквест. В книге «Большой террор», описывая дело правотроцкистского блока, он тоже упоминает эксперта — профессора В. Н. Виноградова[174]… Стоп! А как зовут врача, залечившего Максима Пешкова? А. И. Виноградов. Это же совсем другой человек! А что с ним стало? Вся история смерти Максима предстала совершенно иначе.
Да, все это было бы похоже на дурной детектив, если бы не один непреложный и серьезный факт: перед самым процессом доктор А. И. Виноградов умер при невыясненных обстоятельствах в руках органов безопасности. Следствие в отношении его было прекращено за смертью обвиняемого. Еще одна загадочная гибель. Сделал свое дело — и был убран? Не спрятали ли правду о смерти Максима в могилу Виноградова?
Биографы Горького мало обращали внимания на этот факт. На процессе А. И. Виноградов был отодвинут за кулисы, возможно, путался в сознании с однофамильцем — другим врачом, профессором В. Н. Виноградовым, участником медицинской экспертизы. Но главное, конечно, — не было в руках документов следствия, таких, как дело Крючкова. Теперь они перед нами, и загадка смерти Максима стала проясняться.
Судьба, подобная той, что постигла А. И. Виноградова, была не единственной — в то же время умер начальник Лечсанупра Кремля Ходоровский, тоже находясь под следствием, тоже по неведомой причине. Не слишком ли много случайностей?
Осужденный на том же процессе известный революционер Христиан Раковский произнесет в тюрьме вещие слова (их передал впоследствии один из допрошенных сотрудников НКВД):
— Я напишу заявление с описанием всех тайн мадридского двора — советского следствия… Пусть хоть народ, через чьи руки проходят всякие заявления, знает… Пусть я скоро умру, пусть я труп, но помните… когда-то и трупы заговорят…
Трупы заговорили.
8 Марта 1938 года. Октябрьский зал Дома союзов переполнен. Что же не празднично? Нет, Международный женский день отмечают не здесь, здесь судят «банду палачей и предателей».
На скамье подсудимых — двадцать один человек, среди них люди, известные всей стране: Бухарин, Рыков, Раковский, Ягода. Присутствовавшие в зале иностранные наблюдатели уверяют, что за происходящим спектаклем наблюдал и главный режиссер — Сталин, сидевший в особом помещении на хорах, за окном, — был момент, когда переключали свет и многие ясно увидели его.
На прокурорском месте — Вышинский и на подхвате у него — Лев Шейнин[175], следователь по особо важным делам, по совместительству — писатель, новой формации, сталинской выпечки.
Утреннее заседание. Допрашивают Ягоду. Выглядит он совсем по-другому, чем когда был у власти, — поседел, сгорбился, осунулся, мрачен. Подтверждает вину за организованные им убийства — Куйбышева, Горького. На вопрос о Максиме Пешкове отрезает:
— Макса Пешкова я не умерщвлял.
Вышинский зачитывает показания Ягоды на предварительном следствии.
— Вы это показывали, обвиняемый Ягода?
— Показывал, но это неверно.
— Почему вы это показывали, если это неверно?
— Не знаю почему…
— Почему вы врали на предварительном следствии?
— Я вам сказал. Разрешите на этот вопрос не ответить.
Фразу эту Ягода произнес с такой яростью, что, по словам американского наблюдателя на процессе, все затаили дыхание.
В допрос вмешался председатель суда Ульрих, но Ягода, повернувшись к нему, злобно сказал (эта фраза не вошла потом в официальный отчет):
— Вы на меня можете давить, но не заходите слишком далеко. Я скажу все, что хочу сказать… Но… слишком далеко не заходите…
Эта сцена потрясла зал. Сталину, если он действительно за всем наблюдал, вероятно, показалось: вот-вот и весь замысел лопнет, спектакль провалится.
Заседание возобновилось вечером. Ягода выглядел уже окончательно сломленным, отчаявшимся, упавший голос был еле слышен. Следователи хорошо подготовили его к новому акту спектакля.
Вначале секретарь Ягоды Буланов[176] описал специальную лабораторию ядов, созданную и лично контролируемую его начальником. По его словам, Ягода «исключительно» интересовался ядами. Тут самое время вспомнить и об этой стороне деятельности нашего многоликого Яго. Сын аптекаря, с детства знакомый с химией и сам до революции начинавший как фармацевт, он экспериментировал в НКВД, надо думать, не для теории. Яды применялись Органами широко и повсеместно, за границей и дома. И как знать, не случись революции, может быть, Россия имела бы еще одного отличного аптекаря?
— Подсудимый Буланов, а умерщвление Максима Пешкова — это тоже дело рук Ягоды? — спросил Вышинский.
— Конечно.
— Подсудимый Ягода, что вы скажете на это?
Ягода выдавил, еле шевеля губами:
— Признавая свое участие в болезни Пешкова, я ходатайствую перед судом весь этот вопрос перенести на закрытое заседание…
Потом он вытащил бумажку и стал зачитывать свои показания, медленно, запинаясь, как если бы видел текст впервые. Дойдя до «медицинских убийств», снова признал только свое «участие в заболевании Макса» и вновь попросил дать объяснения на закрытом заседании.
Дважды еще возвращался к этому Вышинский, пытаясь выжать у Ягоды признание, — с тем же успехом.
— Признаете вы себя виновным или нет? — почти кричал прокурор, теряя терпение.
— Разрешите на этот вопрос не ответить.
Так и не удалось вырвать у подсудимого «да» в этот день. И когда Вышинский перечислял все совершенные Ягодой убийства — Кирова, Куйбышева, Менжинского, Горького, — а тот подтвердил их все, Максима Пешкова в этом ряду не было.
На заседании при закрытых дверях Ягода, как объявили, «полностью признал организованное им умерщвление товарища Максима Алексеевича Пешкова, сообщив при этом, что преследовал этим убийством и личные цели…».
В обвинительном заключении Вышинский торжествующе раскрывал технологию убийства:
— Ягода выдвигает свою хитроумную мысль: добиться смерти, как он говорит, от болезни, или как он здесь на суде сказал: «Я признаю себя виновным в заболевании Максима Пешкова». Это, между прочим, не так парадоксально, как может казаться на первый взгляд. Подготовить такую обстановку, при которой бы слабый и расшатанный организм заболел, а потом… подсунуть ослабленному организму какую-либо инфекцию, не бороться с болезнью, помогать не больному, а инфекции и таким образом свести больного в могилу, — это не так парадоксально.
— Ягода на закрытом судебном заседании, — добавляет Вышинский, — объяснил свое нежелание говорить об этом тем, что мотивы убийства носят сугубо личный характер… Он прямо сказал, что мотивы личные…
Американский посол в Москве Джозеф Эдвард Дэвис расшифровал это так: «Ягода был влюблен в жену Максима Пешкова, что ни для кого не было секретом».
Действительно, эта самая «человеческая» версия и есть, вероятно, самая правдоподобная. Никаких иных причин убивать Максима, кроме личной, у Ягоды не было и быть не могло, а личная причина могла быть только одна — влюбленность в Тимошу. Понятно, почему он так не хотел признаться при всех, на открытом процессе.
Его ухаживания за ней начались еще при жизни Максима, а после его смерти усилились, стали настойчивы и навязчивы. Среди многочисленных рассказов об этом есть один особенно выразительный. Жена Алексея Толстого, Крандиевская, вспоминала сцены на горьковской даче: «По ступенькам поднимался из сада на веранду небольшого роста лысый человек в военной форме. Его дача находилась недалеко от Горок. Он приезжал почти каждое утро на полчаса к утреннему кофе, оставляя машину у задней стороны дома, проходя к веранде по саду. Он был влюблен в Тимошу, добивался взаимности, говорил ей: „Вы меня еще не знаете, я все могу“. Растерянная Тимоша жаловалась».
Анна Ахматова предрекала, что когда-нибудь о ее современниках будут писать как о шекспировских героях. «„Наше время даст изобилие заголовков для будущих трагедий, — говорила она Лидии Чуковской. — Я так и вижу одно женское имя аршинными буквами на афише“. И она пальцем крупно вывела в воздухе: ТИМОША…».
Когда я прочел это впервые, то подумал: ну почему именно Тимоша? Но когда влез в архивные перипетии, увидел: страсти действительно шекспировские! Тимоша казалась мне солнечным, одаренным человеком. Сколько людей в нее влюблялось! Но ведь за ней — кресты, кресты, кресты…
Роковая женщина! Жертвами Лубянки неизменно становились все мужчины, с которыми она соединяла свою жизнь, все ее последующие мужья: и Иван Луппол, директор Института мировой литературы имени Горького, погибший в лагере, и архитектор Мирон Мержанов, приговоренный к десяти годам лагерей и бессрочной ссылке, и инженер Владимир Попов, арестованный за год до падения Берии. Боялись даже приближаться к этой женщине, такое опасное поле создали вокруг нее. Поговаривали, что она находится под присмотром самого кремлевского Хозяина…
Долго не хотелось отдавать ее в руки Ягоды. Но вот недавно появились на свет документы — и надежда рухнула[177]. Вот рапорт о хозяйственных расходах Ягоды — как он покупал, ремонтировал и обставлял мебелью дачу для Надежды Алексеевны — Тимоши в Жуковке. Другой документ — как уединялся с ней на другой даче, которую содержал специально для этого, в Гильтищеве, по Ленинградскому шоссе — на два-три часа и всегда с ней. Некая Агафья Каменская, прислуга, подавала им закуски, обед, чай.
И не частная, интимная жизнь таких персонажей интересна, а именно взгляд на них как на шекспировских героев — то, о чем говорила Ахматова. С одной стороны, всемогущий палач Ягода — этот Яго, для которого, как писал в камере на Лубянке Леопольд Авербах, «всех надуть — высшее достижение», а с другой — Тимоша… Или для нее это был единственный способ спасти свой дом, детей, себя? Мы привыкли и события, и людей объяснять с точки зрения политики, экономики, профессии, мало ли чего, а вот то человеческое, глубинное, что в них есть, часто остается за бортом. Но жизнь — драматург почище Шекспира!
Процесс закончился. Все участники правотроцкистского блока были расстреляны.
Это случилось через четыре года после смерти Максима Пешкова. А через два часа после смерти сына к Горькому приехали руководители партии и правительства со словами глубокого сочувствия. Он тогда перевел разговор:
— Это уже не тема.
Перед смертью, в бреду, Максу мерещился самолет. Очнувшись, он рисовал его на папиросной коробке, объяснял конструкцию, говорил, что, если прищуриться, четко различишь форму…
Ровно через год, в мае 1935-го, газеты сообщат: потерпел катастрофу гигантский агитсамолет «Максим Горький», экипаж и десятки ударников, находившихся на борту, погибли.
Эта катастрофа кажется почти символической.
В последние годы жизни Горький — сломленный человек, ставший послушным орудием в руках властей. В своих публичных выступлениях привычно славит Сталина, но прежней близости между ними уже нет, возникла ощутимая дистанция, холодок. Трудно сказать, что за кошка пробежала между домом Горького и Кремлем. Может, дело в том, что писатель пробовал заступиться за опального Каменева и тем окончательно рассердил вождя? Или в том, что так и не написал ничего значительного, эпохального о Сталине, не восславил его должным образом, как Ильича, хотя не раз намекали, и материалы к биографии подсовывали, и даже в печати сообщали: ждите, мол, вот-вот… А он — не сдюжил, не выполнил социальный заказ.
По всему видно, что вождь больше с писателем не церемонится. Ринулся было в Италию — не пустили: живи дома! Не выноси сор из избы. Клетка захлопнулась.
«Правда» вдруг печатает пасквильную статью Д. Заславского, ругает старика за либерализм — за предложение переиздать «Бесов» Достоевского. И Достоевского защищать нельзя! Значит, Горький уже — не из неприкасаемых? Переведен в разряд почетных, но не действующих лиц?
И жизнь, несмотря на внешнее благополучие, славу и фимиам, все больше напоминает домашний арест. Писатель Шкапа[178] передает в своих воспоминаниях один нечаянно подслушанный им монолог:
— Устал я очень, — бормотал Алексей Максимович как бы про себя, — словно забором окружили, не перешагнуть. Окружили, обложили. Ни взад, ни вперед!.. Непривычно сие!..
Удивительные вещи происходили в доме писателя. Контролировались даже газеты, прежде чем попасть туда. Были случаи, когда типография печатала номер в одном экземпляре, специально для Горького, — с соответствующими изъятиями и подделками (один такой номер сохранился в музее Горького). Объяснялось это заботой о спокойствии старика, на самом деле стерилизовалось уже само сознание писателя, его превращали в некоего зомби — автомат, удобный в обращении.
Эта психологическая западня, постоянная депрессия, отчаянье, конечно, деформировали личность Горького и, может быть, больше, чем возраст и болезни, вели к концу. Читая то, что он писал в те дни, даже невольно задаешься вопросом: уж не навещало ли его безумие?
Незадолго до смерти он решил, например, мобилизовать сотню писателей для такого вот дела: «Им будут даны сто тем, и мировые книги ими будут переписаны наново, а иногда две-три соединены в одну». Для чего же покушался он на всю мировую культуру? А «чтобы мировой пролетариат читал и учился по ним делать мировую революцию». «Таким образом, — писал Горький, — должна быть постепенно переписана вся мировая литература, история, история церкви, философия: Гиббон и Гольдони, епископ Ириней и Корнель, проф. Алфионов и Юлиан Отступник, Гесиод и Иван Вольнов[179], Лукреций Кар и Золя, „Гильгамеш“ и „Гайавата“, Свифт и Плутарх. И вся серия должна будет кончаться устными легендами о Ленине»[180].
Вот так! Но, если вдуматься, и в этом безумии была своя логика. Ведь еще в далеком 1908 году Алексей Максимович собирался переписать заново «Фауста» Гете, на что тогдашняя его жена Мария Федоровна Андреева, актриса, а в будущем партработник, воскликнула: «Это будет нечто изумительное!».
Пройдет время, и Сталин наложит на горьковской поэме «Девушка и Смерть» резолюцию: «Эта штука сильнее, чем „Фауст“ Гете». Зачем тогда переписывать?
Дом Горького в это время превращен, по существу, в филиал НКВД, через который Органы ведут неусыпный контроль и за ним, и за его гостями. Чекисты и писатели сосуществуют в самой тесной близости друг к другу, срастаясь воедино в какое-то злокачественное образование. НКВД выдвигает и откровенно подкармливает нужных ему людей из своей казны. Авербах признавался на следствии, что постоянно пользовался бесплатными услугами хозчасти НКВД и что подобным образом обслуживались на глазах у всех и другие люди из окружения Горького. Он называет писателя Киршона, художника Павла Корина — учителя Тимоши, для которого Ягода построил специальную мастерскую, Афиногенова и Фадеева, которые получили квартиры в доме НКВД, а Крючков, по словам Авербаха, «в этом смысле чувствовал себя в НКВД своим человеком».
Особая роль Крючкова подробно описана в многочисленных доносах, посыпавшихся на Лубянку после его ареста. Один из них, агента «Алтайского», — это своего рода мемуары сексота, который передает рассказы близких Горькому лиц. Вот что он услышал от писателя Александра Николаевича Тихонова:
— Крючков — человек, способный на все. Его задачей было стать полным хозяином у Горького, он добивался этого всеми средствами. И, в частности, сумел отдалить от Горького всех старых друзей. Он нашептывал, срывал посещения Горького писателями и кое-кого совсем не пускал. Из старых друзей остался я один, и то он меня всячески оттеснял.
Для всего этого нужно было и Крючкову, и Ягоде держать Тимошу в своих руках. Она — милая, обаятельная женщина, далекая от всяких махинаций и политики. Она, конечно, очень нравилась Ягоде. А роман Ягоды и Тимоши избавлял Крючкова от опасности, что в дом войдет неприемлемый для него человек. Едва ли она его любит. Ей просто некуда было податься. Она была окружена. В доме Горького Крючковым и Ягодой была создана такая атмосфера, что с Тимошей страшно было разговаривать, того гляди посадят. Для нее хорошо, что все это произошло (то есть арест Ягоды и Крючкова), она бы сама из этого болота не выбралась.
Во всем этом было что-то темное. Возьмите одно то, как Крючков жил. Он просто-напросто неограниченно тратил средства Алексея Максимовича на себя. Крючков и Ягода были закадычные друзья. Они вместе в баню ходили… Ну а на основе этой деловой спайки создавалась «широкая жизнь». Я в Озерах[181] не бывал, но не раз слышал, как Ягода хвастался: «Две тысячи роз и орхидей…» А во всем этом Крючков принимал деятельное участие. Вообще они друг другу подходили — мастера своих дел и делишек. Вместе устраивали попойки и кутежи.
Помню лето 1934-го. Цхалтубо. Приезжает жена Ягоды Ида и привозит с собой двух шоферов, охрану, машину и т. д. Там жить негде было, а ей отвели целую часть гостиницы. А на курортах тип высокопоставленного чекиста — это же разнузданный человек, которому все девочек подавай… За себя я не боюсь. И с Крючковым, и с Ягодой я был в плохих отношениях. Чему я рад, так тому, что Алексей Максимович всего этого не видит…
Последнюю свою весну, 1936 года, Горький жил в Крыму, на даче в Тессели. Там его навестил известный французский писатель Андре Мальро. Новые подробности этой встречи открылись в архивных материалах Лубянки — рассказ о ней я обнаружил в следственном деле Исаака Бабеля, в его показаниях:
Мальро приезжал в СССР, чтобы повидаться с Горьким по делам Всемирной ассоциации революционных писателей. Сопровождали его Кольцов и Крючков, по просьбе Алексея Максимовича поехал и я, оставаясь во все время поездки чисто декоративной фигурой.
В памяти у меня запечатлелось, что на вопрос Мальро, считает ли Горький, что советская литература переживает период упадка, тот ответил утвердительно. Очень волновала Горького тогда открытая на страницах «Правды» полемика с формалистами, статьи о Шостаковиче, с которыми он был не согласен. В эти последние месяцы жизни в Крыму Горький производил тяжелое впечатление… Атмосфера одиночества, которая была создана вокруг Крючковым и Ягодой, усердно старавшимися изолировать его от всего более или менее свежего и интересного, что могло появиться в его окружении, сказывалась с первого дня моего посещения. Моральное состояние Горького было очень подавленное. В его разговорах проскальзывали нотки, что он всеми оставлен. Неоднократно говорил, что ему всячески мешают вернуться в Москву, к любимому им труду…
Не говоря уж о том, что под прикрытием ночи в доме Горького, уходившего спать к себе наверх, Ягодой и Крючковым совершались оргии с участием подозрительного свойства женщин, Крючков придавал всем отношениям Горького с внешним миром характер одиозности, бюрократичности и фальши, совершенно несвойственных Алексею Максимовичу, что тяжело отражалось на его самочувствии. Подбор людей, приводимых Крючковым к Горькому, был нарочито направлен к тому, чтобы он никого, кроме чекистов, окружающих Ягоду, и шарлатанов-изобретателей, не видел. Эти искусственные усилия, в которые был поставлен Горький, начинали его тяготить все сильнее, обусловили то состояние одиночества и грусти, в котором мы застали его в Тессели незадолго до смерти…
— Вы уклонились от своих показаний, — оборвал Бабеля следователь.
Есть семь версий смерти Максима Горького. По каждой из них можно выстроить события — так и делали, а истина все равно ускользала, оставляя вместо себя мертвую груду фактов и домыслов. Но как отделить посмертную маску от живого лица, разглядеть человека, понять, что произошло с ним, а значит, и со всеми нами?
Болезнь писателя оказалась на деле куда сложней и трагичней, чем считали, и даже выходила за пределы медицины.
В нашей хронике от смерти Горького нас отделяет совсем немного, проследим этот последний отрезок его жизни не спеша, подробней, как при замедленном кинопоказе. Может быть, сам материал подскажет, умер ли писатель от болезни или был убит и был его уход из жизни просто остановкой сердца или именно концом — распадом личности, гибелью духа.
Теперь, издалека, зная, как много людей окружало Горького, порой даже досадуешь: ну что же никто из них не сказал правду, как оно было на самом деле! А им, быть может, еще труднее было увидеть эту правду — в упор. Слишком близко. Осмелится ли кто-нибудь из нас сказать, что он видит, знает правду наших дней? Не будем слишком доверять очевидцам, у каждого свой взгляд, своя память, свой угол искажения действительности.
По официальной сталинской версии смерть Горького — злодейское убийство, часть глобального заговора правотроцкистского блока, в который главными действующими лицами входили Бухарин, Рыков, Ягода и заочно — Троцкий. Их цель — свергнуть Сталина и завладеть властью. Горький — преданнейший друг вождя — мешает, значит, должен быть устранен. Как пел народный акын Казахстана Джамбул Джабаев:
На самом деле Сталину нужен новый виток репрессий, как всегда, для одного — усилить свое единовластие, крепче взять в руки страну. Вину Ягоды определил сам Сталин в своей телеграмме Политбюро от 25 сентября 1936-го: в открытии большого террора «ОГПУ опоздал на четыре года». И уж не виной, а бедой Ягоды было то, что он слишком много знал про вождя подноготного, — от таких свидетелей Сталин регулярно избавлялся.
В замысле процесса было слабое место: много злодеев, а жертва только одна — Киров. И тут-то Сталину пригодились случившиеся в последнее время смерти — Куйбышева, Менжинского, Горького и его сына, — все они тоже были объявлены жертвами.
Неправда, что гений и злодейство несовместны. Совместны, если перед нами гениальный злодей. Искусник из Кремля дал спектакль — и жизнь предстала в нужном для него виде. И надо сказать, исполнители с Лубянки изрядно потрудились, чтобы сделать из смерти Горького шедевр в детективно-фантастическом жанре.
Снова откроем дело Крючкова. Вот Ягода дает ему задание — «разрушить здоровье Горького». Крючков колеблется, мучается. Ягода угрожает, говорит, что разоблачит его как убийцу сына Горького и семейного казнокрада.
— Когда вас арестуют, вам никто не поверит, вы человек неглупый, поймите, следствие-то будут вести мои люди. А Горький уже старик, он и так вот-вот умрет…
Спрашивается, зачем тогда на него покушаться?
— После смерти Горького вы будете едва ли не самым богатым человеком в СССР, — продолжает Ягода. — Одни комментарии к письмам чего стоят.
— Бросьте хныкать и беритесь за дело, — давит Ягода, — раньше вы оберегали здоровье Алексея Максимовича, а теперь… После смерти сына духовные силы его надорваны.
— Делайте побольше сквозняков, свежего воздуха, — смеясь, говорит Ягода. — Кстати, у него, кажется, всего одно легкое, да и то не в порядке…
И Крючков действует.
— Я делал все, что мог, чтобы простудить Алексея Максимовича, ослабить его организм: «забывал» закрывать окна, когда он засыпал, увлекал его работой над четвертым томом «Клима Самгина», зная, что чрезмерное утомление для него чрезвычайно вредно. Будучи в Крыму, в целях ослабления и разрушения и без того слабых легких Алексея Максимовича я организовывал вечера на воздухе перед костром. Естественно, что дым от костров очень отрицательно влиял на его легкие, а вечернее пребывание на воздухе при разности температуры от костра и температуры воздуха также отрицательно влияло на здоровье. Уже в Крыму у Алексея Максимовича в силу вышеприведенных моих преступных действий появились частые ознобы и начались жалобы на общее состояние организма…
Ягода между тем торопит. Весной 1936-го звонит из Москвы:
— Уговорите Горького переехать в Москву и по дороге найдите случай выполнить задание.
Склонить Горького к отъезду не удается, а тут еще Тимоша звонит: у внучек грипп, не торопитесь возвращаться.
Крючков докладывает Ягоде. Тот отмахивается:
— Сообщите Алексею Максимовичу, что ребята совершенно здоровы.
Наконец выезжают. Уже в дороге Горький чувствует себя скверно, а 30 мая, на даче в Горках, заболевает серьезно.
Так говорит Крючков, по протоколу допроса, продолжая и под занавес усердно играть роль, отведенную ему в историческом действе, задуманном в Кремле и успешно инсценированном на Лубянке.
Дальше в показаниях под прицел обвинения ставится лечащий врач Горького — Левин. По словам Крючкова, в течение нескольких дней он скрывал правильный диагноз, и только когда сам Алексей Максимович 2 июня установил у себя крупозное воспаление легких, врачу пришлось согласиться с ним. И все же он медлит с принятием решительных мер, поручает Крючкову всячески сопротивляться впрыскиванию нужных лекарств, навязывает больному в качестве врача профессора Плетнева, не допуская приезда другого доктора — Сперанского[182], которому доверяли в доме.
В конце концов Крючков рисует такую картину:
— На консилиуме, состоявшемся незадолго до смерти Алексея Максимовича, Плетнев предлагает влить физиологический раствор. Должен сказать, что он прекрасно знал, что физиологический раствор действует крайне ослабляюще на организм Горького, и все это предложил. Вливание раствора окончательно подорвало здоровье Алексея Максимовича, а вторичное впрыскивание, по совету того же Плетнева, дигалена окончательно разрушило сердечную деятельность, что привело к смерти Алексея Максимовича…
Получается, убили физиологическим раствором и дигаленом — легким сердечным средством из листьев наперстянки.
Такова официальная версия, навязанная Крючкову, придуманная Лубянкой и санкционированная Кремлем. Инсценировка многие годы принималась за правду жизни, да и как не поверить, если за ее достоверность персонажи заплатили жизнью!
Но был ведь, был документ, обязательный, точный, который фиксировал течение болезни Горького, до самого конца…
Мы никогда не узнаем правду о смерти Горького, сокрушались горьковеды, история болезни его не сохранилась!
И вот эта документальная хроника последних дней, часов и даже минут писателя — медицинская история болезни, извлеченная из бездонных подвалов Лубянки, — лежит передо мной. Сшитая простыми нитками фотокопия тетрадки, исписанной лечащим врачом Горького — Львом Григорьевичем Левиным, чернилами, местами трудноразборчивым почерком, но текст датирован тем временем, писался день за днем по ходу болезни Горького и, значит, непреложно достоверен.
Раскроем же историю болезни Горького, проследим течение его жизни к неизбежному концу и сравним эту подлинную хронику с той официальной версией, которая отпечаталась в показаниях Крючкова. И сразу же мы наткнемся на явные расхождения. Мы увидим, что правильный диагноз был установлен своевременно, что не раз созывались консилиумы лучших врачей и принимались самые решительные меры для спасения уже безнадежно изношенного и разбитого болезнью организма. Что стоило следствию, если бы оно заботилось об истине, заглянуть в историю болезни? Обязано было! Видимо, и заглянули, и спрятали потом записи врачей подальше, и продержали в своих запасниках до нынешних дней!
Итак —
Пешков-Горький Алексей Максимович.
История болезни.
Кремлевская поликлиника Лечсанупра Кремля.
28 Мая 1936. Вчера А. М. возвратился из Крыма в Москву. Дорогу перенес тяжело, без сна, трудно было дышать <…> (На полях: «грипп»).
1 Июня.<…> (На полях: «Грипп, бронхопневмония»).
2 Июня. Ночь почти без сна <…>. Консультация с проф. Р. А. Лурия и доц. Е. Гинзбургом[183] <…> Резкие изменения в обоих легких, связанные со старым туберкулезным процессом <…> (На полях: «Грипп, бронхопневмония»).
4 Июня. Спал мало. Т — 37.0. Консультация с проф. Д. Д. Плетневым. Диагноз — тот же <…> Положение очень серьезное <…>
5 Июня. 13 час. Консультация с проф. Г. Ф. Лангом[184]. Диагноз и терапия остаются те же. Кислород <…>
7 Июня. 10 час. Консультация. Ночь на 7-ое июня прошла относительно спокойно. А.М. спал с частыми перерывами, моментов острого упадка сердечной деятельности в течение ночи не было <…> Новых воспалительных очагов в легких нет. Больной несколько бодрее, чем был всегда. Терапия та же.
Левин, М. Кончаловский[185], Г. Ланг <…>
8 Июня. Консультация. Общее состояние по-прежнему остается тяжелым <…> В 5-м часу дня положение еще ухудшилось <…>
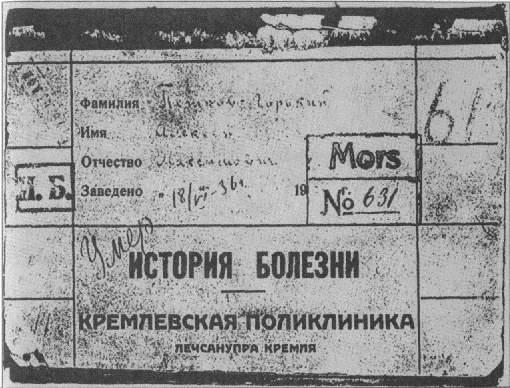
Обложка истории болезни А. М. Горького.
1936.
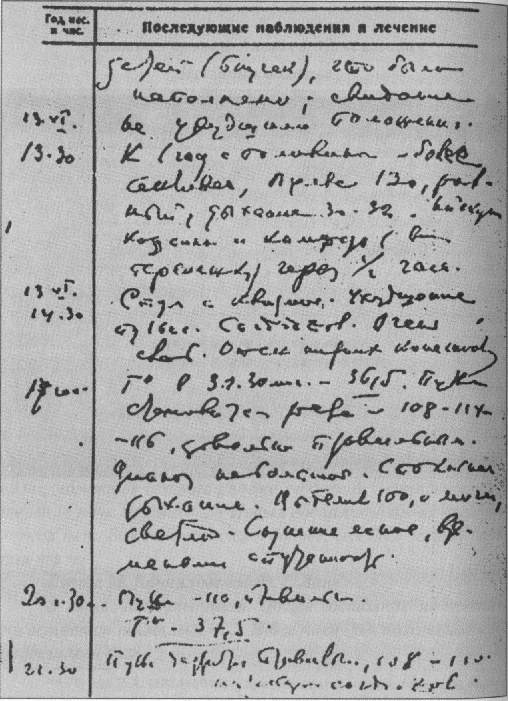
История болезни A. M. Горького.
1936.
Наступил кризис. В этот день ситуация казалась настолько безнадежной, что врачи решили — конец неизбежен. Близкие Горького — Екатерина Павловна Пешкова, Тимоша, Мария Игнатьевна Будберг, Черткова, Ракицкий — пришли к нему для последнего прощания.
Что произошло у постели умирающего дальше, я восстанавливаю по их воспоминаниям.
Горький открыл глаза и сказал:
— Я уже далеко, мне так трудно возвращаться…
И после паузы:
— Я всю жизнь думал, как бы мне изукрасить этот момент…
Вошел Крючков и сообщил, что едет Сталин (видимо, он уже предупредил Сталина о состоянии Горького по телефону).
— Пусть едут… если успеют, — сказал Алексей Максимович.
Черткова, вспомнив, как еще в Сорренто она однажды воскресила Горького, впрыснув ему лошадиную дозу камфары, пошла советоваться к Левину:
— Разрешите мне впрыснуть двадцать кубиков, если все равно положение безнадежно.
Левин махнул рукой:
— Делайте что хотите.
Камфара и впрямь вернула больного к жизни, так что, когда в доме появился Сталин, а с ним Молотов и Ворошилов, они были поражены бодростью Алексея Максимовича — ожидали ведь, что он при смерти.
Сталин вел себя по-хозяйски и сразу стал наводить порядок:
— Почему так много народу? Кто за это отвечает?
— Я отвечаю, — сказал Крючков.
— Зачем столько народу? Вы знаете, что мы можем с вами сделать?
— Знаю.
— Кто это сидит рядом с Алексеем Максимовичем, в черном? Монашка, что ли? — Сталин показал на Будберг. — Свечки только в руках не хватает.
Крючков объяснил.
— А эта? — Сталин показал на Черткову, одетую в белый халат.
Крючков объяснил.
— Всех — отсюда вон, кроме этой, в белом, что за ним ухаживает.
В столовой Сталин увидел Ягоду.
— А этот зачем здесь болтается? Чтобы его здесь не было! Ты мне за все отвечаешь головой, — сказал он Крючкову. — Почему такое похоронное настроение, от такого настроения здоровый может умереть!..
Горький заговорил о литературе. Но Сталин остановил его:
— О деле поговорим, когда поправитесь, — и спросил, есть ли в доме вино.
Выпили, разумеется, за выздоровление. Уезжая, расцеловались с Алексеем Максимовичем. Он потом сожалел:
— Напрасно целовались. У меня грипп, я могу их заразить…
Горький прожил после этого еще десять дней. Дважды за это время приезжал Сталин. В первый раз больному было плохо, и врачи к нему не пустили, второй раз — поговорили минут десять, почему-то о французских крестьянах.
В последние дни, когда к Алексею Максимовичу возвращалось сознание, он пытался как-то зацепиться за жизнь, участвовать в ней, произносил отрывочные фразы.
Показали газету с проектом Конституции, на что он сказал:
— Мы вот тут пустяками занимаемся, а в стране теперь, наверно, камни поют.
Но были и другие слова, простые, мудрые, человечные:
— Умирать надо весной, когда все зелено и весело.
Или проснулся однажды ночью и говорит Чертковой:
— А знаешь, я сейчас спорил с Господом Богом. Ух, как спорили! Хочешь, расскажу?
Не успел рассказать.
История болезни:
9 Июня. 11 ч. утра. Консультация. Ночь провел плохо, часто просыпаясь. Кислород, камфара, кофеин… С утра несколько спутанное сознание, сейчас — ясное <…> Состояние тяжелое <…> Ланг, Плетнев, Кончаловский, Левин <…>
13 Июня. 13 час. Положение не меняется к лучшему, несмотря на огромное количество введенных под кожу и внутримышечно сердечных средств (камфара, кофеин, кардиазол)… Пульс временами снижался до 90 на очень короткое время и быстро опять учащался <…> Сознание ясное. Около часу дня выразил желание повидать детей (внучек), что было исполнено; свидание не ухудшило положение <…>
14 Июня. 22 час. 30 мин. <…> В последние часы самочувствие, несмотря на тахикардию, было удовлетворительное <…> Покушал немного цыпленка и курин. котлеты, несколько яиц, молоко, чай, пьет нарзан <…>
15 Июня. 19 час. <…> Побрился (настоятельно требовал парикмахера), не устал. Кушал бульон, пил молоко, нарзан <…>
16 Июня. 12 час. дня <…> Состояние очень резкой сердечной слабости. За последние 2 дня усилились явления большого нервного возбуждения <…>
12 Ч. ночи <…> Весь день возбужден, временами спутан, много говорит <…>
Подписи прежние, будущих «врачей-отравителей».
17 Июня состояние больного резко ухудшилось.
<…> Около 9-и утра обморочное состояние, поднятая рука опускается плетью, ни на что не реагирует, ничего не говорит. Глубокое сопорозное состояние <…> После большого количества кофеина, камфары, кардиазола и кислорода сознание с 3-х часов стало немного яснее, выпил 3/4 чашки молока, сознательно смотрит на окружающих, но на вопросы не отвечает <…>
После относительно хорошо проведенной ночи, сегодня, в 6 час. 30 мин. утра внезапно наступило кровохарканье, продолжавшееся и до настоящего момента. Одновременно с этим — значительное расстройство дыхания, усиление цианоза и помрачение сознания. В 8 ч. 30 м. — короткий обморок. В легких много отечных хрипов <…>
Пришла последняя ночь. Началась агония. За окнами гремела гроза, хлестал ливень. Собрались все близкие. Доктора, жившие в эти дни в Горках, совещались внизу, в кабинете писателя, за круглым столом, хотя уже все было ясно. Поддерживали больного кислородом, за ночь триста мешков, — передавали конвейером, прямо с грузовика, по лестнице, в спальню текла эта струйка жизни.
18 Июня. 10.30 м. Провел очень тяжелую ночь <…> Очень возбужденное состояние, непрерывный бред; не пьет ничего (отказывался), отказывался часто и от кислорода <…>
11 Час. утра. Глубокое коматозное состояние; бред почти прекратился, двигательное возбуждение также несколько уменьшилось. Клокочущее дыхание <…>
11 Час. 5 мин. Пульс падает, считался с трудом. Коматозное состояние, не реагирует на уколы. По-прежнему громкое трахеальное дыхание.
11 Час. 10 мин. Пульс стал быстро исчезать. В 11 час.
10 Мин. — пульс не прощупывается. Дыхание остановилось. Конечности еще теплые.
Тоны сердца не выслушиваются. Дыхания нет — (проба на зеркало). Смерть наступила при явлениях паралича сердца и дыхания.
На обороте этого последнего листка в истории болезни записан.
Клинический диагноз:
1. Фиброзно-легочный туберкулез, каверны, бронхоэктазия, эмфизема легких, пневмосклероз, плевральные сращения;
2. Атеросклероз аорты и коронарных сосудов сердца, кардиосклероз;
3. Сердечная недостаточность;
4. Бронхопневмония;
5. Инфаркт легких (?);
6. Инфекционная нефропатия.
И подписи — четырех врачей: Г. Ланг, М. Кончаловский, Д. Плетнев, Л. Левин.
Почему же на суде и Плетнев, и Левин заявили: мы — убийцы Горького? Заставили. Конечно! Но лишь в наши дни вскрылись документы, подтверждающие это, и среди них — заявление Плетнева высшим руководителям страны. Семидесятилетний профессор, считавшийся лучшим врачом России, подает нам голос из прошлого, из Владимирской тюрьмы:
Весь обвинительный акт против меня — фальсификация. Насилием и обманом у меня вынуждено было «признание»… Когда я не уступал, следователь сказал буквально: «Если высокое руководство полагает, что вы виноваты, то, хотя бы вы были правы на все сто процентов, вы будете все… виновны…».
Ко мне применялись ужасающая ругань, угрозы смертной казнью, таскание за шиворот, удушение за горло, пытки недосыпанием, в течение пяти недель сон по два-три часа в сутки, угрозы вырвать у меня глотку и с ней признание, угрозы избиением резиновой палкой… Всем этим я был доведен до паралича половины тела… Я коченею от окружающей меня лжи и стужи пигмеев и червей, ведущих свою подрывную работу. Покажите, что добиться истины у нас в Союзе так же возможно, как и в других культурных странах… Правда воссияет!..
Сегодня врачи, лечившие Горького, реабилитированы, специальная медицинская экспертиза, проведенная недавно, пришла к выводу: диагноз и лечение были правильными, смерть — естественной.
Не хватало для полной ясности истории болезни — теперь вот и она есть. Но сколько же времени потребовалось — ведь более полувека прошло! — чтобы приблизиться к истине, чтобы сорвать паутину лжи с жизни и смерти Горького. Так медленно мы выходим из большевистского обморока, приходим в сознание. А за это время накручиваются новые трагедии, новая ложь. И мы опять не успеваем их осознать и распутать. Такова наша история.
Есть еще один, малоизвестный, документ о последних днях Максима Горького. Это не лживая стряпня лубянских протоколов и не сухая, хоть и правдивая, регистрация хода болезни. Это собственноручные заметки Алексея Максимовича, которые он пытался вести перед смертью. Подложив последнюю из прочитанных им книг — «Наполеона» Тарле, — он фиксировал вспышки гаснущего сознания. Листки сильно измяты и порваны:
«Вещи тяжелеют: книги карандаш.
Стакан и всё кажется меньше.
Чем было.
Замечат. симпатичен др. Левин.
Конца нет ночи, а читать не могу.
Чорт их возьми. Забыли дать нож.
Чинить карандаш.
Спал почти 2 часа. Светает.
Кажется мне лучше».
Другой листок:
«Крайне сложное ощущение.
Сопрягаются два процесса:
Вялость нервной жизни —
Как будто клетки нервов.
Гаснут —
Покрываются пеплом и все.
Мысли сереют.
В то же время — бурный натиск.
Желания говорить и это.
Восходит до бреда, чувствую.
Что говорю бессвязно хотя.
Фразы еще осмыслены.
Думают — восп. легких — дога-
Дываюсь — должно быть не.
Выживу.
Не могу читать и спать.
Ничего не хочется, кто-то».
Еще листок:
«Появились люди испуганные.
Необходимостью жить иначе.
Они усердно и придирчиво ис-
Кали признаков новизны.
Выползли из подвалов какие-то.
Властолюбцы, требовательные…».
А вот эти слова Горький уже продиктовал:
«Конец романа конец героя.
Конец автора».
Диагноз поставлен. Ярко и беспощадно точно. Может быть, это самые трагические слова, сказанные в литературе.
Послесмертие.
Алексей Максимович завещал похоронить его рядом с сыном на Новодевичьем кладбище. Теперь, узнав, что правительство решило кремировать Горького для Кремлевской стены, Екатерина Павловна позвонила Сталину и попросила, если уж нельзя выполнить последнюю волю покойного, отдать семье хоть горсточку праха для захоронения в могиле сына. Сталин сказал, что решать будет правительство. Ответ передал Ягода: правительство не сочло возможным выполнить просьбу. Даже тело, даже прах Горького отняли у близких!
То же произошло и с архивом.
Уже в день смерти Алексея Максимовича, когда скульптор Меркуров снимал маску с его лица, когда мозг писателя отвозили в ведре в Институт мозга, была утверждена комиссия для приемки литературного наследия и переписки Горького.
На деле владельцем архива стал НКВД.
Есть версия, что Органы обнаружили в доме Горького тщательно запрятанные записки и что Ягода, прочитав их, выругался:
— Как волка ни корми, он все в лес смотрит!
Было ли так, Бог знает. А вот что нам стало известно.
Уже после ареста Крючков расскажет следователю, что он докладывал о содержимом архива Ягоде, чем тот сильно интересовался, и особенно настойчиво, нет ли там чего-нибудь «о товарищах», то есть о членах Политбюро. Тимоша будто бы говорила ему в 1935-м, что Горький ведет такие записи…
— Не беспокойтесь, будете жить в довольстве, пока жив я, — заверил Крючкова Ягода.
Глава НКВД вообще действовал в горьковском доме бесцеремонно, его личный секретарь Буланов следил за доходами наследников, состоянием текущих счетов, расходованием денег. И даже в 1937-м, уже отставленный со своего поста и ставший наркомом связи, Ягода вмешивался в дела горьковской семьи и советовал Тимоше изъять дома Горького из ведения НКВД, с тем чтобы она была полной хозяйкой.
Но вернемся к архиву. Он, конечно, представлял для Органов особый интерес. Заняться им подсказывали не раз неутомимые стукачи, продолжавшие свою бессмертную вахту. Агент «Саянов», например, доносил:
Следует полагать, что в архиве Горького, ныне, как я слышал, опечатанном НКВД, должны быть письма, представляющие огромную ценность политическую. Это не только письма разоблаченных врагов народа, очевидно, уже изъятые НКВД, но многое другое, переписка лиц, которых еще не разоблачили. Было бы большой ошибкой, с моей точки зрения, не изучить все материалы. Вообще следует учесть, что враги всячески пробирались в дом Горького… Несомненно, что не все связи этого дома еще ликвидированы. Какое-то количество людей еще собирается вокруг Крючкова, ведающего теперь Музеем Горького.
Надо обратить внимание на некоторые редакции, связанные раньше с Горьким, особенно редакцию «Наши достижения». Арестован ли Вигилянский[186] и другие сотрудники этого журнала, не знаю, но думаю, что арестованы, так как эти люди очень подозрительны политически…
Так исподволь готовилось массовое избиение горьковского окружения, которое не заставило себя ждать. Когда будет арестован Крючков, то один из информаторов НКВД в доверительной беседе донесет капитану госбезопасности Журбенко, что Крючков скрыл часть архива, а «там могло кое-что быть».
— Ну, что — нападки на Союз писателей? — спросил Журбенко.
— Не только.
— Против партруководства?
— Против некоторых его представителей.
Дом Горького Органы чистили как следует и не один раз. При аресте Крючкова разрезали даже картошку — искали драгоценности.
— И это все, что вы накопили? — с издевкой спрашивали жену Крючкова Елизавету.
Об этой сцене сообщил капитану Журбенко другой сексот — «Алтайский». И услужливо добавил: «Тимошу уже допрашивали».
То-то в НКВД не знают, кого они допрашивали, кого нет!
Капитан Журбенко между тем собирал материалы и на жену Крючкова, готовя арест. Ее очень близкий человек, тоже писатель и тоже сексот, по кличке «Зорин», после каждой встречи с ней подробнейшим образом докладывает обо всем, о чем бы они ни поговорили, даже о том, что Крючкова доверяла ему в минуты отчаянья:
— Я стою перед бездной, я никому не верю. У меня есть только вы и Петька, сын. Если бы у меня не было Петьки и вас, я бы застрелилась… Еще и год не прошел после смерти Алексея Максимовича, а уже оскорбляют его память преследованием близких ему друзей.
— А что вы думаете, каковы причины отставки Ягоды?
— Ягода всегда ссорился с Ежовым. Но это не главное. А дело в том, что Ягода в свое время принял аппарат НКВД таким, каким он был еще при Дзержинском. Работая по старым традициям, аппарат перестал удовлетворять современным требованиям государственности. Так что Ягода — жертва общей перемены государственного курса…
Через несколько дней Елизавета Крючкова будет арестована как сообщница Ягоды. На суде она заявит, что никакой политической связи с ним не имела. Ягода пытался сделать ее своей любовницей.
В тот же день она будет расстреляна.
Перед крайней чертой, накануне неизбежной смерти, многие еще раз мысленно проживали свою жизнь — и обретали другое зрение. Выйдя из позы партийного бойца и сбросив пропагандистские доспехи, Авербах размышлял в последних записках:
«Могла ли моя жизнь сложиться иначе? Конечно да. Это чушь о мистической социальной закономерности, о родовой наследственности среды. Вероятно, все в тюрьме, оглядываясь на прожитое, мысленно создают себе другую жизнь…».
Увы, другой жизни нам не дано.
Даже Ягода, став узником своей родной Лубянки, начал очеловечиваться. Говорят, он не мог ни спать, ни есть, а только бегал по камере из угла в угол. И вдруг воскликнул:
— А Бог все-таки существует!
— Что такое? — не понял бывший при этом сотрудник НКВД.
— Очень просто, — объяснил Ягода. — От Сталина я не заслужил ничего, кроме благодарности за верную службу. От Бога я должен был заслужить самую суровую кару — тысячу раз нарушал его заповеди. Теперь погляди, где я нахожусь, и суди сам: есть Бог или нет…
В финале горьковской пьесы «Сомов и другие» агенты ГПУ арестовывают почти всех действующих лиц. Конец пьесы «Горький и другие» такой же. Немногие из людей, попадавших в роковой горьковский круг, умерли естественной смертью. Партийцы, чекисты, писатели-стукачи и просто писатели — одни расстреляны, другие потеряли здоровье в тюрьмах и лагерях, третьи доведены до самоубийства.
Больше повезет женщинам. Липа Черткова доживет почти до конца сталинской эпохи, Екатерина Павловна Пешкова — до хрущевской «оттепели», Тимоша — до брежневского застоя. Всех их переживет Мария Будберг — на то она и «железная»…
Марфа и Дарья Пешковы, слава богу, живы до сих пор, свидетели горбачевской перестройки и ельцинской постперестройки. Внучки Максима Горького стали бабушками, правнуки — взрослые люди, а для праправнуков, которые подрастают, советская власть — это уже прошлое.
Бездомное ремесло.
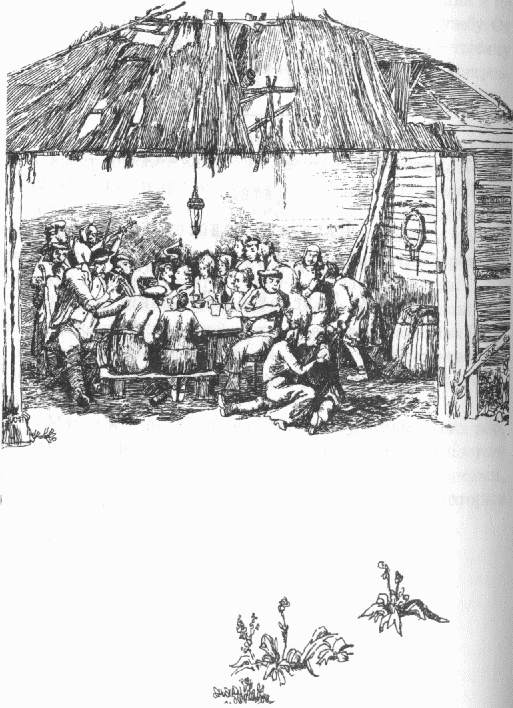
Донос как жанр соцреализма.
Дятел.
Писатели доносов.
Поправки к энциклопедии.
Лев Толстой на Лубянке.
Полным голосом.
Донос как жанр соцреализма.
— Павлика Морозова мы вам не отдадим! — предупредили меня на Лубянке, имея в виду своих помощников — осведомителей, сексотов, стукачей, весь этот бесчисленный тайный орден, растворенный в народе.
Прославленный герой нашей истории пионер Павлик Морозов донес карательным органам на своего отца, председателя колхоза, покрывавшего кулаков. Отца расстреляли. На этом примере нас воспитывали, эти уроки мы все и обязательно проходили. И каждый усваивал их как мог.
«Мы должны просить правительство разрешить союзу литераторов поставить памятник герою-пионеру Павлу Морозову, который был убит своими родственниками за то, что, поняв вредительскую деятельность родных по крови, он предпочел родству с ними интересы трудового народа» — так заявил в заключительном слове на Первом съезде советских писателей Максим Горький.
Все советские писатели делятся на три категории: одни стучат на машинках, другие перестукиваются, а третьи — просто стучат… Это было бы анекдотом, если бы не было сущей правдой.
Конечно, жанр доноса существовал во все времена. Но никогда еще он не расцветал таким махровым цветом, как у нас в нашей новейшей истории.
Навязанный сверху пресловутый метод соцреализма вторгся и в искусство, и в саму жизнь. Он требовал отражать жизнь не такой, какая она есть, а такой, какой она должна быть, и жить не своей жизнью, а предписанной правящей идеологией. А поскольку в этой идеально организованной, стерилизованной жизни не оставляли места тем, кто мыслит и живет иначе, надлежало их выявлять и безжалостно искоренять всеми способами. В искусстве — строжайшей цензурой, в обществе — стуком и репрессиями. Стукачество было объявлено почетным долгом каждого гражданина, а недоносительство — преступлением.
Среди писателей жанр доноса развивался, как и положено, во всем многообразии форм, со своей стилистикой и своими корифеями-классиками.
Был, например, донос глобальный, призыв к расправе над целыми слоями населения, сословиями и классами: дворянством, буржуазией, духовенством, зажиточным крестьянством (кулаками), гнилой интеллигенцией — всей этой контрой, с которой большевикам не по пути, которой нет места в коммунистическом завтра. Перевоспитывать их — дело хлопотное и, пожалуй, безнадежное, не лучше ли разом покончить, вычеркнуть из истории?
Это поэт революции Василий Князев[187], автор «Красного Евангелия», очень популярной в свое время книги, заклинания, любимого самим Ильичем: «Никогда, никогда, никогда, никогда коммунары не будут рабами!..» Призывая к кровавой расправе, Князев и себе накликал гибель, сам попал под колесо террора.
Существовали доносы по долгу службы, по обязанности. Все ведомства, организации, большие и маленькие конторы должны были постоянно и бдительно следить за поведением и сознанием своих работников и докладывать о них куда надо. Особенно бдили за творческой интеллигенцией, за писателями — работниками идеологического фронта. Редакции газет и журналов, издательства, цензурная сеть, ну и, конечно же, само министерство литературы — Союз писателей — по существу превратились в негласные филиалы Органов, осуществляли контроль над словом и поведением литераторов, информируя о них партийные и карательные инстанции, отдавая на расправу палачам поштучно и оптом. Особо отличился тут такой руководитель писателей, как Ставский, изрядно потрудился на этом поприще и другой их многолетний вожак — Александр Фадеев. Сейчас много спорят о его роли в массовых репрессиях: одни говорят, что он губил своих коллег, другие — что защищал и спасал. Кого-то, возможно, и спас. Но, изучая архивы Лубянки, я натыкался на документы с подписью Фадеева: «С арестом согласен». Фадеев, разумеется по приказу Сталина, просто обязан был визировать, одобрять расправы над писателями. Власть, изолируя и уничтожая неугодных ей художников, делала это по-иезуитски ловко — как бы от имени самой литературы, впутывая в свои черные дела самих ее служителей.
Не случайно именно в 1956-м, когда из мест заключения один за другим стали возвращаться оставшиеся в живых репрессированные писатели, Фадеев застрелился. Это был исход — из тупика совести и творчества. «Я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь и клевета, ухожу из этой жизни», — напишет он в предсмертном письме. Свою причастность к правящей подлости и клевете он решил искупить смертью.
На службе у власти состояла и целая армия тайных агентов, штатных и добровольных, платных и бескорыстных. Насчет «тридцати сребреников», причитающихся агенту, существовала специальная инструкция ВЧК, разработанная еще в 1921 году: «Субсидии денежные и натурой, без сомнения, будут связывать с нами… а именно в том, что он будет вечный раб ЧК, боящийся расконспирировать свою деятельность». Плотной сетью окружали доносчики человека на воле, и даже когда он попадал за решетку, к нему подсаживали так называемых наседок, которые выведывали у него нужную для следствия информацию и склоняли в нужную сторону.
Доносительство стало заурядным, бытовым явлением, расползшимся по стране гангреной. Настучать мог кто угодно — на кого угодно: дворник на жильца, парикмахер на клиента, пассажир на шофера, жена на мужа и наоборот — в любой комбинации — из идейного рвения, из зависти, корысти, мести и даже чтобы просто опередить, предупредить чей-нибудь донос на себя. Точно по анекдоту: «За что сидишь?» — «За лень». — «Как?!» — «Ну, рассказал приятелю анекдот и лег спать, думаю, утром в Органы сообщу. А утром забрали — приятель оказался проворней».
Нет у меня, признаться, нет никакого желания выводить на чистую воду и называть многочисленных авторов, отдавших дань ядовитому жанру, да и не стоят они того — слишком много чести. Но из истории, как из песни, слова не выкинешь. Во всех главах-досье этой книги оказались рассыпаны перлы стукачей, иногда подписанные подлинными именами, чаще — агентурными кличками, псевдонимами. Что делать — ни один арест, ни одно следственное дело не обходилось без плодотворной деятельности тайных агентов, за каждой жертвой репрессий проступают и шествуют их предательские тени.
Вот один из фактов — письмо-донос.
Письмо короткое, но в нем наглядно видно, как действовал механизм доносительства, втянувший в себя целую группу писателей. Рабочим элементом его являлась цепь: довожу до вашего сведения и прошу сообщить куда следует то, что мне рассказали, что им сказали…
Международное бюро революционной литературы.
2 Января 1928 г.
Дорогой товарищ Авербах, считаю нужным довести до твоего сведения о нижеследующем факте, относительно которого прошу тебя принять срочные меры.
Редакцию «Вестника иностранной литературы» посетил писатель Панаит Истрати, сообщивший о состоявшемся у него с тов. Сандомирским[188] разговоре. Сандомирский посоветовал товарищу Истрати ничего не писать ни о большевиках, ни о Советском Союзе. По мнению Сандомирского, если Истрати на эти темы будет писать, хваля на 99 % и порицая на 1 %, то этого обстоятельства будет достаточно, чтобы ему в лице большевиков нажить себе смертельных врагов. И не только он встретит недоброжелательство со стороны ВКП и Французской компартии, но может еще и испытать затруднения при выезде из СССР…
Истрати сообщил об этом разговоре не только мне, но и товарищам Динамову[189], Анисимову, Когану и, как я предполагаю, еще некоторым другим. Мы, как могли, постарались его успокоить и убедить его, что со стороны Сандомирского это была только шутка, но вряд ли нам удалось достигнуть успеха.
Я потому ставлю тебя в известность, что мы испытываем достаточно много затруднений, привлекая к нам симпатизирующих нам писателей, и подобная задача не может нам удаться, если будут продолжаться такие явления, как вышеупомянутый разговор.
С коммунистическим приветом!
Б. Иллеш.
Не имеет значения, обращался автор письма Бела Иллеш к Авербаху как к главе Российской ассоциации пролетарских писателей или как к литературному советнику и близкому родственнику руководителя ОГПУ Ягоды. Нетрудно догадаться, что последним звеном этой цепочки были карательные органы, так как начальное звено стало жертвой — литератор Сандомирский был в конце концов арестован и расстрелян. Приведенное письмо сохранилось в его лубянском досье со специальной пометкой, запрещающей знакомство с этим документом кого-либо, кроме самих служителей Органов.
Ясно и другое: все в этой порочной цепочке были обречены на донос, потому что не отреагируй на преступный факт один — отреагирует другой, и ты окажешься покрывателем или, хуже того, соучастником преступления.
От Москвы до самых до окраин оплела страну липкая паутина подозрительности и взаимной слежки. И спастись от нее не было никакой возможности.
Приходят в дом гости, болтают по пьянке о политике. И все повязаны. Не отреагируешь ты, настрочит он. Что делать?
Лютый 37-й. Поэт Константин Седых, ставший впоследствии известным своим романом «Даурия», пишет уполномоченному Союза советских писателей по Иркутской области, поэту, товарищу Ивану Молчанову:
Считаю необходимым довести до Вашего сведения следующее. 30 ноября вечером ко мне на квартиру заявился небезызвестный Вам Ин. Трухин[190] в сопровождении какого-то незнакомого мне человека, которого отрекомендовал мне и находившемуся в это время у меня Ан. Пестюхину (Ольхону)[191] поэтом Рябцовским или Рябовским, точно не помню. Оба они были пьяны.
Подобный визит Трухина меня чрезвычайно изумил, так как никакого близкого общения у меня с ним нет. Поэтому я встретил его достаточно холодно. Но пьяному Трухину море по колено. Он извлек из кармана бутылку водки и стал приглашать выпить. В последовавшем затем разговоре Трухин, ничем и никем на то не вызванный, допустил гнусный контрреволюционный выпад против товарища Сталина. Слова его были таковы:
— Да что вы мне все! Да если на то пошло, так я и самого Сталина распатроню!
Я немедленно оборвал Трухина и заявил ему, что о его поступке доведу до сведения уполномоченного ССП. Затем я сразу же выдворил и его, и его приятеля из квартиры…
Трухин считает себя советским поэтом. Но за такими его словами, несмотря на то что сказаны они в пьяном виде, скрывается неприглядная физиономия враждебного нам человека. Мне, например, кажется, что если бы он был настоящим советским человеком, то не позволил бы такого выпада и пьяным…
Быть может, Константин Седых действовал просто из чувства самосохранения. Но теперь товарищ Молчанов тоже должен был реагировать — и тут же направил послание своего коллеги в НКВД, товарищу Бучинскому: «5 декабря ко мне пришел поэт К. Седых и рассказал о фактах, написанных в заявлении. Я ему предложил все это изложить в письменном виде. Сразу же позвонил Вам…».
И вслед за этим добавляет и собственные заявления сразу на нескольких литераторов. Стук с вещественными доказательствами:
…Посылаю также рассказ «Жаркая ночь», присланный на консультацию к нам. Автор — П. И. Короб из Нижнеудинского аэропорта. Весь рассказ просто начинен контрреволюционными разговорами. Ответ автору я пока задержал…
Во время дежурства консультанта А. Ольхона приходил студент Финансово-экономического института Садок с рассказом «Иван Зыков». По отзывам консультанта, этот рассказ — памфлет на советскую действительность, клевета на колхозы и колхозников. Идейная вредность рассказа вне сомнений…
Был на консультации курсант школы военных техников Филиппович с пьесой «Враг». По отзывам консультанта, автор не лишен способностей. Но пьеса «Враг» заслуживает разбора лишь как политическая ошибка автора, который в силу своей идейно-политической близорукости написал антипартийную пьесу. Оценка пьесы может быть только одна: «Враг» — вредная, не советская пьеса.
И так далее, и тому подобное…
А вот и два итоговых рапорта писателя доносов Молчанова о своей плодотворной работе в Иркутске. Первый — в Москву, верховному литературному начальству, Генеральному секретарю правления Союза советских писателей Ставскому:
Только после февральского пленума ЦК ВКП(б), после изучения доклада и заключительного слова тов. Сталина была развернута самокритика в литературной организации Восточной Сибири… За связь с контрреволюционными организациями исключены из Союза писателей А. Балин, Ис. Гольдберг, П. Петров[192], М. Басов… Все они арестованы органами НКВД. Была засорена чуждыми людьми окололитературная среда: начинающий писатель Новгородов, поэт.
В. Ковалев, поэт А. Таргонский…
Второй рапорт адресован партийному начальству — в обком ВКП(б):
В результате притупления бдительности областная организация Союза писателей оказалась засоренной врагами народа. Долгое время у руководства Союза стояли, оставаясь неразоблаченными, такие матерые враги народа, как Басов, Гольдберг, Петров и Балин.
Сразу же после разоблачения врагов народа правление было переизбрано. Новое правление немедленно приступило к работе по ликвидации последствий вредительства. В Союзе писателей, после арестов, остались два члена: И. Молчанов и К. Седых…
Вот ведь как отчаянно боролись за линию партии — остались на боевом посту только вдвоем! Можете на нас положиться!
Дятел.
И наконец портрет литературного стукача по призванию — крупным планом.
Органам он был известен по кличке Дятел, а в миру — как Борис Александрович Дьяков, член Союза писателей[193].
Его нашумевшая «Повесть о пережитом» была среди первых книг о сталинских репрессиях, вышла почти одновременно с «Одним днем Ивана Денисовича» Солженицына и даже соперничала с ним в популярности. Дьяков предстает в повести как безвинная жертва, он и в концлагере остается железобетонным большевиком, апологетом советской власти. По нему получается, что зэки за колючей проволокой только о том и думали, как бы перевыполнить план и поусердней послужить партии и правительству. Автор писал эту книгу так, как если бы выполнял особое задание Органов, стремясь отвлечь внимание от глубокой книги Солженицына и извратить правду в заданном направлении.
Повесть Дьяков написал о себе. Да, и он, подобострастно служивший власти, оказался за сталинской колючкой. И на него кто-то настучал.
В следственном деле Бориса Дьякова хранятся его многостраничные письма-исповеди, адресованные своим хозяевам — Госбезопасности и ЦК ВКП(б), послания, в которых четко запечатлелась вся его извилистая, как змеиный след, линия судьбы.
Мое детство и первые юношеские годы прошли в обстановке дореволюционной жизни. Родился я в семье служащего, со всеми присущими этой семье пороками старой интеллигенции. Мое сознание начало формироваться в условиях советского строя. Еще несовершеннолетним я ушел в Красную Армию, с 1921 г. был на советской профсоюзной работе, а с 1929 г. начал работать в партийной печати. Мой характер и мои взгляды создавались, таким образом, в преодолении собственных недостатков и пережитков прошлого и — самое главное — в борьбе с врагами. Эту борьбу я вел неуклонно, без колебаний, особенно будучи советским журналистом.
Итак, свою сознательную жизнь он начал, отрекшись от порочных родителей. Получив вместо серьезного профессионального образования железное классовое воспитание, он избрал легчайший путь наверх — через комсомол, профсоюзы, партийную печать и всесильную тайную службу.
С Органами Дьяков познакомился в начале своей литературной карьеры и работал на них добровольно, не за страх, а за совесть. Документы в его досье бесстрастно сообщают, что он в 1936 году был завербован в агентурную сеть Управления госбезопасности Сталинградской области под псевдонимом Дятел «для разработки контрреволюционных учетников» (далее перечислен ряд фамилий) — «вскоре все эти лица были арестованы как участники правотроцкистской организации».
Первый успех окрылил, и он продолжал стучать со все возрастающим рвением. Об этом он собственноручно пишет, когда, и сам попав в клетку, ищет заступничества у своего бывшего руководства, перечисляет свои заслуги перед Органами и отечеством — десятки загубленных судеб:
Считаю своим долгом сообщить Вам, что я в течение ряда лет являлся секретным сотрудником Органов, причем меня никто никогда не принуждал к этой работе, я выполнял ее по своей доброй воле, так как всегда считал и считаю теперь своим долгом постоянно, в любых условиях оказывать помощь Органам в разоблачении врагов СССР. Это я делал и делаю. Вот факты…
Я, например, непосредственно помогал изобличению антипартийного оппортунистического руководства в Рассказовском и Козловском районах Центрально черноземной области…
Мной были подобраны для печати материалы, разоблачающие вредительскую деятельность ряда ветеринарных работников, виновных в чрезмерном падеже скота и свиного поголовья. Начальник ветеринарного управления Викторов вскоре был арестован, приговорен к высшей мере наказания, и, как потом выяснилось, эти материалы были тоже использованы как обвинительные.
В 1936 г. в «Сталинградской правде» был напечатан мой фельетон, нанесший удар по троцкисту Будняку, директору завода «Баррикады». А в 1937 г. в Сталинградском управлении НКВД мне сообщили, что Будняк расстрелян, а фельетон приобщен к делу как один из уличающих материалов…
Я сдал в НКВД материалы:
Об антисоветской агитации, проводившейся отдельными лицами и группой лиц, работавших в литературе и искусстве, в частности, о клеветнических произведениях местных писателей Г. Смольякова, И. Владского[194] и других (осуждены органами);
О систематической вражеской агитации, которую вел финский подданный, артист Сталинградского драмтеатра Горелов Г. И., прикрываясь симуляцией помешательства (осужден в 1941 г.);
О враждебной дискредитации Терентьевым Ф. И. знаменитого советского писателя А. Н. Толстого на банкете в редакции в 1936 г.
Должен сообщить Вам, что мною были доложены также факты антисоветских настроений и поведения артиста Сталинградского драмтеатра Покровского Н. А. В нем глубоко заложено пренебрежение к советской драматургии, издевательское отношение к советской культуре, ко всей нашей действительности, к коммунистам, руководящим искусством. Он особенно изощрялся в распространении анекдотов.
Из Сталинграда Дятел по поручению НКВД перебирается работать на Дальний Восток. И там берется за дело засучив рукава: «Осенью 1937 г. „Тихоокеанская звезда“ напечатала мой фельетон „Под вывеской музыкальной комедии“, который вскрыл в Хабаровском театре группу антисоветчиков. Эта группа была репрессирована».
Какая неутомимость! Какой масштаб! От вредительства — до анекдотов, от ветеринаров — до артистов оперетты! «Это только то, что удается сейчас вспомнить», — с подобострастным усердием замечает Дьяков.
Началась война. Фронта Дьяков сумел избежать — получил броню. Пока другие гибли под пулями, он продолжал карабкаться вверх по служебной лестнице: перебрался в Москву на руководящие посты в ЦК ВЛКСМ, издательство «Молодая гвардия». И вот вершина карьеры — главный редактор художественных фильмов Министерства кинематографии. И тут он «боролся с вредными, безыдейными сценариями» и с их авторами, сообщая о «подрывной работе ряда лиц в советской кинематографии».
С этой вершины он и слетел — попался в сеть той всеохватной 58-й статьи, которую сам помогал плести. Какая жестокая несправедливость! И как не вовремя! Ведь «лица, насквозь пропитанные буржуазным эстетством и насаждавшие голливудские нравы в сценарно-режиссерском деле, до сих пор гнездятся в некоторых звеньях советского кино. Я, с помощью министра кинематографии И. Г. Большакова, начал постепенно выявлять этих лиц и, если бы не мой арест, сумел бы до конца их разоблачить».
Но и в неволе не может Дятел угомониться:
Хотя я сейчас нахожусь в лагере, но меня не покидает беспокойство: в отдельных киноорганизациях находились лица, которые по собственной, а может быть, по чужой воле вредили делу дальнейшего подъема советской кинематографии, стремились выхолащивать идейную направленность наших фильмов. Все это я подробно изложил в заявлении от 29 мая 1950 г. на имя министра Госбезопасности.
И стучит, стучит — строчит все новые заявления в НКВД на бесчисленных, заполонивших весь свет врагов народа.
В лагере талантливые «дятлы» тоже очень нужны:
В октябре 1950 г. в Озерлаге, на лагерном пункте 02 я выдал Органам письменное обязательство содействовать им в разоблачении лиц, ведущих антисоветскую агитацию. Это содействие я оказываю искренне, честно и нахожу в этом моральное удовлетворение, осознание, что я здесь, в необычных условиях, приношу известную пользу общему делу борьбы с врагами СССР.
И все же какая страшная ирония судьбы, какая обида! За что он так сурово наказан? Все чаще несутся из Сибири жалобные крики Дятла:
Ведь вся моя сознательная жизнь, вся моя работа должны убедить Вас в том, что я заслуживаю политического доверия…
Не допустите, чтобы зря была загублена моя жизнь, мои творческие способности. Я могу, я хочу, я должен принести еще большую пользу…
Окажите мне политическое доверие, и я всесторонне оправдаю его…
Спасите мою жизнь!..
Что же стало в конце концов с этим человеком?
Все в порядке! Вскоре после смерти Сталина он был освобожден, в числе первых реабилитирован, а поскольку в лагере кормили и содержали его куда исправней, чем других зэков, здоровье свое сохранил и продолжал плодотворно трудиться. Ходил в почетных ветеранах труда и жертвах ГУЛАГа, любил выступать перед молодежью с проповедями правды и добра.
В 1987-м вышла стотысячным тиражом его автобиографическая книга — уже не повесть, а роман-трилогия «Пережитое». Второй лик автора — Дятел — в этой эпопее, конечно, скрыт. В одном из последних интервью Дьяков продолжает давний, неразрешимый спор со своим антиподом — Александром Солженицыным:
«Кривить душой я не могу. Находясь в лагере, я, в отличие от Солженицына, наряду с негодяями встречал людей, не потерявших веру в силу ленинской правды, в конечное торжество социальной справедливости. Солженицын же все видел в черном свете».
Ну а раз писатель-соцреалист Борис Дьяков так уверенно чувствовал себя во времена гласности и провозглашенной демократии, то наверняка здравствовал и его двойник — Дятел, и тот жанр, в котором он так преуспел.
Писатели доносов.
— Слушай, — спрашивает меня мой друг, поэт Анатолий Жигулин, — ты бывал на Лубянке, скажи, что за люди там работают? Такие же, как те, что меня когда-то били?
— Да я там мало кого знаю, только архивистов. Что же до остальных, ведь они люди военные: приказали миловать — милуют, а прикажут бить — будут, наверно, бить. А вот ты мне скажи про нашего брата литератора, про того, кто сидит в писательском клубе, треплется на всякие скользкие темы, изображает из себя свободного художника. Развяжет тебе язык — а потом строчит донос. И не по приказу, а по собственной охоте! Эти-то кто? Они ведь еще больше в подлянку играют!
— Ты прав, — говорит он, — к несчастью, ты прав. Стучали, стучат и будут стучать!
Идет писательское собрание. На трибуне с пламенной речью — пожилая дама, известная общественница, автор книг о воспитании молодежи. Клеймит проклятое прошлое, ратует за перестройку. А между тем только что в печати опубликовано письмо ее сверстника, прекрасного писателя Юрия Домбровского, в котором он рассказывает, как эта дама во время оно объявила его антисоветским человеком и помогла засадить в ГУЛАГ. Домбровского давно нет в живых, а она — не опровергла, не покаялась, как ни в чем не бывало шествует по жизни.
Разворачиваю свежий номер журнала «Новый мир». Читаю подборку стихов незаслуженно забытого поэта (талантливо!), а на душе кошки скребут: из лубянских архивов знаю, что он заложил целую плеяду таких же, как он, да и более талантливых, например Даниила Андреева[195] — поэта-философа, сына известного русского классика. Надо ли теперь сообщать об этом читателю? Может, лучше узнать даровитого поэта, чем еще одного стукача?
Включаю телевизор. Ведущая передачи, пленяя зрителей лучистыми рысьими глазами и вкрадчивым голосом, вспоминает о своих давних друзьях — служителях искусства, канувших в Лету. Неужели это она — юная студентка Литературного института — давала характеристику на другого студента, яркого и многообещающего Аркадия Белинкова[196], называла его антисоветским элементом, после чего он был осужден, больше десяти лет провел в лагерях и рано ушел из жизни?
Когда наша Комиссия по наследию репрессированных писателей начала работу, тут же пошли телефонные звонки:
— Вы не имеете права этим заниматься! Это дело государственных органов! Вы еще пожалеете! Мы найдем на вас управу!
Кому наша комиссия не понравилась, встала костью поперек горла? Прежде всего тем, кому было что скрывать, чего бояться, — палачам и доносчикам. В Союз писателей и в редакции, где публиковались наши материалы, посыпались письма-угрозы вроде этих:
«Злые мстители писатели! Создав комиссию, вы доказали, что злость и яд берегли для мщения над мировым победителем — И. В. Сталиным. Какой позор!!! Вы же писатели или вы предатели? Кому же вы мстите? История никогда не простит вам предательства. История осудит тех, кто платит черной неблагодарностью товарищу Сталину. Все было справедливо. В каждой республике, области и районе судили людей коммунисты и народ их поддерживал. Все было по закону!».
«Какую злобу змеиную таят в себе отпрыски предателей родины — вот такие все они, Шенталинские — Амалинские эти, и их множество, которые чернят нашу историю и И. В. Сталина! И эта злоба их выливается на нас, старых коммунистов, которые вместе с товарищем Сталиным шли к победе. Сейчас, умышленно подливая в огонь керосин, они развалили наш Союз, чернят Армию, КГБ. Отпрыски ищут в архивах всякую грязь, лишь бы очернить И. В. Сталина, давшего нам, простым людям, жизнь…».
Были и курьезы. Работал в одной писательской организации скромный фотограф — обслуживал литераторов: запечатлевал их на собраниях, встречах с читателями, в официальной обстановке и в минуты досуга, да и просто для бытовых нужд. А по совместительству служил в КГБ — доставлял туда нужную фотоинформацию. Грянула перестройка, департизация, декагэбизация — перестроился и фотограф. Решил сменить «покупателя». Присылает в нашу комиссию письмо: не желаете ли воспользоваться моим архивом? В нем много снимков бывших репрессированных…
Что же все-таки нам делать со своими стукачами? Кто осмелится взять на себя роль Божьего суда? По большому счету стукачи уже получили наказание — исказили свое человеческое лицо, запятнали совесть, извратили душу. Сам грех предательства — уже наказание. А суд человечий?..
После указа Ельцина о рассекречивании партийных и прочих архивов начали медленно, со скрипом приоткрываться и двери спецхранов. В стране разразился архивный бум. Общество не было к нему готово. Среди наводнивших прессу открытий и разоблачений встречалось немало и несерьезных, непроверенных сенсаций, и прямой дезинформации — провокаций и фальшивок. Широко обсуждалось сотрудничество с Органами политиков, священнослужителей, писателей, ученых. Появились даже саморазоблачения — некоторые каялись в грехах доносительства, при этом чуть ли не ставя себе в заслугу подобные покаяния.
Все перемешалось — правда и ложь, смирение и гордыня — и еще больше запуталось. Из контекста истории спешили вырвать какую-нибудь отдельную сногсшибательную новость, случайную страницу и без анализа, выверенного, взвешенного взгляда пускали по свету. И главное, делалось это чаще всего не для торжества истины и справедливости, а в интересах политической борьбы, для сведения счетов, с целью свалить противника, то есть все для той же злобы дня. Людей, и без того во многом разуверившихся, растерянных от нахлынувших событий, еще больше сбивали с толку, такой подогрев только усугублял смуту и сеял недоверие.
Больное, наэлектризованное, привыкшее ко лжи общество с трудом воспринимало правду, не зная, что с ней делать. Казалось, людям вовсе и не нужна эта большая, тяжелая и опасная правда, каждый предпочитает иметь маленькую, облегченную, свою. В глобальных масштабах случилось то, что я назвал бы эффектом разбитого зеркала: единственная и неделимая правда, попадая к людям, разлеталась на мириады осколков, мелких правдоподобий, в которых уже не увидишь лицо целиком.
Поправки к энциклопедии.
Утром позвонил полковник Анатолий Краюшкин, из Архивного управления КГБ:
— Я сегодня еду в Бутово. Не хотите ли составить компанию? Думаю, вам будет небезынтересно. Это надо увидеть…
Был лучезарный, просторный день осени. После затяжных холодных дождей купол неба вдруг распахнулся, и с него приветливо глянуло солнце, пригрело и разгладило лица. И даже скучные, плоские фасады домов зажглись, заиграли, перебрасываясь золотистыми бликами в окнах. Вдоль шоссе немыми застывшими кострами пламенели деревья…
Накануне на Лубянке мне впервые показали папки из сверхсекретного фонда № 7, который здесь скрывали от посторонних глаз дольше всего, до последнего времени убеждали, что он не сохранился, исчез — навсегда. И вот… нашелся.
Было что скрывать! Фонд № 7 — это предписания к расстрелу и акты о приведении в исполнение приговоров судебных и несудебных органов бывшего СССР, а проще говоря, расстрельные списки. Начиная с 1921 года, эти документы брошюровались в толстые папки и постепенно составили гигантское собрание. Сотни томов! В них — страница за страницей — шел сплошной ряд фамилий, многие тысячи, помеченные красной галочкой: приведено в исполнение. Читать невозможно — к горлу подступал ком.
Тут, в этой многоступенчатой гробнице исторической памяти, была спрятана правда о последнем круге советского ада. И понадобилось крушение коммунистической власти, чтобы эта правда была извлечена на свет.
Архивист протянул мне папку № 182, открыл на закладке.
— Вы запрашивали данные о смерти Эфрона…
«Ты уцелеешь на скрижалях!» — написала Марина Цветаева в стихах, посвященных мужу, Сергею Эфрону. Знала бы она, на каких скрижалях кроме книг уцелеет его имя!
На дворе — осень девяносто первого. А в папке — то, что творилось ровно полвека назад, осенью сорок первого. Грохочет и горит земля, немцы приближаются к Москве, молох войны безжалостно перемалывает тысячи и тысячи наших соотечественников. И в московских тюрьмах — тоже кровавая страда, столицу спешно очищают от врагов народа, здесь — другой молох, свои собственные фашисты.
Начальнику Бутырской тюрьмы НКВД.
Майору ГБ тов. Пустынскому.
Выдайте коменданту НКВД осужденных к расстрелу нижепоименованных лиц:
1. Эфрон Сергей Яковлевич… 2… 3…
(Всего — 136 чел.).
Основание: распоряжение зам. Наркома Внутренних дел тов. Кобулова.
Начальник Тюремного управления НКВД.
Майор ГБ Никольский.
16 Октября 1941 г.
И на том же листе ниже — от руки:
АКТ.
16 Октября 1941 г. мы, нижеподписавшиеся, привели в исполнение приговоры о расстреле 136 (сто тридцать шесть) человек, поименованных выше сего.
Начальник комендантского отдела НКВД майор ГБ…
Начальник 17 отделения 1 спецотдела ст. лейтенант ГБ…
Подписи неразборчивы…
Трудно, почти невозможно сейчас представить, как все это было в тот осенний день.
Как выкликали их из камер, собирали, пересчитывали, как торопливо заталкивали в закрытые автофургоны с надписями «Мясо» или «Хлеб», выкатывали из ворот тюрьмы и мчали по московским улицам к месту расстрела — куда? Одному Богу известно. Может быть, по той же самой дороге — в Бутово?
Мы выехали с Лубянки на двух машинах: в первой кроме нас с Краюшкиным поместился журналист, уже несколько лет ведущий поиск мест массовых захоронений жертв сталинских репрессий, во второй — съемочная группа американского телевидения Эй-би-си. Дорогой я рассказал своим спутникам о небольшом исследовании, которое провел после вчерашнего знакомства с расстрельными списками. Вернувшись домой, я просто взял «Литературную энциклопедию», выписал из нее столбиком даты смерти писателей, погибших в годы террора, а рядом — истинные даты их гибели, которые стали известны из лубянских архивов. Фальсификация была налицо. Чтобы скрыть правду, сотрудники карательных органов произвольно разносили даты, намеренно их искажали. Родственникам осужденных сообщали о приговоре: «Десять лет без права переписки» — и близкие искали их, надеялись и ждали, в то время как тех уже давно не было в живых. И даже во времена так называемого раннего реабилитанса, в середине 50-х, вершители закона продолжали традицию лицемерия и лжи: указывали в справках о реабилитации лживые даты и причины смерти репрессированных. Эти даты до сих пор значатся в энциклопедиях и справочниках, научных трудах и популярных изданиях, вводя в заблуждение современников. Так уродовалась история…
— Это делалось по приказу свыше, от партруководства, — сказал Краюшкин. — А вы заметили, как сдвинуты даты — в основном на годы войны? Не случайно, пусть, мол, считают, что убиты на фронте. Такая логика!
— А что думают писатели об увековечении имен погибших коллег? — спросил журналист. — Нужен памятник, Мемориал!
— Нужен, — говорю, — но какой? Уже собирались, обсуждали. В Доме литераторов висит мемориальная доска в память о тех писателях, кто погиб на войне, — семьдесят имен. Предложили повесить такую же доску с именами репрессированных. Но ведь места не хватит, все стены будут исписаны — и внутри, и снаружи… А там — кафе, ресторан…
— Проблема! — усмехнулся Краюшкин. — Но мертвые, как говорят, сраму не имут. А вот что делать с живыми? Ведь наш архив не академическое собрание, а минное поле, он взрывоопасен, он тысячами нитей связан с сегодняшней жизнью. Ну, вот вы публикуете фамилию какого-нибудь сотрудника НКВД — палача. И поделом ему — он заслужил бесчестье. Но вы представьте себе его родных. Вдруг оказывается, что любимый дедушка, почетный человек, орденоносец, имя которого произносилось в семье с гордостью, был мучителем и убийцей. Каково принять такую правду детям, внукам? Ведь бесчестье ложится на всю семью! И сколько таких случаев! Взрывается мина замедленного действия, и от нее страдают ни в чем не повинные люди.
— У меня был другой случай, — вспоминаю я. — Прихожу к вам в архив, а мне говорят: «Мы передаем вдове писателя Эн рукописи ее мужа. Случайно сохранились в деле. Посмотрите, может быть, там есть что-то ценное для литературы». Открываю папку — а там переписка этого писателя с любовницей. И я сразу увидел его вдову: как она, больная, старая, приходит, с трепетом берет эти листки, читает… Что с ней будет?! Нет, говорю, не давайте это, не показывайте!
— Но вы же сами требуете: откройте архивы, отмените цензуру! — смеется Краюшкин.
— Закройте архивы! Введите цензуру! Для таких случаев. Есть личная тайна человека, принадлежащая ему одному. Как есть безопасность личная кроме государственной.
За окнами машины мелькают пригородные дачи. Свернули с шоссе на боковую дорогу и минут через десять встали. Вот и Бутово. Крепкая крашеная ограда, ворота с проходной будкой, из которой сразу вышел к машине какой-то человек. Как оказалось, это еще не то Бутово, в которое мы ехали. Здесь размещается дачный поселок КГБ, человек, ожидавший нас, — провожатый. За ним-то мы и заезжали.
То Бутово, которое нам было нужно, находилось чуть дальше, по другую сторону дороги. Опять забор, но потемневший, обветшалый, покосившийся. Откуда ни возьмись появился сторож — в довольно затрапезном виде, в линялом тренировочном костюмчике, всклокоченный и небритый. Почему-то совсем не помню, как мы проникли за этот забор, помню, что не сразу и не просто — чуть ли не раскручивали какую-то ржавую проволоку, скреплявшую калитку, или раздвигали доски, — хорошо отпечаталось в сознании несоответствие ожидаемого и увиденного, трагической значительности места и будничного бесхозного запустения.
И вдруг мы оказались в большом, пронизанном солнцем саду. Ряды приземистых яблонь, развесистых, с тяжелыми ветвями, полными румяных, спелых плодов, уходили в даль, казалось, бесконечную. Двинулись в глубь сада по неровной, поросшей травой земле. Заработала видеокамера американцев, сопровождаемая голосом нашего попутчика — журналиста:
— Здесь, под нами, в этой земле, на которой вырос такой роскошный сад, лежат тысячи расстрелянных людей. Сюда в самый пик репрессий из разных тюрем Москвы привозили в закрытых фургонах приговоренных. Расстрельные команды работали в страшной спешке, день и ночь, под заглушающий шум моторов. Выстраивали людей рядами над вырытым заранее рвом — и палили. Заполнив яму, забрасывали землей и готовили другую… Я опрашивал местных жителей, стариков, разыскивал свидетелей. Не хотят говорить, вспоминать об этом, да и боятся до сих пор. Но кое-что все-таки удалось узнать. Рассказывают, что вон там, направо, стоял домик, где хранилось оружие, отдыхала расстрельная команда. Это были конченые люди. Накачивались спиртом и все равно недолго выдерживали. Говорят, некоторые сходили с ума, были случаи самоубийства. Их регулярно заменяли свежими силами…
Водила своим глазом камера. Звучал нервный, с хрипотцой голос журналиста, но первоначальный напор его слабел, а слова все более казались ненужными, лишними.
Мы застыли в середине сада, окруженные со всех сторон его ослепительными плодами. Дальше идти не хотелось. Американцы, поначалу улыбчивые и шумные, примолкли, помрачнели. Изредка сад словно вздыхал — от порывов ветра качались ветви, срывались и кружились пожухлые листья.
— Бутово — одно из самых страшных мест на земле, — сказал журналист. — Но сколько еще таких! И нет на них ни памятников, ни вечного огня…
Съемки закончились. Мы уже собирались уходить, когда журналист вдруг сорвал с дерева яблоко и протянул американскому коллеге:
— Вот, возьмите на память.
Американец протянул было руку и тут же отдернул:
— Нет-нет, нет, не надо. Спасибо.
Журналист, смутившись, неловко положил яблоко на землю. Всем стало не по себе. Я взглянул на Краюшкина. Лицо его было каменным. Он что-то тихо сказал, я не расслышал.
— Что-что?
— Несчастная страна…
Лев Толстой на Лубянке.
«Не могу молчать! — поднял свой голос великий Толстой, когда царское правительство приговаривало к смертной казни террористов-революционеров. — И происходит это в России, в России, в которой народ считает всякого преступника несчастным и в которой до самого последнего времени по закону не было смертной казни. Помню, как я гордился этим когда-то перед европейцами, и вот… казни, казни, казни…».
Толстой напоминал, что в 80-х годах во всей России был только один палач, а теперь число их растет с каждым днем. Речь шла о терроре контрреволюции в ответ на террор революции — разбойные нападения крестьян на помещиков, покушения на представителей власти.
«Нельзя так жить. Я, по крайней мере, не могу так жить, не могу и не буду», — заявляет Толстой. И требует, чтобы власти или прекратили убийства, или же казнили и его самого, как «тех легкомысленных озлобленных людей, которые начали насильническую борьбу». И вывод, обращенный к власти: «Участвуя в этих ужасных преступлениях, вы не только не излечиваете болезнь, а только усиливаете ее, загоняете внутрь».
Статья Толстого потрясла мир — была перепечатана всюду. Царская власть ответила на это громогласное выступление молчанием. Зато революционеры — те, чью жизнь защищал писатель, — не молчали. В том же 1908 году Владимир Ульянов-Ленин опубликовал свою статью «Лев Толстой как зеркало русской революции», в которой не церемонился с классиком, называл его «помещиком, юродствующим во Христе», «смешным» пророком, «открывшим новые рецепты спасения человечества», утопистом и реакционером. С точки зрения Ленина, учение Толстого «лишается всякого практического смысла, всякого теоретического оправдания».
Так одним росчерком пера вождь пролетарской революции разделался с теми общечеловеческими, вечными христианскими ценностями, носителем и защитником которых был Толстой. Чем же тот не устраивал Ленина? Да как раз гуманизмом, призывом к милосердию, защитой данного Богом права человека жить независимо от того, революционер он или контрреволюционер. По существу, в двух этих статьях — Толстого и Ленина — ясно выражены две диаметрально противоположные философии: писатель видит корень зла внутри человека, а политик — вне его, в других людях, которые, таким образом, превращаются в смертельных врагов.
Увы, для будущего России Ленин оказался большим пророком, чем Толстой. Через десять лет в стране восторжествовало ленинское учение, а учение Толстого, как и предсказывал его оппонент, «лишилось всякого практического смысла». Террор революции оказался несоизмеримым с террором контрреволюции — и по количеству жертв, и по числу палачей. В такой России Толстой просто немыслим, он с ней несовместим. И живи он в годы большевистского правления, не избежать бы ему карающего меча ЧК.
Но на Лубянке Толстой все же побывал — посмертно. Были репрессированы его дочь Александра, почти все ученики, сторонники его учения — толстовцы. И слово великого писателя тоже, как оказалось, угодило в тюремный застенок…
Январь 1991-го. Глубинка России — Чувашия, город Чебоксары. Местное управление КГБ. Сотрудник комитета просматривает старое архивное дело некоего Почуева. Обычная папка, и дело, конечно, дутое, сфабрикованное, как тысячи других. В конце папки вклеен пакет, из которого ничего не подозревающий кагэбист извлекает какой-то потертый серый конвертик, а из него — листок тонкой папиросной бумаги с машинописным текстом. И глазам своим не верит: «14 декабря 1909 г. Ясная Поляна…» — а внизу крупным, размашистым почерком — подпись от руки: «Лев Толстой»!..
Тут же летит сообщение высшему начальству в Москву, а вслед за тем и само дело: Лубянка хочет удостовериться собственными глазами. Так письмо попадает ко мне — архивисты показывают его с нескрываемым ликованием. Через несколько дней, сверив подпись писателя и его правку, сделанную в письме, с известными автографами, убеждаюсь: ошибки нет, и в самом деле — Толстой.
Кто же такой этот Почуев и каким образом толстовское слово попало в его следственное дело?
Это как раз один из тех революционеров, чьи жизни защищал в свое время писатель. В 1909 году он был сослан на Урал, в Оренбург, за участие в восстании против царского правительства и работал там школьным учителем. И обратился он оттуда к яснополянскому мудрецу с вечным вопросом, с каким обращалось к тому множество русских людей: как жить, в чем состоит главная цель жизни?
Вот что ответил Толстой:
Николай Александрович, ничего не могу сказать вам такого, чего бы я не сказал в моих книгах, из которых некоторые посылаю вам.
К вашему же положению относится преимущественно то, что вы найдете в книгах «На Каждый День» в отделах: 28 авг. и июля и 27 июня. Думаю, что если человек положит главную цель своей жизни в нравственном совершенствовании (не в служении людям, а в нравственном совершенствовании, последствием которого всегда бывает служение людям), то никакие внешние условия не могут мешать ему в достижении поставленной цели. Таков мой ответ на ваш вопрос. Что же касается до улучшения вашего материального положения, то я советовал бы вам описать, если это вам не тяжело, — свою жизнь, как можно правдивее. Рассказ о том, что приходится переживать молодым, освободившимся от суеверий людям из народа, очень мог бы быть поучителен для многих. Я знаю редакторов, которые с радостью поместят в своих изданиях такого рода рассказ, само собой разумеется, если он будет хорошо написан, и хорошо заплатят за него.
Лев Толстой.

Конверт письма Л. Н. Толстого к Н. А. Почуеву от 14 декабря 1909 года.
Письмо Л. Н. Толстого к Н. А. Почуеву от 14 декабря 1909 года.
Из следственного дела Почуева.
Книги «На каждый день», о которых упоминается в письме, — сборник афоризмов и притч, составленный Толстым из произведений мыслителей разных времен и народов и собственных сочинений. По замыслу Толстого, это настольная книга для всякого, кто ищет смысл жизни, «Круг чтения» — на каждый день года, и читать ее следует не как обычную книгу, а постепенно, день за днем постигая заключенную в ней мудрость. Открыв книгу в тех местах, на которые указал Толстой, молодой учитель из Оренбурга мог извлечь для себя программу жизни, которую заповедал ему писатель. Лейтмотив ее — христианская вера, покаяние и нравственное совершенствование — как избавление от зла, царящего в мире и в человеке.
Другими словами, Толстой предостерегал своего адресата от революции, указывая на эволюцию как на естественный путь развития человеческой истории.
Совет Толстого услышан не был — об этом говорит дальнейшая судьба Николая Почуева, какой она предстает из материалов его следственного дела. И тут он не одинок — сколько таких выходцев из народа в интеллигенты не вняли заветам Толстого, а пошли по более соблазнительному и легкому пути, указанному Лениным, вынеся зло за скобки собственной личности! Это был путь не внутренней, а внешней, иллюзорной свободы, при которой человек оставался рабом, — что и доказала советская история.
Лев Толстой Почуева не убедил. Отбыв ссылку и вернувшись в родные места, в Чувашию, тот снова ринулся в революцию. Он вожак группы социал-демократов, известной нашим историкам своим письмом-обращением к Ленину. Поиск истины привел к другому учителю.
И после Октября он — в авангарде строителей социализма. Первым вступил в колхоз. Портрет его как видного революционера Чувашии был выставлен в республиканском музее.
До 1937 года… когда его настигла «награда» за преданное служение делу Ленина: тройка НКВД приговорила его к десяти годам лагерей. Оттуда он не вернулся[197].
Революция пожирает своих детей. Зло порождает зло, враг порождает врага — круговорот взаимного уничтожения.
Вместе с Почуевым было арестовано и письмо Толстого, среди других бумаг. Как видно, Органы оно совершенно не интересовало, в следственном деле о нем нет ни слова. «Лишено всякого практического смысла»… Письмо классика бесследно исчезает в архиве — до наших дней, пока случай не извлек его из забвения.
Современники не услышали Толстого. Услышим ли мы его теперь?
Полным голосом.
Сгинул Союз советских писателей — выжила литература.
Ибо кроме официально-парадной ее истории, которая вошла в наши учебники и энциклопедии, есть и другая история — подлинной литературы, свободной от определения «советская». Теперь, оглядывая свое прошлое без внешних препон и шор, мы открываем ее во всей полноте и глубинной сути. И видим, что она, продолжая крестный путь русского Слова, в советское время не только не погибла, но и сопротивлялась духовному рабству. И были в ней не только дутые величины, но и достойные вечных памятников.
В 1919 году ЧК арестовала Александра Блока. Поэт провел тогда в тюрьме всего две ночи, в общей камере, среди разномастного, разномыслящего люда. Было там, как рассказывают, всех помаленьку — и монархисты, и кадеты, и меньшевики, и эсеры — и все они до самого утра горячо спорили. О чем же? Конечно, о будущем России. Лишь один Блок отрешенно молчал. Устав наконец от полемики, обратились к нему:
— А вы, что вы думаете, Александр Александрович?
— Все это очень занятно и интересно, — отвечал Блок. — Но вот куда деваться в вашем будущем художнику с его бездомным ремеслом?
Восторжествовала революция, которую, кстати сказать, сам Блок призывал и приветствовал, и художники, желающие служить не ей, а своему независимому ремеслу, оказались не ко двору, попали в немилость. Конечно, настоящий художник всегда не в ладах со временем, всегда впереди него, ради более достойного человеческого существования. Но все же любая бездомность лучше, чем место на нарах в тюремной камере или лагерном бараке.
Потрясенные открывшейся бездной зла, мы еще не в состоянии до конца осмыслить свое недавнее прошлое, извлечь из него исторический урок, мы еще пребываем в растерянном оцепенении перед ним, как перед братской могилой. Нам еще предстоит компенсировать духовное ограбление народа, собрать нашу литературу по частям, как расколотое зеркало правды.
Казнь литературы началась с первых дней советской власти. Были писатели, погибшие еще в пору Красного террора, как Николай Гумилев. Немало лучших мастеров слова оказались в вынужденной эмиграции и уже никогда не смогли вернуться на родину. И последние безысходные ноты перед преждевременной смертью Александра Блока — «Все звуки прекратились… Никаких звуков нет…», Сергея Есенина — «В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей…», Владимира Маяковского — «У меня выходов нет… Сериозно — ничего не поделаешь…» — звучат сигналами бедствия во все более удушающей общественной атмосфере.
Гонения и расправы следовали без перерывов, нарастающими ударами. В 1922-м Ленин и Троцкий руками ГПУ обескровили нашу философскую и научную мысль, изгнали из страны цвет интеллигенции. С конца 20-х годов — новая кампания против мыслящих, независимых художников, зачисленных в «попутчики», открывается массовый счет их уничтожения. Вслед за коллективизацией, разорением крестьянства — кормильца страны — была успешно проведена и коллективизация литературы, духовной житницы — упразднением всех писательских организаций и созданием единого и единственного Союза писателей — своего рода зоны ГУЛАГа, без колючки, но со своим карательным режимом. Дальше — больше, уничтожали уже не одних «попутчиков», а и своего брата — коммуниста. Коса смерти размахалась, валит почти без разбора. Из шестисот делегатов Первого съезда писателей СССР казнили более трети. Тогда же в кровавом кошмаре Большого террора погибли герои этой книги: Бабель, Флоренский, Пильняк, Мандельштам, Клюев…
Диапазон репрессий против писателей был всеохватен. Не только расстрелянные и заточенные в тюрьмы и лагеря, не только высланные на окраины страны и за ее пределы, а и те, кто сам не был за колючей проволокой, но чья жизнь исковеркана, чьи книги запрещались, чье творчество репрессировано. Одни доведены до самоубийства, как Марина Цветаева, другие долгие годы не печатались, подвергались травле, как Михаил Булгаков, Андрей Платонов, Анна Ахматова, Борис Пастернак, Александр Солженицын. Репрессии и то, что многие художники вынуждены были «встать на горло собственной песне» и, начав ярко, многообещающе, кончили бледными здравицами во славу. Убили в себе талант, чтобы сохранить жизнь. Репрессии и то, что множество «искр божьих» вообще не смогло вспыхнуть — при удушье. И если мы скажем, что всякий талант был обречен у нас на репрессии, уже по самой природе творчества, противной насилию, — это будет страшная, но правда.
Метя в талант — казнили саму душу народа.
Это строки узницы Колымы Елены Владимировой. Звучат как завещание, послание в сегодняшний день. Кажется, не написано на хрупком листке, а высечено на камне. На камне, поставленном у распутья человеческой истории.
Иллюстрации.

Подготовка очередного процесса над «врагами народа».
Так создавались архивы Лубянки — гробница нашей исторической памяти.

Изучение следственных дел репрессированных писателей.
Сотрудники КГБ, Прокуратуры и автор книги. Лубянка, 1990.

A. M. Горький, А. Мальро, И. Э. Бабель, M. E. Кольцов.
Тессели, Крым. 1936.

И. Э. Бабель на похоронах И. Ильфа. Москва. Апрель 1937.

Исаак Эммануилович Бабель. 1939.
Фото из следственного дела.
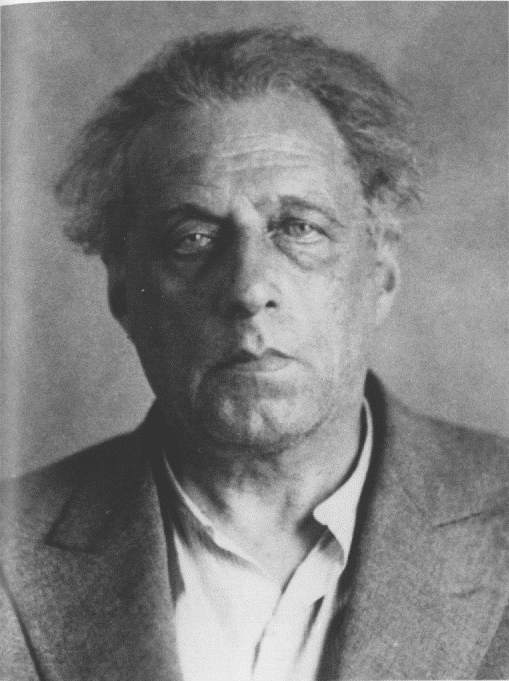
Всеволод Эмильевич Мейерхольд. 1939.
Фото из следственного дела.

И. В. Сталин и Л. П. Берия. Конец 1930-х.

Михаил Афанасьевич Булгаков. 1926.

И. Н. Никитинский, М. А. Булгаков и Е. Д. Понсова.
На даче в Крюкове. 1926.

М. А. Булгаков (сидит в центре), только что вернувшийся с допроса на Лубянке, среди участников спектакля «Дни Турбиных».
Московский Художественный театр. 1926.

Михаил Афанасьевич Булгаков. 1929.

Отец Павел Флоренский. 1912.

Отец Павел Флоренский. 1933.
Фото из следственного дела.

Отец Павел Флоренский в лагере на мерзлотной станции.
Сковородино. 1934.
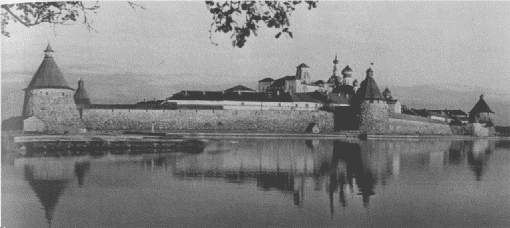
Соловецкий монастырь, в котором в 1923–1939 гг. размещался первый в СССР концлагерь.
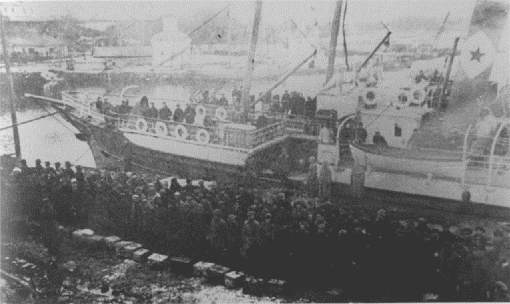
Соловецкий лагерь особого назначения.
Доставка новой партии заключенных. 1928.

Николай Алексеевич Клюев. Около 1900.

Николай Алексеевич Клюев. 1931.
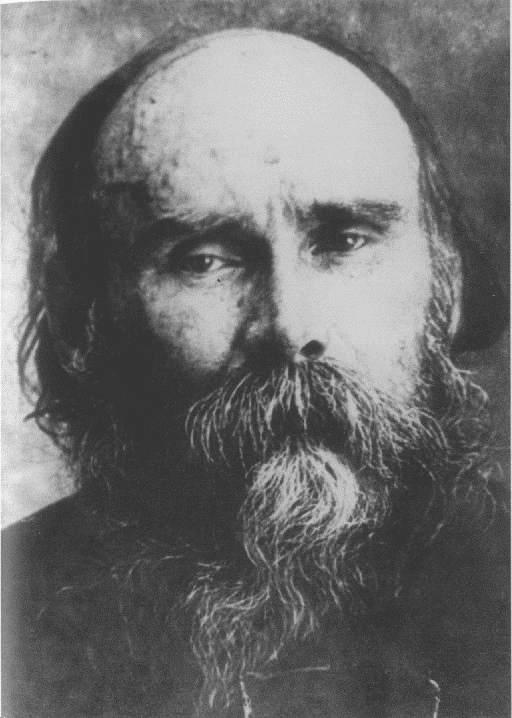
Николай Алексеевич Клюев. 1934.
Фото из следственного дела.

Открытка, которую О. Э. Мандельштам прислал матери из Парижа в феврале 1908 года.

Фрагмент этой открытки. О. Э. Мандельштам на переднем плане.
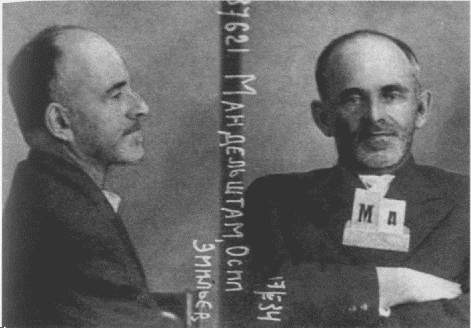
Осип Эмильевич Мандельштам. 1934. Фото из следственного дела.

Осип Эмильевич Мандельштам. 1938. Фото из следственного дела.

Нина Ивановна Гаген-Торн. 1916.

Нина Ивановна Гаген-Торн в лагере.
Колыма. Конец 1930-х — начало 1940-х.

Георгий Георгиевич Демидов. 1938.

Георгий Георгиевич Демидов. 1946(?).
Фото из следственного дела.

Юрий Осипович Домбровский. 1932. Фото из следственного дела.
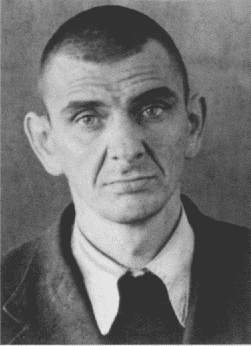
Юрий Осипович Домбровский. 1949. Фото из следственного дела.
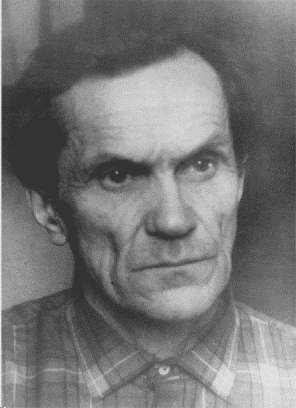
Варлам Тихонович Шаламов. Начало 1960-х.

Колыма, больница Севлага, пос. Беличье. Заключенный В. Т. Шаламов (слева) проводит политинформацию. 1944.

Анатолий Владимирович Жигулин. 1960.

Колыма — полюс лютости Архипелага ГУЛАГ.
Кладбище заключенных.

Один из самых страшных колымских концлагерей — Бутугычаг.

Борис Андреевич Пильняк в Америке. 1931.

Борис Андреевич Пильняк. 1937. Фото из следственного дела.


К. Е. Ворошилов, В. М. Молотов, И. В. Сталин, Н. И. Ежов (и без него) на канале Москва-Волга. Одна и та же фотография, опубликованная в разные годы.

A. M. Горький с сыном Максимом, снохой Надеждой (Тимошей) и внучками Марфой и Дарьей. 1920-е.

В гостях у ОГПУ. Горький на Соловках. 1929.

Шеф ОГПУ Г. Г. Ягода, А. М. Горький и его секретарь П. П. Крючков.
1930-Е.

Участники Всесоюзного съезда пролетарских писателей.
Москва, 1928.

Союз советских писателей выходит на праздничную демонстрацию. Двор «Дома Ростовых».

Участники митинга требуют расправы над «врагами народа».
1937.
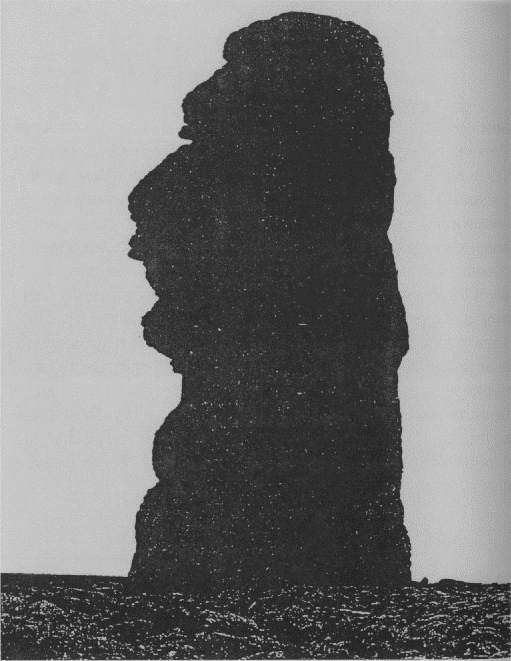
Идол советской истории — Иосиф Сталин.
Каменный столп-изваяние, сохранившийся на территории одного из лагерей в Восточной Сибири.
Библиография.
Общее.
Блюм А. В. Советская цензура в эпоху тотального террора: 1929–1953. СПб.: Академический проект, 2000.
Большая цензура: Писатели и журналисты в Стране Советов. 1917–1956 / Под ред. акад. А. Н. Яковлева; сост. Л. В. Максименков. М.: МФД, 2005 (Россия. XX век. Документы).
Бутовский полигон, 1937–1938 гг.: Книга Памяти жертв политических репрессий. М.: Альзо, 1997–2004. Вып. 1–8.
Верните мне свободу! Деятели литературы и искусства России и Германии — жертвы сталинского террора / Ред-сост. В. Ф. Колязин. М.: Медиум, 1997.
Власть и художественная интеллигенция: Документы ЦК РКП(б) — ВКП(б), ВЧК — ОГПУ — НКВД о культурной политике.1917–1953 / Под ред. акад. А. Н. Яковлева; сост. А. Артизов, О. Наумов. М.: МФД, 1999 (Россия. XX век. Документы).
Возвращение: Сборник / Сост. Е. И. Осетров, О. А. Салынский. М.: Советский писатель, 1991.
В тисках идеологии: Антология литературно-политических документов / Сост. К. Аймермахер. М.: Книжная палата, 1992.
Высылка вместо расстрела. Депортация интеллигенции в документах ВЧК-ГПУ. 1921–1923. М.: Русский путь, 2005.
Геллер М. Концентрационный мир и советская литература. London: Overseas Publications Interchange Ltd., 1974.
Громов E. C. Сталин: власть и искусство. М.: Республика, 1998.
Громова Н. А. Узел. Поэты: дружбы и разрывы: Из литературного быта конца 20–30-х годов. М.: Эллис Лак, 2006.
Доднесь тяготеет: В 2 т. / Сост. С. С. Виленский. М.: Возвращение, 2004.
Есть всюду свет… Человек в тоталитарном обществе / Сост. С. С. Виленский. М.: Возвращение, 2000.
За что? Проза, поэзия, документы / Сост. В. Шенталинский, В. Леонович. М.: Новый ключ, 1999.
Иванов-Разумник: Писательские судьбы. Тюрьмы и ссылки. М.: Новое литературное обозрение, 2000.
История советской политической цензуры: Документы и комментарии / Сост. З. К. Водопьянова и др. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1997.
Китеж: Сборник / Сост. В. Б. Муравьев. М.: Возвращение, 2006.
Конквест Роберт. Большой террор. Firenze: Edizioni Aurora, 1974.
Куняев С. Ю. Куняев С.С. Растерзанные тени. Избранные страницы из «дел» 20–30-х годов. М.: Голос, 1995.
«Литературный Фронт». История политической цензуры 1932–1946 гг.: Сборник документов / Сост. Д. Л. Бабиченко. М.: Энциклопедия российских деревень, 1994.
Мозохин О. Б. Право на репрессии: Москва-Жуковский, Кучково поле, 2006.
Написано в тюрьме. XX век. Россия: Сборник / Сост. В. Корнилов. М.: Издание Русского ПЕН-центра, 1998.
Обречены по рождению… По документам фондов: Политического Красного Креста. 1918–1922; Помощь политзаключенным. 1922–1937 / Сост. Л. Должанская, И. Осипова. СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2004.
Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил НКВД, 1934–1941: Справочник / Общество «Мемориал», РГАСПИ, ГАРФ. М.: Звенья, 1999.
Поэзия узников ГУЛАГа: Антология / Под общ. ред. акад. А. Н. Яковлева; сост. С. С. Виленский. М.: МФД: Материк, 2005 (Россия. XX век. Документы).
Распятые. Писатели — жертвы политических репрессий. Вып. 1–6 / Сост. З. Л. Дичаров. СПб., 1993–2000.
Расстрельные списки. Москва, 1937–1941. «Коммунарка», Бутово: Книга Памяти жертв политических репрессий. М.: Звенья, 2000.
Расстрельные списки. Москва, 1937–1953. Донское кладбище: Книга Памяти жертв политических репрессий. М.: Звенья, 2005.
Росси Жак. Справочник по ГУЛАГу: В 2 ч. М.: Просвет, 1991.
Русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. Т. 1–5 / Гл. ред. П. А. Николаев. М.: Сов. энциклопедия — Большая Российская энциклопедия. 1989–2007.
Русские писатели 20 века: Биографический словарь / Гл. ред. и сост. П. А. Николаев. М.: Большая Российская энциклопедия, 2000.
Русские писатели. XX век: Биобиблиографический словарь в 2 частях. М.: Просвещение, 1998.
Сарнов Б. М. Сталин и писатели. Кн. 1. М.: Эксмо, 2008.
Система исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923–1960: Справочник / Общество «Мемориал», ГАРФ. Сост. М. Б. Смирнов. М.: Звенья, 1998.
Соколов Б. В. Сталин, Булгаков, Мейерхольд…: Культура под сенью великого кормчего. М.: Вече, 2004.
Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ: 1918–1956: Опыт художественного исследования. I–VII. Paris: Ymka-Press, 1973–1975.
Средь других имен: Сборник / Сост. В. Б. Муравьев. М.: Московский рабочий, 1990.
«Счастье литературы». Государство и писатели. 1925–1938: Документы / Сост. Д. Л. Бабиченко. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1997.
Фрезинский Б. Писатели и советские вожди. М.: Эллис Лак, 2008.
Шенталинский В. А. Донос на Сократа. М.: Формика-С, 2001.
Шенталинский В. А. Рабы свободы: В литературных архивах КГБ. М.: Парус, 1995.
Шенталинский В. А. Преступление без наказания. М.: Прогресс-Плеяда, 2007.
Прошу меня выслушать. Исаак Бабель.
Воспоминания о Бабеле: Сборник / Сост. А. Н. Пирожкова, Н. Н. Юргенева. М.: Книжная палата, 1989.
Жолковский А. К., Ямпольский М. Б. Бабель/Ваье1. М.: Carte blanche, 1994.
Лившиц Л. Я. Вопреки времени. Иерусалим; Харьков, 1999.
Маркиш (Ш.) С.П. Бабель и другие. 2-е изд. М.; Иерусалим: Персональная творческая мастерская «Михаил Щиголь», 1997.
Пирожкова А. Семь лет с Исааком Бабелем. Нью-Йорк: Slovo-Word, 2001.
Поварцов С. Причина смерти — расстрел: Хроника последних дней Исаака Бабеля. М.: Терра, 1996.
Мастер глазами ГПУ. Михаил Булгаков.
Белозерская-Булгакова Л. E. Воспоминания / Сост. И. Белозерский. М.: Художественная литература, 1989.
Воспоминания о Михаиле Булгакове: Сборник / Сост. Е. С. Булгакова, С. А. Ляндрес. М.: Советский писатель, 1988.
Дневник Елены Булгаковой / Сост. В. И. Лосев, Л. М. Яновская. М.: Книжная палата, 1990.
Паршин Л. К. Чертовщина в Американском посольстве в Москве, или 13 загадок Михаила Булгакова. М.: Книжная палата, 1991.
Сахаров В. И. Михаил Булгаков: писатель и власть. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000.
Соколов Б. В. Булгаковская энциклопедия. М.: Локид; Миф, 1996.
Чудакова М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова. М.: Книга, 1988.
Русский Леонардо. Павел Флоренский.
Игумен Андроник (Трубачев). «Обо мне не печальтесь…»: Жизнеописание священника Павла Флоренского. М.: Издательский Совет РПЦ, 2008.
Флоренский П. А. Арест и гибель. Уфа: Градо-Уфим. Богород. церковь, 1997.
Флоренский П. A.: Pro et contra. Личность и творчество Павла Флоренского в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология. 2-е изд. СПб.: РХГИ, 2001 (Русский путь).
Флоренский П., священник. Все думы — о вас. Письма семье из лагерей и тюрем 1933–1937 гг. СПб.: Сатис, 2004.
Флоренский П., священник. Детям моим… / Сост. игумен Андроник (Трубачев) и др. М.: Московский рабочий, 1992.
Флоренский П., священник. Сочинения: В 4 т. Т. 4: Письма с Дальнего Востока и Соловков. М.: Мысль, 1998.
Песня Гамаюна. Николай Клюев.
Азадовский К. М. Жизнь Николая Клюева. Документальное повествование. СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2002.
Азадовский К. М. Стихия и культура / Вступ. статья к кн.: Клюев НА. Письма к Александру Блоку: 1907–1915. М.: Прогресс-Плеяда, 2003.
Базанов В. Г. С родного берега: О поэзии Николая Клюева. Л.: Наука, 1990.
Клюев Н. А. Сердце Единорога / Вступ. статья А. И. Михайлова, сост. В. П. Гарнина. СПб.: РХГИ, 1999.
Михайлов А. И. О прозе Николая Клюева / Вступ. статья к кн. // Клюев НА. Словесное древо. СПб.: Росток, 2003.
Наследие комет. Неизвестное о Николае Клюеве и Анатолии Яре / Сост. Т. Кравченко, А. И. Михайлов. М.: Территория, 2006.
Николай Клюев: Исследования и материалы. М.: Наследие, 1997.
Пичурин Л. Последние дни Николая Клюева. Томск: Водолей, 1995.
Субботин С. И. Струя незримого колодца… / Предисл. к кн.: Венок Клюеву. 1911–2003. М.: Прогресс-Плеяда, 2004.
Улица Мандельштама. Осип Мандельштам.
Герштейн Э. Г. Мемуары. СПб.: ИНАПРЕСС, 1998.
Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама. Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1990.
Лекманов О. А. Осип Мандельштам (Серия «Жизнь замечательных людей»). М.: Молодая гвардия, 2004.
Мандельштам Н. Я. Воспоминания. М.: Книга, 1989.
Мандельштам Н. Я. Вторая книга. М.: Московский рабочий, 1990.
Мандельштам Н. Я. Третья книга: Воспоминания. М.: Аграф, 2006.
Осип Мандельштам и его время. Сб. воспоминаний / Сост. В. Крейд, Е. Нечепорук. М.: «L’Age d’Homme — Наш дом», 1995.
Поляновский Э. Гибель Осипа Мандельштама. Петербург; Париж: Издательство Гржебина, Издательство «Нотабене», 1993.
Слово и судьба. Осип Мандельштам: Исследования и материалы. М.: Наука, 1991.
Седьмое небо. Нина Гаген-Торн. Георгий Демидов.
Гаген-Торн Н. И. Вольфила… Воспоминания об Андрее Белом / Сост. В. М. Пискунова. М.: Республика, 1995.
Гаген-Торн Н. И. Memoria / Сост. Г. Ю. Гаген-Торн. М.: Возвращение, 1994.
Гаген-Торн Н. Город мой, дом мой / Сост. Г. Ю. Гаген-Торн. СПб.: Журнал «Нева», 2000.
Демидов Г. Два рассказа / Предисл. В. Шенталинского. Новый мир. 1997. № 5.
Демидов Г. Дубарь / Предисл. В. Шенталинского. Огонек. 1990. № 51.
Шаламов В. Новая книга: Воспоминания. Записные книжки. Переписка. Следственные дела / Сост. И. П. Сиротинская. М.: Эксмо, 2004.
Пуля вместо точки. Борис Пильняк.
Андроникашвили-Пильняк Б. Б. Пильняк, 37-й год / Послесловие к сб.: Пильняк Б.А. Расплеснутое время. М.: Советский писатель, 1990.
Андроникашвили-Пильняк К. Б. Беречь свое дарование // Пильняк Б. Собрание сочинений: В 6 т. М.: ТЕРРА — Книжный клуб, 2003.
Б. А. Пильняк. Исследования и материалы. Межвуз. сб. науч. трудов. Вып. 3/4. Коломна: Издательство КПИ, 2001.
Борис Пильняк: Опыт сегодняшнего прочтения. По материалам научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения писателя. ИМЛИ РАН. М.: Наследие, 1995.
Геллер М. Исчезнувший роман / Предисл. к роману: Пильняк Б. А. Двойники. London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1983.
Грякалова Н. Ю. Борис Пильняк: Антиномии мира и творчества // Пути и миражи русской культуры. СПб., 1994.
Пильняк Борис. Корни японского солнца. Савелли Дани. Борис Пильняк в Японии: 1926. М.: Три квадрата, 2004.
Буревестник в клетке. Максим Горький.
Баранов В. И. Горький без грима. Роман-исследование. М.: Аграф, 2001.
Ваксберг А. Гибель Буревестника (М. Горький: последние 20 лет). М.: Терра-Спорт, 1999.
Вокруг смерти Горького. Документы, факты, версии. М.: Наследие,2001.
Максим Горький: Pro et contra. Личность и творчество М. Горького в оценке русских мыслителей и исследователей. 1890–1910-е гг.: Антология. СПб.: РХГИ, 1997 (Русский путь).
М. Горький и его эпоха: Исследования и материалы. Вып. 1–4. М.: ИМЛИ РАН, 1989–1995.
М. Горький. Неизданная переписка. Материалы и исследования. 2-е изд. М.: ИМЛИ РАН, 2000.
Неизвестный Горький. М.: Наследие, 1994.
Примочкина Н. Н. Писатель и власть: М. Горький в литературном движении 20-х годов. М.: РОССПЭН, 1998.
Спиридонова Л. М. Горький: диалог с историей. М.: Наследие, 1994.
Спиридонова Л. М. Горький: новый взгляд. М.: ИМЛИ РАН, 2004.
Примечания.
1.
Берия Л. П. (1899–1953) — в 1938–1945 гг. нарком внутренних дел СССР, в марте-июне 1953 г. — министр внутренних дел. Расстрелян.
2.
Шварцман (Аронович) Л. Л. (1908–1955) — бывший журналист, сотрудник Секретно-политического отдела НКВД. В 1952 г. — полковник ГБ, зам. начальника следчасти МГБ СССР. После ареста симулировал сумасшествие, оговорил десятки сослуживцев. Расстрелян.
Кулешов Н. А. (1909–1970) — лейтенант ГБ.
3.
Стецкий А. И. (1896–1938) — партийный деятель.
4.
Мейерхольд В. Э. (1874–1940) — режиссер, народный артист Республики. Член ВКП(б) с 1918 г. В 1920–1938 гг. возглавлял театр в Москве (театр имени Мейерхольда). Расстрелян.
5.
Ягода Г. Г. (1891–1938) — в 1934–1936 гг. нарком внутренних дел СССР. Расстрелян по делу «Антисоветского правотроцкистского блока».
6.
Родос Б. В. (1905–1956) — полковник, сотрудник следчасти НКВД. После войны преподаватель Высшей школы МВД. Расстрелян.
7.
Воронский А. К. (1884–1937) — критик, руководитель литературного объединения «Перевал». Расстрелян.
8.
Клычков С. А. (1889–1937) — поэт, прозаик. Расстрелян.
9.
Радек (Собельсон) К. Б. (1885–1939) — партийный деятель, журналист. По официальной версии, был убит уголовниками в лагере. Однако, как выяснилось недавно, — переодетыми чекистами, по заданию Сталина.
10.
Троцкий (Бронштейн) Л. Д. (1879–1940) — политический деятель. Один из руководителей Октябрьского вооруженного восстания, член ЦК РКП(б) и ВКП(б) в 1917–1927 гг. Автор теории «перманентной революции». После того, как троцкизм был объявлен «мелкобуржуазным уклоном», исключен из партии, выслан в Алма-Ату, а затем за границу. Был убит в Мексике агентом НКВД, испанцем Р. Меркадером.
11.
Лашевич М. М. (1884–1928) — военный и партийный деятель. Зорин (Гомбарг) С. С. (1891–1937) — советский партийный деятель. Расстрелян.
12.
Правдухин В. П. (1892–1938) — прозаик, муж Л. Сейфуллиной. Расстрелян.
13.
Пятаков Г. Л. (1890–1937), Серебряков Л. П. (1890–1937) — видные революционеры и партийные деятели. Проходили по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра». Расстреляны.
14.
Евдокимов Е. Г. (1891–1940) — полномочный представитель ОГПУ по Северному Кавказу. Расстрелян.
15.
Калмыков Б. Э. (1893–1940) — первый секретарь Кабардино-Балкарского обкома ВКП(б). Расстрелян.
16.
Коробовы — семья советских металлургов Макеевского металлургического завода, новаторов производства.
17.
Михоэлс (Вовси) С. М. (1890–1848) — режиссер и актер, народный артист СССР, председатель Еврейского антифашистского комитета. Убит агентами МГБ по заданию Сталина, причем его смерть представлена как несчастный случай (наезд грузовика).
18.
Бергельсон Д. Р. (1884–1952) — еврейский писатель, член Еврейского антифашистского комитета. Расстрелян.
19.
Заболоцкий Н. А. (1903–1958) — поэт. В 1938 г. был арестован и до 1944 г. находился в заключении в лагерях.
20.
Раковский Х. Г. (1873–1941) — партийный деятель, дипломат. В 1941 г. расстрелян в Орловском централе.
21.
Туполев А. Н. (1888–1972) — авиаконструктор, академик АН СССР. В 1939 г. арестован и посажен в лагерь. Освобожден во время Великой Отечественной войны, реабилитирован в 1960-х годах.
22.
Кольцов (Фридлянд) М. Е. (1898–1940) — журналист, основатель и руководитель многих советских популярных журналов. Расстрелян.
23.
Киршон В. М. (1902–1938) — драматург. Расстрелян.
24.
Зиновьев (Радомысльский) Г.Е. (1883–1936) — политический деятель, член ЦК РСДРП, РКП(б) и ВКП(б) в 1907–1927 гг.; Каменев (Розенфельд) Л.Б. (1883–1936) — политический деятель, член ЦК РКП(б) и ВКП(б) в 1917–1927 гг. Расстреляны по делу «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра».
25.
Бухарин Н. И. (1888–1938) — политический деятель. Член ЦК РКП(б) и ВКП(б) в 1917–1934 гг. В конце 20-х годов выступил против применения чрезвычайных мер при проведении коллективизации и индустриализации, что было объявлено «правым уклоном». Расстрелян по делу «Антисоветского правотроцкистского блока».
26.
Ежов Н. И. (1895–1940) — в 1936–1938 гг. нарком внутренних дел СССР. Расстрелян.
27.
Урицкий С. Б. (1893–1940) — директор Всесоюзной книжной палаты. Расстрелян.
28.
Ионов (Бернштейн) И.И. (1887–1942) — поэт, издатель. Арестован в 1937 г. и умер в 1942-м в Севлаге.
29.
Нарбут В. И. (1888–1938) — поэт. Расстрелян на Колыме.
30.
Седов Л. Л. (1906–1938) — старший сын Троцкого, его секретарь и помощник, вместе с отцом покинул СССР, умер во Франции в 1938 г., при загадочных обстоятельствах, как предполагают, от рук агентов НКВД.
31.
Сериков П. А. (1910-?) — следователь НКВД, уволен в 1948 г. «за невозможностью дальнейшего использования».
32.
Примаков В. М. (1897–1937) — комкор, зам. командующего Ленинградским военным округом; Шмидт (Гутман) Д.А. (1896–1937) — комбриг; Зюк М. О. (1895–1937) — комбриг; Кузьмичев Б. И. (1900–1937) — майор, нач. штаба 18-й авиабригады; Охотников Я. О. (1897–1937) — управляющий Гипроавиа; Дрейцер Е. А. (1894–1936) — б. комиссар Омской стрелковой дивизии, зам. директора Челябинского завода «Магнезит»; Путна В. К. (1893–1937) — комкор, военный деятель. Расстреляны.
33.
Косарев А. В. (1903–1939) — комсомольский и партийный деятель. Расстрелян.
34.
Райзман Д. А. (1901-?) — ст. лейтенант ГБ. Уволен из МВД после XX съезда КПСС, когда очищали органы от «нарушений законности».
35.
Главное управление по делам литературы и издательств, выполнявшее функции цензуры.
36.
Брат писателя Андре Мальро.
37.
Рогинский Г. К. (1895-?) — зам. Прокурора СССР, ближайший сподвижник Вышинского, курировал органы НКВД, присутствовал при казнях. В 1941 г. осужден на 15 лет ИТЛ. Умер в лагере.
38.
Гликина З. Ф. (1901–1940) — сотрудница иностранной комиссии Союза писателей СССР, подруга Е. С. Хаютиной-Ежовой. Расстреляна.
39.
Рыков А. И. (1881–1938), Розенгольц А. П. (1889–1938), Шарангович В. Ф. (1897–1938) — партийные и государственные деятели. Расстреляны по делу «Антисоветского правотроцкистского блока».
40.
Сокольников (Бриллиант) Г.Я. (1888–1939) — государственный деятель. По официальной версии был убит в тюрьме уголовниками, но, как выяснилось недавно, чекистами.
41.
Кобулов Б. З. (1904–1953) — начальник следчасти НКВД СССР, ближайший сотрудник Берии. Расстрелян.
42.
Смирнов И. Н. (1881–1936) — партийный деятель. Расстрелян по делу «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского блока».
43.
Бельский Л. Н. (Левин А. М.) (1889–1941) — в 1936–1938 гг. зам. наркома внутренних дел СССР, ближайший сотрудник и помощник Ежова. Расстрелян.
44.
Сергиенко В. Т. (1903–1982) — майор ГБ, начальник следчасти ГУГБ НКВД. Уволен из МВД в 1954 г. «по фактам дискредитации высокого звания генерала».
45.
Гренц Г. Г. (1890–1940) расстрелян.
46.
Тумерман Л. А. (1898–1986) — профессор физики. Был осужден в 1948 г. к 25 годам лагерей. Освобожден в середине 1950-х, с 1972 г. жил в Израиле.
47.
Ульрих В. В. (1889–1951) — армвоенюрист, генерал-полковник юстиции. В 1926–1948 гг. председатель Военной коллегии Верховного суда СССР; Кандыбин Д. Я. (1888–1955) — военюрист 1-го ранга, в 1935–1945 гг. член BK ВС СССР. Арестован в 1950 г.; Дмитриев Я. П. (1892–1975) — в 1928–1937 гг. член BK ВС СССР. Впоследствии Народный комиссар юстиции, Председатель ВС РСФСР.
48.
Якир И. Э. (1896–1937) — военный деятель, командарм 1-го ранга. Расстрелян.
49.
Блохин В. М. (1895–1955) руководил расстрелами с 1924 г., но, несмотря на «тяжелую работу», стал долгожителем. В апреле 1953-го генерал-майора Блохина уволили по болезни с объявлением благодарности за «безупречную службу» в органах ОГПУ-НКВД-МГБ-МВД СССР. Однако через полтора года он был лишен генеральского звания «как дискредитировавший себя за время работы в органах… и недостойный в связи с этим высокого звания генерала».
50.
Гендин С. Г. (1902–1939) — оперативный работник и следователь ОГПУ-НКВД, инспектор Особого отдела ГУГБ НКВД, заместитель начальника Разведывательного управления штаба РККА. Расстрелян.
51.
Дерибас Т. Д. (1883–1938) — в 1923–1929 гг. начальник Секретного отдела ГПУ-ОГПУ. В 1934–1937 гг. — начальник УНКВД Дальневосточного края. Расстрелян.
52.
Большаков К. А. (1895–1938) — поэт и прозаик. Расстрелян; Буданцев С. Ф. (1896–1940) — поэт, прозаик. Умер в лагере на Колыме; Зубакин Б. М. (1894–1938) — поэт, философ. Расстрелян; Савкин Л. Н. (Забелин Е.) (1905–1943) — поэт. Умер в лагере на Колыме.
53.
Славатинский А. С. (1892–1939) — сотрудник Секретно-политического отдела ОГПУ-НКВД, заместитель начальника УНКВД по Саратовской обл. Расстрелян.
54.
Лебедев-Полянский П. И. (1881–1948) — деятель литературы, критик, литературовед. В 1921–1930 гг. возглавлял Главлит, один из создателей советской цензуры.
55.
Врачев Г. Я. (1897–1937) — оперуполномоченный Пятого отделения Секретного отдела ОГПУ («антисоветские проявления среди интеллигенции и молодежи, правые группы и партии»). Расстрелян.
56.
Паукер К. В. (1893–1937) — в 1923–1934 гг. начальник Оперативного отдела ГПУ-ОГПУ. Расстрелян.
57.
Файман Г. Лубянка и Михаил Булгаков // Русская мысль. 1995. № 4080. 1–7 июня.
58.
В редакции газеты «Гудок» Булгаков работал литобработчиком читательских писем и фельетонистом.
59.
В угловые скобки заключены пропущенные и восстановленные буквы и слова.
60.
«Накануне» — ежедневная газета русской эмиграции, выходившая в Берлине.
61.
Ангарский (Клестов) Н.С. (1873–1941) — общественный деятель, литературный критик, издатель. Расстрелян.
62.
Василевский (Небуква) И.М. (1882–1938) — писатель. Расстрелян.
63.
РОСТА — Российское телеграфное агентство.
64.
Осведомительное агентство — пропагандистский орган Белой армии.
65.
Издания русской эмиграции.
66.
Левидов М. Ю. (1891–1942) — журналист, критик, драматург. Расстрелян.
67.
Рутковский А. Ф. (1894–1943) — с 1921 г. начальник различных отделений Секретного отдела ВЧК-ГПУ-ОГПУ. В 1941 г. осужден на 10 лет лагерей. Умер в Приволжлаге.
68.
Московский комитет «Помощи политическим заключенным» — Политический Красный Крест (ПКК) был создан после Февральской революции 1917 г. и закрыт в 1937-м.
69.
Шиваров Н. Х. (1898–1940) — оперативный работник и следователь ВЧК-ОГПУ-НКВД. В 1937 г. арестован, умер в лагере (покончил жизнь самоубийством).
70.
Новокшенов И. М. (1895–1943) — прозаик, драматург. Осужден в 1938 г., умер в заключении.
71.
Смирнов А. П. (1878–1938) — партийный и государственный деятель, секретарь ЦК ВКП(б). Расстрелян.
72.
Лернер Н. Н. (1884–1946) — литератор, драматург; автор ряда исторических пьес.
73.
Главискусство — сектор искусств Наркомпроса РСФСР.
74.
Енукидзе А. С. (1877–1937) — партийный и государственный деятель. Расстрелян.
75.
Замятин Е. И. (1884–1937) — прозаик. Подвергался арестам в 1919 и в 1922 гг., когда намеченная высылка его за границу была отменена вследствие ходатайства друзей. В 1931 г. после письма Сталину смог эмигрировать в Париж.
76.
Станиславский (Алексеев) K.C. (1863–1938), создатель и руководитель МХАТа, вместе с В. И. Немировичем-Данченко (1858–1943).
77.
Егоров Н. В. (1873–1955) — зам. директора по административно-хозяйственной части, зав. финансовой частью МХАТа.
78.
Наркомнац — нарком по делам национальностей; РКИ — Рабоче-крестьянская инспекция.
79.
Попов П. С. (1892–1964) — филолог, первый биограф М. А. Булгакова. В 1930–1932 гг. был выслан из Москвы.
80.
Агранов Я. С. (Сорензон Я. Ш.) (1893–1938) — зам. председателя ОГПУ и зам. наркома НКВД. Чекистский куратор писателей, сыгравший черную роль в судьбе многих из них. Расстрелян.
81.
Под этим диким сокращением значился Всероссийский комитет драматургов.
82.
Главный концессионный комитет.
83.
Эрдман Н. Р. (1900–1970) — драматург, сценарист, поэт. В 1933 г. был отправлен в трехлетнюю ссылку в Сибирь.
84.
Жуховицкий Э. Л. (1881–1937) — литератор, переводчик. Расстрелян.
85.
Лямин Н. Н. (1892–1942?) — филолог, специалист по романским литературам. В 1936 г. осужден на 3 года лагерей, в 1942-м приговорен снова к 8 годам.
86.
Афиногенов А. Н. (1904–1941) — драматург, автор пьесы «Салют, Испания!» Был исключен в 1937 г. из ВКП(б) и СП, через год восстановлен. Погиб в здании ЦК во время бомбежки.
87.
Булгаков С. Н. (1871–1944) — религиозный философ и писатель. В 1922 г. выслан по административному решению ГПУ за границу.
88.
Олсуфьев Ю. А. (1878–1938) — историк, искусствовед. Расстрелян.
89.
Епископ Антоний (Флоренсов) (1847–1918) был духовником Флоренского. К нему в Донской монастырь приезжали для бесед А. Блок, А. Белый, Мережковский и другие известные люди России.
90.
Тучкова С. С. (1874–1938) — тайная монахиня. Была приговорена к 3 годам ссылки в Казахстан. Арестована вновь в 1938 г. и расстреляна. Необыкновенно мужественно вела себя на следствии, которое велось очень жестоко (это указано даже при пересмотре следственного дела). Не признала своей вины, заявив: «Я уже пострадала за свои убеждения, но я готова на все. Пусть меня снова мучают в лагерях, я все равно везде буду говорить о том, что Советская власть замучила и разорила весь русский народ, но все равно придет время: русский народ расплатится со своими угнетателями…».
91.
Мамонтова А. С. (1873–1952) — дочь знаменитого промышленника, мецената искусств Саввы Мамонтова. Абрамцево — известный литературно-художественный центр в Подмосковье, близ Лавры, в настоящее время музей-заповедник.
92.
Гидулянов П. В. (1874–1937) — правовед. Расстрелян.
93.
Калечиц П. А. (1887-?) — агроном. Осужден в 1931 г. к 10 годам концлагеря. В 1932-м досрочно освобожден, выслан на Урал. Видимо, использовался в качестве «наседки» — провокатора и доносчика.
94.
Чаплыгин С. А. (1869–1942) — академик, специалист по механике, директор Центрального Аэрогидродинамического института; Лузин Н. Н. (1883–1950) — академик, математик, профессор Московского университета.
95.
Радзивиловский А.(И.)П.(М.) (1904–1940) — в 1935–1937 гг. зам. начальника УНКВД Московской обл. Расстрелян.
96.
Миронов (Каган) Л.Г. (1895–1938) — начальник Экономического управления ОГПУ СССР. Расстрелян.
97.
Желатин, клей, изготовляемый из морских водорослей.
98.
Литвинов Р. Н. (1890–1937) — профессор, химик-технолог. Брянцев Н. Я. (1889–1937) — консультант Сибкрайплана, член Общества изучения Сибири. Расстреляны.
99.
Высшая мера наказания — расстрел.
100.
Чирков Ю. И. (1919–1988) — доктор геогр. наук, профессор. Арестован в 1935 г., 15-летним школьником. В заключении находился 10 лет: Соловки, Ухтижмлаг, затем 10 лет в ссылке.
101.
Апетер И. А. (1890–1938) — почетный чекист, ст. майор ГБ. Расстрелян.
Раевский П. С. (1896–1967) — капитан ГБ. В 1941 г. осужден на 8 лет ИТЛ. В лагере заведовал изолятором на штрафном пункте и был выпущен на свободу раньше срока. А в 1955 г. этот, один из главных организаторов и исполнителей соловецких расстрелов, был реабилитирован, восстановлен в звании подполковника и в КПСС (!).
102.
Так называли закрытые научно-исследовательские учреждения, в которых работали заключенные. На «шарашках» трудились, например, создатель ракетной техники Королев, авиаконструктор Туполев, биолог Тимофеев-Ресовский, писатель Солженицын.
103.
Заковский Л. М. (Штубис Г. Э.) (1894–1938) — начальник УНКВД Ленинградской обл. с 1934 г. до января 1938-го, затем зам. наркома внутренних дел СССР. Расстрелян.
104.
Поликарпов А. Р. (1897–1939) — главный исполнитель этих расстрелов в Ленинграде — был вскоре награжден «за самоотверженную работу» ценным подарком. В 1939 г. под угрозой неминуемого ареста он застрелился. В предсмертном письме начальству писал: «За весь период моей работы в органах НКВД я честно и преданно выполнял круг своих обязанностей. Последние два года были особенно напряженными по оперативным заданиям. Тов. Комиссар, я же не виноват в том, что мне давали предписания, я их исполнял, ведь мое дело в этом отношении исполнительное».
105.
Олонец — Олонецкий край на Севере России, родина многих поколений народных сказителей, очаг русской эпической традиции; оттуда родом и Клюев.
106.
Васильев П. Н. (1909–1937) — поэт. Расстрелян. Подробней о его трагической судьбе см.: Шенталинский В. А. Преступление без наказания. М.: Прогресс-Плеяда, 2007.
107.
Корсунь — древнерусское название Херсонеса, города на берегу Черного моря.
108.
Сидонский — из Сидона, древнего города в Финикии, на восточном побережье Средиземного моря; адамантовый — алмазный. По преданию, из адаманта были сделаны врата ада.
109.
Гамаюн — птица вещая в христианских легендах и апокрифах.
110.
Беломорско-Балтийский канал — одна из социалистических строек «на костях», место гибели многих тысяч заключенных.
111.
Великий Сиг — выговское общежительство старообрядцев на Онежском озере; Стратилат Феодор — христианский святой, великомученик.
112.
Толстая С. А. (1900–1957) — внучка Льва Толстого, последняя жена Сергея Есенина.
113.
Тагер Е. М. (1895–1964) — поэт, прозаик, переводчик. С 1938 г. по 1956-й находилась в заключении.
114.
Солнцева Н. М. Странный эрос. Интимные мотивы поэзии Николая Клюева. М., 2000.
115.
Пулин Л. И. (1908–1969) — в 1950–1960-е гг. работал редактором в Приокском книжном издательстве.
116.
Пустозерск — древний город на Севере России, место ссылки и казни (был сожжен в деревянном срубе) Аввакума.
117.
Крючков П. П. (1889–1938) — секретарь Горького. Расстрелян.
118.
Миронов С. Н. (Король М. И.) (1894–1940) — комиссар ГБ 3-го ранга, близкий к Ежову. Расстрелян.
119.
Яковенко М. М. Агнесса. М.,1997. Миронова-Король А. И. (1903–1981) — медицинский работник. В 1942 г. осуждена к 5 годам ИТЛ; Король М. Д. (1892–1959) — разведчик, журналист. Был арестован в 1944 г. (приговорен к 5 годам ИТЛ) и в 1950-м (приговорен к 10 годам строгого режима). Реабилитирован в 1955 г.
120.
Онего — Онежское озеро на Северо-Западе России, в Карелии; Палеостров — остров на Онежском озере, на котором был основан древнейший в Олонецком крае монастырь и где в XVII в. происходили массовые самосожжения раскольников, борцов за старую веру; лоский — блестящий, с лоском; Купала — языческий праздник летнего солнцеворота, совпадает с рождеством Иоанна Предтечи; Кижи — остров на Онежском озере, увенчанный многокупольными церквами — шедеврами русского зодчества; слава — символ божественного сияния на иконах; шелоник — поморское название юго-западного ветра; часовник — книга православных богослужений и молитв, приуроченных к «часам», то есть к службам в определенное время.
121.
Иванов-Разумник (Иванов Р. В.) (1878–1946) — критик, литературовед, мемуарист. Арестовывался в 1919, 1933 и 1937 гг., провел продолжительное время в тюрьмах и ссылках. В 1941 г. был интернирован немцами, умер в Мюнхене.
122.
Архипов Н. И. (1887–1967) — историк, журналист, искусствовед. В 1938 г. приговорен к 5 годам заключения. Реабилитирован в 1956.
123.
Китеж — легендарный город, будто бы погрузившийся во время татарско-монгольского нашествия (XIII в.) в озеро Светлояр (ныне — Нижегородская область). По народному поверью, в тихую погоду можно услышать звон китежских колоколов и увидеть утонувший город.
124.
Сирин — райская птица; бармы — оплечье, ожерелье на старинной торжественной одежде.
125.
Никола, Егорий — святые Николай Чудотворец и Георгий Победоносец, особо почитаемые в русском народе; Егорий изображается на иконах на коне повергающим копьем змея. Евпатий Коловрат — герой русских летописей и народного творчества, давший бой татарскому хану Батыю и в бою погибший. Сулица — копье.
126.
По другим данным, в Гейдельберге Мандельштам учился в 1909 г., в Берлине был в 1910-м, в Швейцарии и Италии — в 1908 и 1909 гг.
127.
Первая публикация Мандельштама — «Аполлон», № 9, 1910.
128.
В известном, опубликованном списке — «тараканьи смеются усища…».
129.
Трое из этого списка в разные годы подвергались репрессиям: доктор биологических наук Б. С. Кузин (1903–1973) и историк, географ Л. Н. Гумилев (1912–1992) содержались в тюрьмах и лагерях, поэт В. И. Нарбут (1888–1938) расстрелян на Колыме.
130.
Поскребышев А. Н. (1891–1965) — секретарь Сталина.
131.
Юревич В. И. (1906–1940) — капитан ГБ. Расстрелян.
132.
Фриновский М. П. (1898–1940) — 1-й зам. наркома внутренних дел, одновременно возглавлял ГУГБ. Один из ближайших сотрудников Ежова. По воспоминаниям Н. С. Хрущева, «здоровенный такой силач со шрамом на лице, физически могучий». Расстрелян.
133.
Маркиш П. Д. (1895–1952) — еврейский поэт, драматург. Расстрелян по делу Антифашистского еврейского комитета.
134.
Стенич В. О. (Сметанич) (1897–1938) — переводчик и критик. Расстрелян.
135.
Северо-восточные исправительно-трудовые лагеря.
136.
К.р.д. — контрреволюционная деятельность.
137.
Особое совещание.
138.
Союз советских писателей.
139.
Катанян Г. Иных уж нет, а те далече. Сохрани мою речь. М., 2000. Вып. 3.
140.
Шаламов В. Т. (1907–1982) — прозаик, поэт. Был арестован трижды. В 1929 г. осужден на 8 лет лагерей и ссылки (отбывал срок на Вишере), в 1937 г. — на 5 лет ИТЛ и в 1943 г. — на 10 лет ИТЛ (Колыма).
Домбровский Ю. О. (1909–1978) — прозаик, поэт. Арестовывался три раза. В 1932 г. был осужден на 3 года ссылки в Алма-Ату, в 1939-м — на лет ИТЛ (Колыма) и в 1949-м — на 8 лет ИТЛ (Озерлаг).
Жигулин А. В. (1930–2000) — поэт, прозаик. В 1949 г. арестован и осужден на 10 лет ИТЛ. Срок отбывал на Колыме. Реабилитирован в 1956-м.
Гинзбург Е. С. (1904–1977) — мемуаристка, мать писателя В. Аксенова. Арестовывалась в 1937 и 1949 гг. Срок отбывала на Колыме.
141.
Управление Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей.
142.
Берзин Э. П. (1893–1938) — государственный деятель. В 1917–1918 гг. возглавлял личную охрану Ленина. С 1932 по 1937 г. начальник Дальстроя. Расстрелян. Памятник ему был установлен на центральной площади Магадана, снесен в 1991-м.
143.
Гаранин С. Н. (1898–1950) — до назначения в Магадан — кадровый пограничник. Начальник УСВИТЛа с 21 декабря 1937 г. по 27 сентября 1938-го (день ареста). В 1940 г. был приговорен к 8 годам ИТЛ, умер в лагере. В 1990 г. — реабилитирован (!).
144.
Федерация объединений советских писателей (ФОСП), включавшая в себя литературные группировки, «желающие активно участвовать в строительстве СССР».
145.
РЕФ (Революционный фронт) — литературная группа, которую возглавлял Маяковский.
146.
Аросев А. Я. (1890–1938), Губер Б. А. (1903–1937), Зарудин Н. Н. (1899–1937) — прозаики. Расстреляны.
147.
Нин Перес Андрес (1892–1937) — руководитель ПОУМ, рабочей марксистской партии Испании, находившейся под влиянием троцкистов. Убит агентами НКВД.
148.
Серж Виктор (Кибальчич В. Л.) (1890–1947) — французско-русский писатель, общественный деятель. Участвовал в Гражданской войне в России, работал в Коминтерне. Выступал против сталинской политики. Был дважды арестован, отправлен в ссылку. В 1936 г. выслан из СССР.
149.
Журбенко А. С. (1903–1940) — в 1936–1938 гг. нач. 6-го (затем 9-го) отделения 4-го отдела ГУГБ НКВД, «ведавшего» писателями. Расстрелян.
150.
«Скифы» — литературная группа 1917–1918 гг., в которую входили Р. Иванов-Разумник, А. Блок, А. Белый, С. Есенин, Н. Клюев и другие известные писатели.
151.
«Серапионовы братья» — группа молодых писателей Петрограда (Н. Тихонов, М. Зощенко, В. Каверин, JI. Лунц, К. Федин, Вс. Иванов и другие), выступавшая в начале 1920-х гг. за обновление литературы и за примат искусства над идеологией.
152.
Катаев И. И. (1902–1937) — прозаик. Расстрелян.
153.
Паскаль П. (1890–1983) — французский ученый-славист. Примыкал к большевикам, входил во французскую коммунистическую группу в Москве.
154.
Веселый А. (Кочкуров Н. И.) (1899–1938) — прозаик. Расстрелян.
155.
Тухачевский М. Н. (1893–1937) — герой Гражданской войны, маршал. Расстрелян.
156.
Эйдеман Р. П. (1895–1937) — военный деятель, комкор, писатель. Расстрелян.
157.
Зарянов И. М. (1894–1975) — член BK ВС СССР. В 1955 г. «за нарушение соц. законности» лишен звания генерал-майора юстиции; Ждан П. Т. (?) — член ВК ВС СССР; Батнер А. А. (1902-?) — старший инспектор ВК ВС СССР. В 1945 г. снят с должности и уволен.
158.
Вышинский А. Я. (1883–1954) — прокурор СССР в 1935–1939 гг., государственный обвинитель на политических процессах.
159.
Закс (Гладнев) С. М. (1884–1937) — зав. Госиздатом. Расстрелян.
160.
Трилиссер М. А. (1883–1940) — один из руководителей ВЧК. Расстрелян.
161.
Чернов В. М. (1873–1952) — один из лидеров партии эсеров. В 1917 г. — министр Временного правительства, председатель Учредительного собрания. После большевистского переворота эмигрировал.
162.
Ганин А. А. (1893–1925) — поэт. Расстрелян по сфальсифицированному Лубянкой делу «Ордена русских фашистов».
163.
См. подробнее: Шенталинский В. Л. Преступление без наказания. М.: Прогресс-Плеяда, 2007.
164.
Николаев М. К. (1882–1947) — зав. книжным отделом общества «Международная книга».
165.
Речь идет о поэте Вяч. И. Иванове (1866–1949).
166.
«Руль» — белоэмигрантская газета.
167.
Главное управление профессионального образования.
168.
Вик — волостной исполнительный комитет.
169.
Волком — волостной комитет.
170.
Авербах Л. Л. (1903–1937) — партийно-советский деятель, публицист, критик. Генеральный секретарь РАПП. Расстрелян.
171.
Фирин (Пупко) С.Г. (1898–1937) — заместитель начальника ГУЛАГа, начальник строительства Беломорско-Балтийского канала. Расстрелян; Погребинский М. С. (1895–1937) — начальник ОГПУ Нижегородской обл., организатор трудовых коммун. Покончил жизнь самоубийством, оставив письмо Сталину, в котором говорилось: «Одной рукой я превращал уголовников в честнейших людей, а другой был вынужден, подчиняясь партийной дисциплине, навешивать ярлык уголовников на благороднейших революционных деятелей нашей страны».
172.
Халатов А. Б. (1896–1938) — государственный, партийный деятель. Расстрелян.
173.
Левин Л.Г (1870–1938) — доктор медицинских наук, лечащий врач Горького в 1920–1930-х. Расстрелян; Плетнев Д. Д. (1872–1941) — известный терапевт, заслуженный деятель науки РСФСР. Расстрелян; Виноградов А. И. (?-1938) — врач, проходил по делу «Правотроцкистского блока». Умер во время следствия, судя по всему, под пытками.
174.
Виноградов В. Н. (1882–1964) — профессор, терапевт, участник мед. экспертизы, давшей сфальсифицированное заключение об «убийстве» Горького. Впоследствии личный врач Сталина, в 1952 г. тоже оказался на скамье подсудимых по «делу врачей».
175.
Шейнин Л. P. (1906–1967) — в 1933–1950 гг. старший следователь Прокуратуры СССР. Драматург, прозаик.
176.
Буланов П. П. (1895–1938) — ст. майор ГБ, ближайший сотрудник Ягоды. Расстрелян.
177.
Генрих Ягода. Сборник документов. Казань, 1997.
178.
Шкапа (Гриневский) И.С. (1898–1994) — прозаик, очеркист. Арестован в 1935 г., более 20 лет провел в тюрьмах, лагерях и ссылке.
179.
Вольнов (Владимиров) И.Е. (1885–1931) — прозаик, арестовывался трижды в 1919 г., освобождался по приказу Ленина. Из-за «неблагонадежности» подвергался притеснениям советской цензуры, а после смерти книги его были запрятаны в спецхран и не переиздавались более 20 лет.
180.
Берберова Н. Н. Железная женщина: Рассказ о жизни М. И. Закревской-Бенкендорф-Будберг, о ней самой и ее друзьях. М.: Книжная палата, 1991.
181.
Одна из дач Ягоды.
182.
Сперанский А. Д. (1888–1961) — профессор, патолог, физиолог.
183.
Лурия Р. А. (1874–1944) — профессор медицины, терапевт, заслу женный деятель науки; Гинзбург Е. - доцент 1-го Московского медицинского института.
184.
Ланг Г. Ф. (1875–1948) — профессор, один из основателей отечественной кардиологии и крупнейшей терапевтической школы.
185.
Кончаловский М. П. (1875–1942) — врач, создатель русской терапевтической школы.
186.
Вигилянский Н. Д. (1903–1977) — прозаик. Арестован в 1935 г. и приговорен к 4 годам ИТЛ.
187.
Князев В. В. (1887–1937) — поэт. Арестован в 1937 г., умер в лагере на Колыме.
188.
Сандомирский Г. Б. (1882–1938) — прозаик, публицист. Расстрелян в Бамлаге.
189.
Динамов С. С. (1901–1939) — литературовед, редактор журнала «Интернациональная литература». Расстрелян.
190.
Трухин И. И. (1912–1943) — литератор. Арестован в 1941 г., приговорен к 10 годам лишения свободы. Умер в лагере.
191.
Ольхон (Пестюхин) А.С. (1903–1950) — поэт. В первой половине 1930-х годов (до 1935) находился в ссылке.
192.
Балин Александр Иванович (1890–1937) — поэт; Гольдберг И. Г. (1884–1938) — прозаик; Петров П. П. (1892–1941) — писатель. Расстреляны.
193.
Дьяков Б. А. (1902–1992) — прозаик, мемуарист.
194.
Смольяков Г. Я. (1907–1937) — поэт, прозаик; Владский И. А. (1910–1937) — прозаик. Расстреляны.
195.
Андреев Д. Л. (1906–1959) — поэт, прозаик. Арестован в 1947 г., приговорен к 25 годам тюрьмы. Содержался во Владимирской тюрьме до 1957 г.
196.
Белинков А. В. (1921–1970) — прозаик, публицист, литературовед. Арестован в 1944 г. и осужден на 8 лет ИТЛ. В заключении получил 25-летний срок. Освобожден в 1956 г., в 1968-м не вернулся из заграничной поездки, эмигрировал.
197.
Почуев Н. А. (1883–1942) — бухгалтер сельхозтехникума в г. Ядрин Чувашской АССР. Арестован в 1937 г., обвинен в том, что «вел контрреволюционную агитацию, направленную на срыв колхозного строительства». Умер в лагере от «остановки сердечной деятельности».