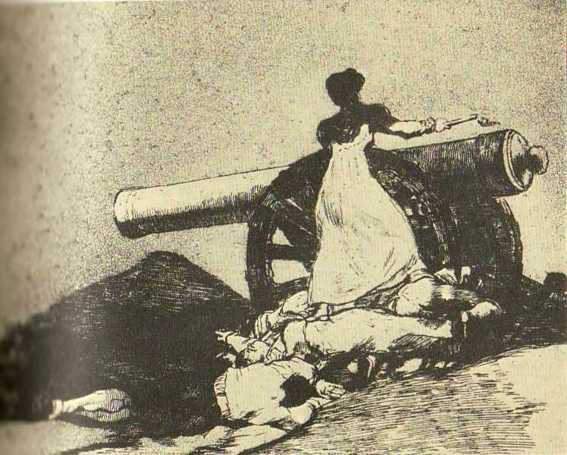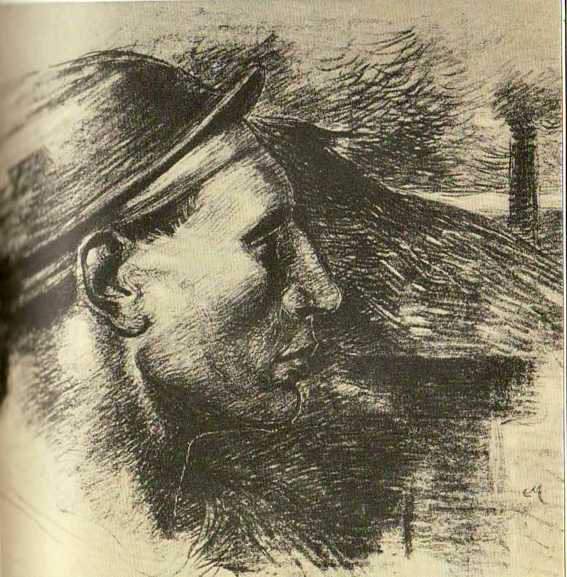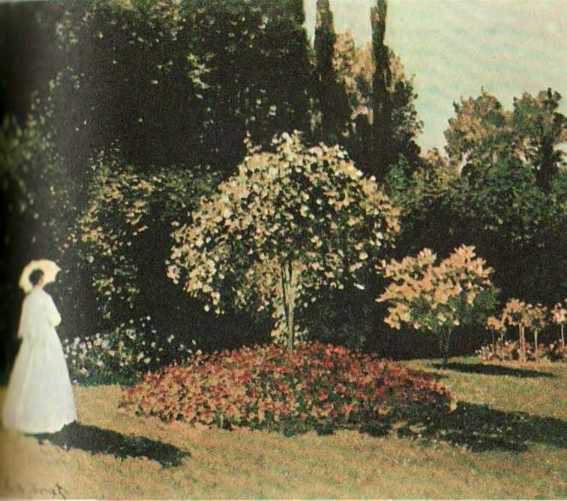ПОЭЗИЯ ПРОШЛОГО ВЕКА.
Век, который легче всего отмерить и сразу же отрезать четкими датами 1800–1900, никак не хотел начинаться по календарю. И не потому, что все уходившее тянулось под конец слишком медленно, скорее наоборот. К 1800 году Европу уже целое десятилетие сотрясали самые бурные извержения новизны, никогда до этого еще не виданной. Великая демократия в Париже и наполеоновские узурпации власти, «восходит к смерти Людовик» и цареубийство в России, переходы войск через Альпы и грандиозные битвы на море. К 1800 году все большое уже началось, началось, как нарочно, гораздо раньше, а страна термидора, жерминаля и брюмера, казалось, вообще презрела всякое летосчисление.
Обгоняло календари и искусство. 1789: именно в год французской революции мятежный Шиллер переехал в Веймар, и уже начался его изысканный турнир с Гете. 1791: уже умер Моцарт — и как бы поверх его партитур уже пишет все более «свою» музыку Людвиг ван Бетховен (рубеж, едва ли менее важный, чем вопрос о «виновности» или «невиновности» Сальери). 1792: уже зазвучала известная нам теперь как «Марсельеза» сложенная Руже де Лилем «Военная песня Рейнской армии». 1794: уже высказался и замолчал, — хотя никто в Европе еще, казалось бы, и не начинал его слушать, — Андре Шенье. 1797: в Греции еще далеко до гимнов к свободе Соломоса и Суцоса, но само звучное имя свобода — «Элевтерия!» — уже многократно повторено в «Патриотическом гимне», распеваемом на мотив «Карманьолы». И, наконец, 1797–1798: в Германии Новалис «Гимнами к ночи», а в Англии Вордсворт и Кольридж «Лирическими балладами» уже вполне открыли эпоху как «иенского», так и «озерного» романтизма.
Такова плотность первого же десятилетия этой новой эры, пренебрегавшей привычными календарными границами.
Правда, кое-кто именно в строгой верности календарю попытается открыть новую страницу или в своей личной поэтической судьбе, или в общем литературном деле, или же в одиноко, но с неуклонной уверенностью предпринимаемом споре. Именно в 1800 году, а не раньше «озерная» лирика превращает себя в теорию — и в новом издании «Лирических баллад» предисловие Вордсворта прозой отстаивает от классической чопорности «природность», раскованную простоту и свободу воображения. Именно в этот год — шедевром «Природа и искусство» — отмечает свое участие в борьбе «меры» и «безмерности» Гете: «В ограниченье лишь является нам Мастер, и лишь Закон дарует нам Свободу». Что-то рубежное и только-только еще зарождающееся, возможно, чувствует и Уильям Блейк, когда именно в этот момент жизни говорит, что, не понятого взрослыми, его хорошо понимают дети. (За долгие годы традиционные взывания к мудрости детей давно потеряли свежесть, как порой и сама детская мудрость. Но все же сегодня нельзя не удивляться, как мог блейковский «Тигр» на столетие предвосхитить величественно-жуткую, «позднеколониальную» тревогу Киплинга. Неужели и это еще в конце позапрошлого века было кем-то действительно понято?..) Наконец, поэзия верна календарю и в откликах на первые антинаполеоновские триумфы европейских армий. Придворная австро-венгерская поэзия, забыв об ужасе, который на рубеже XVII–XVIII веков наводили на Европу вести из петровской России, призывает на помощь силы с Востока; а на другом краю континента явно «малый» и скромный Томас Кэмпбелл, вдохновленный победами Нельсона, именно в 1800 году дает Британии на целые полвека восторженных декламаций свою одическую «Балтийскую битву».
Конечно, главный антибонапартовский триумф в эти годы еще не состоялся (в стихах, известных нам по блестящему переводу Фета, его воспоет немецкий участник знаменитой «битвы народов» Теодор Кернер). Не наметила всех путей и литература нового века. Еще не составлен сборник песен «Волшебный рог» (1806–1808), которым не «йенские», а уже «гейдельбергские» романтики обозначат новую — не «потустороннюю» и «ночную», а народнопоэтическую линию в европейском романтизме. И один из составителей этой книги, Клеменс Брентано, еще и не задумал своей главной поэмы с так и не дописанным, по странно знакомым нам финалом: неприкаянный, мятущийся и грешный художник обретает знак высшего прощения в «венчике из роз» («Романсы о розовом венце»). Мануэль Кинтана еще не написал оды «К Испании» (1808) с ее патриотической формулой, тоже перешагнувшей через целое столетие: «Скорее смерть, чем подчинение тирану!» До самого 1815 года не находит издателя знаменитая и давно написанная Фосколо негодующая «Речь к Наполеону». Не открыт и Андре Шенье: это будет в 1819 году, и отзовется это вовсе не только в лире Ламартина и де Виньи, но и в том «истинном романтизме», к которому стремился автор «Бориса Годунова». Вальтер Скотт, не потревоженный пока что успехами Саути и Байрона, пишет стихи — именно стихи, а не прославившие его романы… Многое еще и не начиналось.
А порою даже казалось, что и вообще не начнется. Ведь то, что для нас сейчас сводится к размеренному отсчитыванию тактов — 1789… 1791… 1797…— для тогдашнего человека было ужасающими взрывами, подлинным концом света, и эти взрывы потрясали мир словно по единому замыслу, — и с улицы, и через литературный салон. Романтики остроумно говорили о провидении: если наша жизнь есть сон, то есть кто-то, кому он снится… Но здесь, пожалуй, нужны несколько другие образы. Астрономия, летосчисление и высшее провидение настолько отступали перед вырывавшейся из под их контроля историей, что первые годы века для многих могли покатиться кошмарным светопреставлением, а не сладостным сном и началом.
Все привычное было подорвано настолько глубоко, что если бы в 1800 году еще попытался взять слово жанрово упорядоченный и даже в дерзости и смехе размеренно-чинный XVIII век, это было бы несколько странным: «отменно тонко и умно, что нынче несколько смешно», как манеры екатерининского старика из «Онегина». А между тем иногда именно так и случалось, и где-то в глуши среднеевропейских усадеб еще писались какие-то и впрямь греко-латинские стихи «на гранариум» (!) сельского хозяина:
Восемнадцатого столетия
Осенью последнего года
Заложены хранилища эти
На Шандора Борбея расходы…
Вот они, вопросы XIX века: Наполеон и «Элевтерия» — или сельские заботы? «Балтийские битвы» — или мирные «озера»? Амбар с зерном и простая лошадь — или «гранариум» и «сие благородное четвероногое животное…»? Что здесь завершение и излет, а что — взлет и начало?
Нам и по русскому опыту знакомы такие вопросы. Но это не означает, будто мы уже давно готовы сейчас же дать на них ответ: что именно камерно, периферийно и устарело, а что объемно, ново и жизнеспособно. Ведь певцы «озер» ведали, что творили, и всецело соприкасались с бурями времени (Вордсворт не впустую побывал в Париже в самые катастрофические дни революции); а певец «гранариума» Михай Чоконаи Витез (1773–1805), смирнейший, казалось бы, эллинист и анакреонтик, прошел как заговорщик и «вольтерьянец» чуть ли не через эшафот. И именно после жестоких испытаний, а не от недостатка их он создавал лучшие произведения, классически ясные по своим гармониям.
Как много поэтов романтического века, пройдя через жесточайшие превратности судьбы, остались «классиками» в своих художественных идеалах; сколь многие из них самостоятельно, а не слепо выбрали близкий себе тип романтизма; сколь многие устояли перед самым мощным напором нового: «Я гимны прежние пою и ризу влажную мою сушу на солнце под скалою…» И тем не менее вовсе не были списаны в архив истории, вошли в сокровищницу столетия. Очевидно, загадка жизнеспособного и устарелого сложна. И, наверное, столкновение бурной новизны с твердыней традиций было совсем по только противостоянием олимпийского Веймара буйному Парижу — и даже не Веймара Иене. Речь идет о внутренних полюсах духовной жизни — и Парижа, и Иены, и самого Веймара. Художественный спор, что же есть «Природа», «Свобода» и «Закон», разгорался тогда и внутри классической Аркадии, куда еще за десять лет до начала века к Виланду, Гердеру и Гете приехал из Иены Шиллер. Шел этот спор «внутри» и для каждого серьезного художника. Узлы, завязанные XIX веком, надо еще долго не рубить, а бережно разгадывать, разматывать, расправлять.
* * *
Особая плотность прошлого века, разумеется, состоит не в числе событий. И больше всего думаешь не о календарной точности, а о сложности его начал; еще же больше — в нем надо найти единство начал и концов.
Современник Кромвеля английский поэт Каули сказал однажды так: воинственный, многоцветный и трагичный век — вот лучшее время, чтобы о нем писать, и худшее для тех, кто пишет, прямо в нем пребывая…
Эти слова очень подходят ко всем поэтическим судьбам, в тисках любого века; но они не вполне верны для того, кто смотрит на века издали, чтобы их описывать. Разнообразие и многоцветие легко приукрасить и, как говорится, «расписать» — но увидеть в них соизмеримость, родство того, что друг от друга открещивается, угадать их цельность — очень трудно.
Поэзия уже тогда искала для своего времени формулу. Но однозначные формулы не вполне убеждают. «Наш век торгаш, в сей век железный…» «Век шествует путем своим железным…» Это было. Жизнь в по-новому устроенном мире для многих потеряла теплоту и смысл, многие сами теряли ее смысл; и именно железные ветры века лишили многих родного дома, ощущения уюта.
От дружной ветки отлученный,
Скажи, листок уединенный,
Куда летишь?.. Не знаю сам…
Мотив скитальческой скорби из Антуана Арно распространился по всей Европе: и через переводы Жуковского и Давыдова (вплоть до лермонтовского «Дубового листка…»), и в «Песнях» Леопарди и даже Гейне («И я когда-то знал край родимый…»). Это соответствовало и самосознанию романтизма, и реальным человеческим судьбам. Тоску португальца, изгнанного инквизицией на чужбину (как изгнали на чужбину Алмейду Гаррета), не сведешь к одной только ностальгии, извечно традиционной для поэзии его страны; а когда слова: «Вот я на родине и все ж тоскую», — говорит чех Ян Неруда, этого не объяснить одними законами романтической эстетики — и надо знать «железную» прозу самой действительности тогдашней Чехии… «Век девятнадцатый, железный, воистину жестокий век!» Но поставьте рядом с этими образами «Я помню чудное мгновенье…», гейневскую «Лорелею» или сонеты датчанина Фредерика Палудана-Мюллера: железо отступает. Что же главное в опыте и облике века?
Осторожнее подходит к такой многосоставности наука. Она заведомо трезво делит долгие сто лет поэзии на планомерно сменяющие друг друга этапы. После классицизма и сентиментализма (век, в общем, позапрошлый) — беспокойный и буйный романтизм; говорят еще и о всеевропейской эпохе байронизма. В середине столетия — несколько усмиренный, одомашненный эстетизм: французский «Парнас», английские «прерафаэлиты», всяческие разновидности «чистого искусства». Конец века (сами эти слова уже употребляются как твердый термин) — это символизм, неоромантизм, поэзия декадентов. Полезное расчленение. Но как всеохватывающий образ и оно не вполне удачно.
Романтизм после классики? — Но чуть ли не четыре десятилетия в XIX веке присутствовали Пушкин и Гете. Всеобщее поветрие «байронизма»? — Но немецкая романтика, глубоко переживавшая и судьбы демократии, и борьбу греков, и даже гибель самого Байрона при Месолонги, осталась равнодушна к тому односторонне-величественному гимну личности, который был главным в «байронизме». «Парнас» и «чистое искусство»? — Но Франция их времени увлекается и Беранже, и Гюго, и Потье. Общее движение поэзии века к сугубому эстетизму, в то время как проза все глубже и глубже уходит в натурализм, реализм и общественность? Есть и такая общая схема, и она тоже иногда выглядит приемлемой. Но как быть с неразрывной реалистической линией в европейской лирике? Как быть, при всей предельной «асоциальности» французских символистов, со становящимся в конце XIX века явно «общественным», «народно-мифологическим» символизмом Польши и Германии? Важного для нас центрального, сквозного — единственного! — нерва в поэзии века снова отыскать не удается.
Так тогда, может быть, «век контрастов»? Страна контрастов, город контрастов, век контрастов… Но любой век есть век контрастов. Может быть, век, неразличимо вырастающий из предыдущего и неразличимо врастающий в тот, что наступает за ним? Но так тоже можно говорить о любом веке: в любом уходящем есть начало последующего.
У девятнадцатого века, видимого из сегодня, есть одна особенность: он и ушедший, и он же — самый близкий. Это прошлый век, и только что прошедшим он будет, лишь пока не кончится двадцатый. Мы принадлежим к последним людям, для которых знаменитый «конец века» (вовсе не сводимый к одному только декадентству) — это начало нас самих. И нам доводилось учиться, хотя бы «чему-нибудь и как-нибудь», именно у тех, кто был всецело воспитан на его культуре. Таким будет для XXI века и наш век, так бывало и гораздо раньше. Но столетье Пушкина и Гете, Мицкевича и Гейне, Леопарди и Бодлера, Потье и Вазова может быть таким лишь сегодня, и надо схватить именно это только нам доступное очарование. Очарование поэзии прошлого века и в том, что она «прошла», что других таких стихов — «и божество, и вдохновенье…», «Дубовый листок…» — не напишут. Но оно и в том, что XIX век — это молодость сегодня существующего, отнюдь не ушедшего и не собирающегося уходить. И там, где эта молодость была живым ростом, надо искать цельности, а не распада.
* * *
Передвинемся из начала в середину века — и близость начал с концами будет еще очевиднее. А иногда за переходами из «периода» в «период» с очевидностью выступят и переходы в наше время.
Молодая буржуазия еще не познакомила человечество ни с одним мировым кризисом, еще нет поступательно-единой мировой судьбы, нить которой способен навсегда разъять любой крохотный порез в любой точке земного шара, но Европа романтизма знает уже вполне поэзию мировой скорби: и желание чувствовать домом весь мир, и отсутствие родного дома, и ощущение себя чужим, даже когда ты дома; а мука, разъедающая сердце индивида, уже приравнена к трещине, раскалывающей всю землю. Никто еще не утверждает взахлеб, что современная машина изящнее любого изысканного сонета (в самом конце девятнадцатого века — и по полному праву вступая в двадцатый — Габриэле Д’Аннунцио и впрямь напишет оду «металлическому вестнику смерти» — «Торпедному катеру в Адриатике»), Но тревожаще-умная мысль, и в гораздо более умной форме, о конфликте духовной, «органической» культуры с «буржуазно-лощеной», омертвляющей ее цивилизацией уже высказана современником Гете, Фридрихом Вольфом, и эта мысль уже переживается во всеобщем опыте.
Самое интересное здесь, пожалуй, то, что в области не просто поэтических переживаний, а исторического действия идет борьба за родной дом, идет возрождение Европы. Апофеозом этой борьбы еще не стоят памятники Гарибальди, и под австро-французскими ударами рушится Римская республика, но поэты Италии пишут не о задавленной и погребенной, а о воскресающей свободе. В истории этой борьбы еще не было Шипки, но Само Томашик уже воскликнул: «Гей, славяне!» — и это отозвалось и в Чехии, и во всех балканских странах. Еще нет и намека на будущую Югославию (есть лишь территория, разорванная между Австрией, Венгрией и Оттоманской Портой) — но черногорец Негош устами своего любимого героя в поэме «Горный венок» (1847) после трудных раздумий говорит: «Да, за свободу надо воевать!» И именно в 1850 году собравшиеся в Вене сербские и хорватские писатели думают об общем языке, договариваются о единстве грамматики и произношения.
Общность языка и пафоса, родство далеко разведенных историей судеб и родство «старого» с нашим временем сказывается здесь во всем. Еще не родились блоковские стихи «О, Русь моя! Жена моя!..», и страстью к Ирландии, отраженной в безответной любви к красавице актрисе Мод Ганн, еще но одержим молодой Иейтс, — это будет в конце XIX, в начале XX века, — но уже высказаны некрасовские слова-лозунг: «Как женщину, ты родину любил…». У Блока еще нет предрассветных «Ante Lucem», нет его «Итальянских стихов» («Флоренция, ты ирис нежный // Страны, где я когда-то жил…»), и нет «Двенадцати»; но польскому его предшественнику — Красиньскому — муза уже напела и «Перед рассветом» («И я, как Данте, видел ад…»), и «Небожественную комедию», где над враждебными станами плебса и знати маячит всеотпускающий «Галилеянин». Еще не было Коммуны, но в 1848 году уже пишет стихи автор «Интернационала» Эжен Потье. И еще далеко до «мы диалектику учили не по Гегелю» и «сердце наш барабан», но рядом со сладчайшим «И я когда-то знал край родимый…» уже написана гейневская «Доктрина»:
Бей в барабан, и не бойся беды,
И маркитантку целуй вольней!
………………..
Вот тебе Гегеля полный курс,
Вот тебе смысл науки прямой!
Именно все это нам как раз и важно: не столько смена «периодов» и «направлений», сколько их живые, совсем не окостеневшие сочленения; и не просто «понятные нам» заботы, но заботы, самым непосредственным образом затрагивающие и нас. Собственно, все это — переходы прямо в нас, прямо определившие и состав наших библиотек, и наши вкусы. Этого никак не скажешь об эпохе Данте, Рабле или Кромвеля, как бы мы ни лелеяли в душе кокетливую мысль, что оказаться в нашем собственном веке нам пришлось лишь случайно, как бы мы умом ни переживали борьбу гвельфов и гибеллинов и как бы нас ни прельщала поэзия гульфиков или шекспировских сонетов, которыми мы можем оперировать по одним номерам, даже не прибегая к образам и строкам. Но зенит XIX века, его центр в самоопределении и идей, и поэтических направлений, связан с нашим временем воистину единым нервом. И хотя здесь еще нет, например, ни одной разновидности европейского символизма, стоящие в столетии прямо посередине бодлеровские «Соответствия» предвосхищают музыку последних поэтов века ничуть не меньше, чем берут у первых.
Природа — некий храм, где от живых колонн
Обрывки смутных фраз исходят временами.
Как в чаще символов, мы бродим в этом храме,
И взглядом родственным глядит на смертных он.
Подобно голосам на дальнем расстоянье,
Когда их стройный хор един, как тень и свет,
Перекликаются звук, запах, форма, цвет,
Глубокий, темный смысл обретшие в слиянье.
Есть запах чистоты. Он зелен, точно сад,
Как плоть ребенка, своя;, как зов свирели, нежен.
Другие — царственны, в них роскошь и разврат,
Для них границы нет, их зыбкий мир безбрежен,—
Так мускус и бензой, так нард и фимиам
Восторг ума и чувств дают изведать нам.
Это и есть наиболее емко представивший себя романтизм, на глазах перерастающий в так называемую «новую поэзию». В нем и природа, возведенная от озер, ручьев и рощ к объемам мироздания, и образ интимно породненного с мирозданием человека; есть и волновавшая еще Гете и Шелли «синестезия» — союз красок, звуков и ароматов. Но стоит повернуться от «Соответствий» к послебодлеровскому будущему поэзии — как здесь просматриваются уже «цветные» гласные Рембо; а если напрячь какие-то нравственные органы восприятия, то в «экстазах чувств» с легкой тревогой ощутишь не то чтобы конвульсии, а вибрации и «затакты» грядущего декаданса. (В старом переводе Бальмонта это было чуть заретушировано: «мускус и бензой» там «поют экстазы чувств и добрых сил прибой»). Если же, наконец, в облике человека, немотствующего перед «невыразимым» и в то же время охотно окунающегося в экстазы чувств, звуков и мелодий, попытаться предощутить будущую мучительную борьбу символистов со словом как таковым, их борьбу с «невыразимым» вплоть до эстетики молчания, то откроются горизонты еще более далекие. Станет ясно, например, почему не о русской поэзии, а о триумфе дягилевской балетной труппы французская критика писала: сбываются мечты Малларме…
* * *
Кстати, о России: природа — храм… Что-то очень знакомое… А не Бодлеру ли отвечал наш Базаров: «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник»?
Начитанность, не вполне вероятная в тургеневском герое, но у самого Тургенева, с его глубокой укорененностью во французской культуре, совершенно легко разгадываемая. И при таком противопоставлении: «Бодлер — Базаров», — конечно, ясно, чью сторону возьмет ценящий прекрасное читатель. Убежденность поэта в нашей способности через полувнятные звуки и даже «запахи» чувствовать дыхание «Всего» наверняка глубоко импонирует каждому — даже и тому, чей вкус предпочитает в поэзии полногласное, полнозвучно-ясное слово. И если середину века «Соответствия» отмечают чисто случайно, то уже вполне закономерно, что они становятся программой «конца века»; с романтическим отвращением к «пошлой повседневности», но уже без былой романтической риторики, за счет одной только музыки нюансов и символов — «туда», к постижению тайн и красот мироздания.
Именно таков был спор поэзии 80–90-х годов с «базаровскими» идеями середины столетия, с грубыми проповедями «полезности» или, как тогда говорили, с «позитивизмом». Но столь ли верна эстетика архитектурно строгих и заведомо упорядоченных «всемирных соответствий», если в споре с ней выдвигать не вульгарные, не базаровские аргументы?
Общеевропейский взгляд обращает нас не только к Базарову. И он помогает установить: спор с поэтической картиной мира как «храма», где возможно только «вчувствование» и созерцание, в поэзии XIX века был и на самом деле проведен не только по-базаровски. И как памятники силе художественно-философской мысли человека рядом с «Соответствиями» всегда будут стоять и слова Гете из «Театрального пролога» к «Фаусту», и слова Пушкина из «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» — слова о холодности всех «нерукотворных» красот, о «равнодушии» бодлеровской природы:
Когда Природа крутит жизни пряжу
И вертится времен веретено,
Ей все равно, идет ли нитка глаже
Или с задоринками волокно…
…И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.
Спор, конечно, не с Бодлером: «Фауст» и «Брожу ли я…» написаны раньше «Соответствий». Однако отклик на слова Байрона — «Людей люблю— природа ближе мне» — совершенно очевиден и у Пушкина, и у Гете. Не «Природа-Храм», а младая жизнь человека с ее неравнодушной, хотя и но вечной красотой — так представляла себе высшее совершенство суховатая классика, у которой пылкий романтизм иногда видел лягушку вместо сердца. И Гете не менее прямо, чем у нас Пушкин, подчеркнул это. Убеждение, будто истинный художник «не навязывает, он только вопрошает», созрело гораздо позже. Поставив вопрос, поэт без всяких околичностей отвечает на него.
Кто ж придает, выравнивая прялку,
Тогда разгон и плавность колосу?
Кто вносит в шум разрозненности жалкой
Аккорда благозвучье и красу?
…Кто подвиги венчает? Кто защита
Богам под сенью олимпийских рощ?
Кто это? Человеческая мощь,
В поэте выступившая открыто.
Едва ли не ясно: в XIX веке мы присутствуем при рождении одного из самых драматичных вопросов нашего, XX века. И здесь-то ответы Пушкина и Готе нам особенно ценны. Ведь, с одной стороны, перед нами вовсе не технократически-конструктивистские ненавистники «этой нелепой природы», которой неоткуда ждать милости под их нажимом. А с другой, это и но «безмятежно ясные игруны» (так писалось когда-то о Моцарте), не знающие современности и слепые к будущему. Нот, именно беспредельно любящие Природу художники, вполне взглянувшие прямо в глаза «железному веку», ясно говорят: человек способен и даже призван к тому, что без него природе недоступно, и он имеет право не только слушать, но и возделывать — даже «усмирять стихию». И мало сказать, что такое усмирение прозаически терпимо; оно может быть в высшей степени поэтично воспето. Опасной и безумно восторженной кажется созданная в XIX веке песнь торпедному катеру. Но слова о силе железа, сказанные румынским поэтом Чезаром Боллиаком: «Лишь одно железо может полю хлеб помочь родить. Лишь железо силы множит, чтобы хлеб нам сохранить», — слова верные и трезвые. И в Париже 1851 года, где буквально рядом с автором «Соответствий» писал эти стихи Боллиак, такая эстетика была многим хорошо понятна: поэзия часто оппозиция «материи» и «металлу»; но она же подчас и вполне законное детище их. Неплохой урок для XX века!
Бодлер и сам подтвердил непротивопоказанность материального лирическому. И его пластичная поэзия тоже по-своему восприняла в себя «материализм». Так, в «Цветах зла» много запредельно-возвышенных, благостно-романтичных стихов о «Женщине-призраке», о «Музе-Мадонне» — больше, чем можно предположить по заглавию книги. Однако что запоминается как подлинный, безапелляционно-повелительный шедевр? Именно стихи, где сгущены и напряжены как раз материя, как раз электричество чувства. Непреодолима магнетическая мощь этой поэзии, способной ловить в слова не запредельное, а загадочно-сопредельное с действительностью.
Символисты эту тайну постигли не вполне. Тем не менее сегодня ясно, что через весь прошлый век — от Гете и Пушкина через Гейне и Бодлера вплоть до Фета, Киплинга и Бунина — идет сквозная линия поэзии чудесного, диковинного и даже неземного, но все же, повторим, всегда сопредельного «этому миру».
* * *
С бодлеровских времен многое изменилось. И «материя» нашла в поэзию (в частности, и в поэзию любви) пути гораздо более прямые, чем даже те, что знал Бодлер. После же Пушкина и Гейне особенно заметно, как ясную некогда гармонию — «я вас люблю, мадам…», «и жизнь, и слезы, и любовь…» — настойчиво омрачает какая-то тень, сотрясают странные духовные конвульсии. В поэзии любви замечаешь все чаще, если использовать слово из современной критики, мятежное торжество «низа». Любовь все чаще оказывается не счастьем и расцветом, а полным крахом человека. И в сознании художника женщину все чаще оттесняет экзальтированная любовь к некоему «Там», к возвышенно-недоступному для простого смертного.
Так, декаденты, далеко уходя не только от «презренной обыденной морали», но даже и от «Цветов зла», с необычным смешением восторга и деловитости поют вместо любви «Плоть». Мучая себя невозможностью чистой и счастливой любви, Данте Габриэль Россетти удрученно признается: «Если мы и любим друг друга, то лишь как камень и листок, заглатываемые одним водоворотом». Его португальский современник Антеро де Кентал поет «любовь-смерть», «смерть-освободителя». Голландский романтик Потгитер (уже в послебодлеровское время) меняет «здешнюю» любовь на религиозно-выспреннее чувство — «любовь, которой не ниспослано и ангелам». Даже бесподобный лирик земного чувства Верлен в книге «Мудрость» решается утверждать, что «высшая вера» полноценнее любви.
Что же торопит поэтов, приближающихся к новому рубежу столетий, пускаться в такое бегство от счастья и жизни? Если это старость тела, а с пою и законное желание найти покой для души, то для Россетти, Верлена и Кентала она преждевременна. Да ведь и совсем юный австрийский поэт — Райнер Мария Рильке (по сути дела, лишь едва-едва заставший XIX столетие) у символического рубежа 1899/1900/1901 тоже отворачивается от любимой женщины к «звездам». И «Ангел-Хранитель» Рильке (образ, заставляющий вспомнить нашего Блока) ведет его не по жизни, а «наверх», к «Тому, кто держит все паденья с безмерной нежностью в своей руке». Может быть, дело в традиционном «презренье к миру», в законной ненависти к «пошлому»? Но тогда почему других поэтов, ничуть не менее уязвленных пошлостью, «Ангел-Хранитель во мгле» уводил не прочь от жизни и любви, а в самую гущу жизни?
* * *
Справедливо убеждение, что интимная лирика, даже когда она обращена к самым топким и внутренним движениям души, бывает точным индикатором больших, общественных движений времени. Обратимся здесь в последний раз к Европе позднего XIX века. И мы поймем, какая именно «материя» вносила столько тревоги в возвышенную и, казалось бы, просто «по традиции» витавшую над землей поэзию этих лет.
После ритмичного ряда ударов 1789–1812–1830–1848–1871 не оставалось и слабых сомнений насчет того, что же принесет с собою будущее. Все чаще и все более громко раздавался голос «малых сих». Они и сами понимали себя как-то по-новому. Трудно не задуматься: и революции середины века, и Парижская Коммуна потерпели разгром, казалось бы, одинаково трагичный. Но стихи Потье «Июнь 1848 года» обнаруживают глубокую муку, а его же «Интернационал» — небывалый оптимизм. И когда обладающий необходимым вкусом и слухом поэт пытался разобраться, в чем суть рубежа веков, он чувствовал: в необычайно мощном движении низов. «Это шаги, все те же шаги, уходят вдаль повелительно, в мглу и печаль, где не видно ни зги», — так вживался в новые ритмы Верхарн; а позже, перенимая мотив, русский переводчик этих стихов напишет: «Вдаль идут державным шагом… Приглядись-ка: эка тьма!..» («Шаги» Верхарна переведены Блоком в 1905 году, в декабре, и очень понятно, что он внес в верхарновский размер особую поправку: повелительный шаг.).
На волне подъема малых сих шло пробуждение и «малых», «окраинных» наций. Оно шло по всему миру. И очень символично, что, когда для Испании старый век кончился потерей заморских колоний (1898 г.), необычный поворот в ходе истории ощутило и новое поэтическое поколение — так называемое «поколение девяносто восьмого года»: братьев Мачадо и Хименеса учил уже не только свой национальный опыт, но и молодой поэт из Никарагуа Рубен Дарио.
Никарагуа… «Марка страны Гонделупы»… Аромат экзотики XIX века. Для скольких стран и как условно это слово — «малые». Впрочем, еще в первой половине века англичанин Карлейль сказал, что мала лишь страна, не имеющая великого поэта. Условно и представление, что «малых» литератур раньше как бы не было: недаром исландец Иохумссон говорит не про рождение своей страны, а про ее тысячелетие — да и оно «лишь холодный рассвет, первый солнечный луч в облаках»; и так, порой не ограничиваясь даже одним тысячелетием, могли бы сказать многие. Наконец, не то чтобы условно, а просто наивно, что Карлейль — уже после смерти Пушкина! — относил к таким «малым странам без своего поэта» и Россию. (О Пушкине уже тогда читал лекции Мицкевич, восторженно писал Мериме. Самое же интересное для нас, что в XIX веке на Западе возникла богатая поэзия о России; и в специальном томе выходившей под руководством Лонгфелло серии «Поэзия мест» (Бостон, 1878) было более сотни зарубежных стихов на русскую тему.) Но все эти оговорки еще никак не заслоняют от нас главного: то, что так или иначе звалось малым, именно в конце века показало свою особую силу и величину.
Мир голодных и рабов говорил увереннее, чем прежде; и отнюдь не только из-под оттоманского ига и в «песнях южных славян», а во многих странах и с незнакомым ранее пафосом поэты взывали к русским образцам и русским единомышленникам. «Великое время! — писал, например, Бьёрнстерне Бьёрнсон в „Новогодних стихах“ 1886 года. — Из России хлещет через снега и льды поток крови, и он растопит эту мерзлоту…» Бьёрнсон в своих предвидениях (еще 80-х годов!) обогнал многих. Но чем дальше, тем у каждого было все больше оснований предсказать, в какой именно стране вскоре состоится знаменательная перекличка двух столетий; говоря словами Маяковского, где впервые вместо «и это будет» запоют «и это есть наш последний».
Однако как же с тревогами не открыто гражданственной, а возвышенно-утонченной лирики? Какую связь имеют с «политикой» столь резкие в конце века колебания и помрачения в поэзии любви?
Как раз все бури социально-политического бытия эта лирика и отразила. И если на искусство «чистой красоты» хорошо слышимые шаги истории могли наводить и наводили ужас (хотя это искусство часто говорило о своем полном равнодушии к современности), то там, где совершенство художественного слуха было подкреплено точным сознанием исторической перспективы, — лирика любви откликалась на голоса эпохи совсем по-другому. И тогда певец неземных гармоний не рвал с возлюбленной в пользу «звезд», «смерти» или животного «низа», а решительно увлекал Прекрасную Даму туда, где раньше был возможен лишь поцелуй маркитантке: «Вдвоем, неразрывно, навеки вдвоем… отмстить малодушным, кто жил без огня, кто так угнетал мой народ и меня».
Вот тот выбор, которым буквально на следующий день после знакомства с «Ангелом-Хранителем» Рильке обозначает свой вариант перехода из девятнадцатого века в двадцатый Александр Блок. И этот тип вдохновении не заглох у начала нового века. В самый разгар нашего столетия его обнаруживает Поль Элюар, когда поэма об имени любимой женщины («На школьных своих тетрадках… имя твое пишу…») получает чисто блоковский финал: «…имя твое… Свобода».
* * *
Так поэзия прошлого столетия готовила поэзию нынешнего. Сам по себе календарный рубеж веков в Европе на этот раз заметили хорошо (90-е годы, если не считать отдаленных громов Трансвааля, были в общем каким-то затишьем). Но тишине уже не верили, и отнюдь не все обращения к новому веку оказались исполнены «светлых надежд».
Правда, Бьёрнсон и в 1900 году пел «весну свободы» («Наш язык»); на другом краю континента радовался К. Христов: «Эй, к нам весна идет в наш край родной!» (1901), а румынский поэт Александру Мачедонски в статье «На пороге века» (1899) писал, что ныне «можно радостно искрящимися глазами смотреть в будущее». Однако эта радость никак не была всеобщей. Тридцатилетний Метерлинк верит в «голубую птицу» — но он же непомерно устал:
Отдаю вам посох, сестры,
Отдаю с моей сумой.
По шестнадцать лет вам, сестры.
Продолжайте поиск мой.
Французский публицист виконт Д’Авенель разочарованно констатирует на пороге нового столетия, что «все наши современные битвы против стихий, все наши победы над материей в моральном плане не дали ничего» и скоро «человечество станет добычей ужасной скуки». Медик Макс Нордау, понося от имени здорового человечества современную литературу, и особенно поэзию, говорит о всеобщем «вырождении». А Леон Доде подводит решительный и обобщающий итог: «глупый XIX век» — и прямо так и называет свою нашумевшую в то время книгу.
Что же останется в нашей памяти как обобщающий образ века и его культуры?
* * *
Как и в разговоре о давнем рубеже XVIII и XIX веков, почему-то снова вспоминаются те самые стихи «на гранариум» сельского хозяина, что в 1800 году, аккуратно отмечая начало нового столетия, оставил нам венгр Михай Чоконаи. В общем ведь верно, что опыт прошедшего — это для нас какой-то «гранариум». Само слово — это, конечно, как раз «славяно-греко-латинский» позапрошлый век. Истина же — вечна: мы получаем от художества прошлого долгим трудом взращенный урожай — и легко усвояемые, «сладостные» плоды, и семена, которые еще должны будут прорасти. И наша задача сейчас лишь в одном: попытаться почувствовать особый вкус наследия прошлого века, особый смысл его уроков, выделяющий XIX столетие из бесконечной преемственности всех и любых столетий.
Каждый век прожит человечеством не впустую и поучителен для будущего. В любом из прошедших веков сегодняшний человек найдет то любопытный исторический прецедент, то отдельного созвучного себе поэта, то адресованный будто именно нам поэтический образ. Но XIX век для нас чрезвычаен и уникален. Только он один передает нам сразу все свои сомнения и споры. Именно в этот век давние размышления человечества о традиции и свободе, о «естественном» и «железном», о «культуре» и «цивилизации» дозрели до универсальных систем мышления. И, осознав самих себя, эти системы только в XIX веке прямо повернулись лицом друг к другу — с безошибочной точностью полюсов в едином магнитном поле. Добавим к этому истину, особенно важную для нас как читателей литературы художественной: прошлый век дал для такой переклички впервые познавших друг друга полюсов бытия законченные поэтические формулы. И благодаря поэзии, именно в то время научившейся с необычайным мастерством перелагать «идеи» в «тона и мелодии» (Бьёрнсон), мы воспринимаем наследие прошлого века не только разумом, но и всем существом, всей «нервной системой» своего самосознания и художественного вкуса.
Пусть современный читатель проверит эту особенность своего восприятия хотя бы на отдельных лозунгах-идеалах прошлого и нынешнего веков. Скажем — «Природа»: как велико сразу же оживающее рядом с мыслью богатство эмоциональных, лирических, художественных ассоциаций, сколько тревог и надежд и для сознания, и для чувства! «Не то, что мните вы, природа: не слепок, не бездушный лик…»; «природа-храм»; «природа не храм»; «людей люблю — природа ближе мне»; «и равнодушная природа…»; «природа — сфинкс». Вот взаимоотталкивающиеся и напряженно ищущие друг друга полюса в исканиях прошлого века. Но не тяготеем ли к ним еще и мы сами? Не они ли определяют как сущность, так и тонкие оттенки наших сегодняшних волнений?
Да, мы по-особому прочно прикованы к духовным полюсам культуры прошлого века. И особая тонность этой связи таит в себе очень многое: так живо и «нервно» — с полуслова, с поэтического оттенка — воспринимают не просто свое, но именно родное.
Могут сказать, что мир всегда был в каком-то смысле и полярно расчленен, и целен; что человечество всегда жило по общим историческим законам, на одной и той же планете. Это, конечно, так. Но именно в XIX веке мир понял, что он неделим, — как неделима и красота. И поэзия Европы тогда же выразила эту тягу к цельности и в ярких образах, и в больших эстетических программах — от союза «волшебных звуков, чувств и дум» и даже искусств до романтической мировой скорби и классического представления о единстве мира как его прочности. В каком-то смысле всегда была мировой и существовавшая на земном шаре литература. Но именно в XIX веке она осознала себя как мировая литература, нашла для себя в устах Гете сам этот термин (по-немецки действительно единое слово, Weltliteratur) — и само слово, как часто бывает, начало ускорять уже зародившийся процесс. Причем материки и миры встречались не только в «Западно-восточном диване» Гете или в «Саламбо» Флобера, но и в прямом давлении на литературную метрополию со стороны все большего числа «малых» и «новых» литератур. И снова чувствуешь, что единство и цельность XIX века обнаруживают себя именно как прочное единство с нашим временем. Не к нам ли с особым упорством апеллирует красота еще одной выработанной прошлым веком поэтической формулы: «Когда народы, распри позабыв, в великую семью объединятся…»?
Известно, что в XIX веке как никогда энергично попытались себя выразить и противоположные силы, силы расчленения и дробления, более резкие и опасные, чем даже в рационализме XVIII века. Были попытки отделить прекрасное от истины, «музыку» поэзии — от ее содержательности. (Здесь часто опирались на слова Китса, что красота уже и сама по себе— истина.) Были попытки представить неизвестную Моцарту и Пушкину, Готе и Китсу «борьбу за новые звучности» — за новизну как таковую — единственным мерилом прогресса в искусстве. Утверждалось, что истоки прекрасного скрыты в глубинах «родимого хаоса». А иногда говорилось, что прекрасное и вообще лежит вне «этого мира». Были, наконец, и опыты попросту слабой поэзии. Но и здесь обнаружилась принципиальная особенность именно XIX века. В поэтической практике зародившегося тогда модернизма были созданы первые образцы не столько «слабой», сколько равнодушно «построенной» и «сделанной» поэзии, подобно всякой синтетике, по подходящей для искусства будущего даже как простая почва, даже как некий перегной. И человек сегодняшнего дня, — уже не созерцая зародыши, а пожиная вековые плоды модернизма, — с особой четкостью осознает, каким грузом могут лечь на плечи наследников и успехи предшественников, и их издержки.
«Богаты мы, едва от колыбели, ошибками отцов…» XIX веку было хорошо знакомо такое чувство. И как Лермонтов в своей «Думе» 1840 года отрекался от наследия 20-х годов, так в 80-е швед Стриндберг писал свое «Отречение», скорбящее над ошибками — унаследованными ошибками! — годов 40-х. Появляются основания для особого счета к прошлому, может быть, даже для упреков ему и у нас; быть может, напрашивается и какой-то упрек веку в целом. Но XIX век, конечно, и сам страдал от первых гримас модернистской новизны, переживая ее в особых муках. И его выстраданные и предъявленные нам в готовом виде уникальные и убедительнейшие свидетельства добыты не на мелкотравчатом «авангардизме», а на больших поэтических судьбах: «абсолютная красота» обнаруживает тенденцию к оскудению, а укорененность в полноте жизни придает красоте поэзии особенно сочные краски. Правда, никаких «формул» для «подлинно нового», «подлинно музыкального», «подлинно художественного» XIX век так и не выработал. Но достаточно поучительны и представленные им сами по себе факты. Искусство Бодлера и Малларме делает крайний упор на новизну и даже «эпатирование», ошеломление читателя; но блестящего совершенства это искусство достигает именно в традиционнейшей форме сонета. Киплинг же, например, в области общеэстетических откровений крайне сдержан; но под занавес XIX века именно он открывает мир, огромно новый и неизвестный для европейской поэзии. Эстетика символизма настаивала на исключительной способности «своей» поэзии быть музыкальной. Но оспорит ли кто факт, что стихи Потье, стихи песни албанских поэтов Де Рады и Серембе и «Наш край» Рунеберга (написанный в прошлом веке финский национальный гимн) слиты с музыкой ничуть не меньше, чем «Прекрасная мельничиха» — Мюллера и Шуберта или «Полдень фавна» Малларме, спасенный от пренебрежения и поношений публики талантом Дебюсси. Запоминающиеся слова пришлось нам прочитать в одной современной Верлену французской книге: «На этот раз поэзия и музыка рождаются вместе, столь неразложимо едиными, что невозможно было бы процитировать и одной строфы, не поддаваясь трепету составляющей самую душу стиха музыкальной каденции». Но о чем эти слова сказаны? О той самой «Военной песне Рейнской армии», которую XIX и XX века знают как «Марсельезу».
Может показаться снова, что век, который нам хочется осознать как уникальный и целостный, все-таки оказывается попросту пестрым собранием поэзии на любой вкус. Но читатель XX века, обладающий хотя бы и «любым», но полноценным вкусом, едва ли захочет взять от прошлого века именно облегченные решения и формулы. И красоту и музыку такой читатель уже не отделит от содержательности и мысли, как не впадет и в наивно-романтическое противопоставление «культуры» и «природы» любому «железу» и любой «цивилизации». Опыт столетия он возьмет именно в полновесном и целостном виде.
Таковы уроки прошлого века на уровне борьбы «идей». Но если уже эти идеи мы ловим вкусом и чувством, то с какой силой взывает к нам и само по себе очарование поэзии прошлого века! А это очарование прошлого со временем даже удваивается. Ведь волнует не только давнее и простое «Я вас любил…», но и нынешнее сознание, что сама способность на такую простоту осталась где-то далеко. Сохранит ли наш век для двадцать первого то же обаяние, что девятнадцатый — для нас? Будут ли и дальше судить о ценности поэзии по ее «прелести»? Какую судьбу в будущем переживет соединяющее и «прелесть», и глубочайший ум моцартовское начало?
Нелепо было бы взяться за ответ сейчас же, сегодня же. Ведь даже XX век еще не кончился. Но век XXI сможет ответить на часть и этих вопросов.
С. Небольсин.
ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЭЗИЯ XIX ВЕКА.
АВСТРИЯ.
ИОГАНН МАЙРХОФЕР.
Иоганн Майрхофер (1787–1836). — Будущий поэт окончил гимназию в Линце, затем изучал теологию и юриспруденцию, долгие годы работал цензором… В 1819 году Майрхофер познакомился с Францем Шубертом и подружился с ним; Шуберт положил на музыку сорок девять стихотворений Майрхофера, который так и остался в литературе прежде всего как автор текстов шубертовских песен. Единственный прижизненный сборник Иоганна Майрхофера вышел в 1824 году («Стихотворения») на средства друзей поэта; в 1843 году был издан посмертный сборник.
МЕМНОН[1]. Перевод Н. Заболоцкого.
[1].
Судьбы моей печален приговор.
Я глух и нем, пока в тумане горы.
Но лишь блеснет пурпурный луч Авроры,
С пустыней я вступаю в разговор.
Как легкий вздох гармонии живой,
Звучит мой голос скорбно и уныло.
Поэзии волшебное горнило
Миротворит мой пламень роковой.
Я ничего не вижу впереди,
Лишь смерть ко мне протягивает длани.
Но змеи безрассудных упований
Еще живут и мечутся в груди.
С тобой, заря, увы, с одной тобой
Хотел бы я покинуть эти своды,
Чтоб в час любви из ясных недр свободы
Блеснуть над миром трепетной звездой.
НОЧНАЯ ПЕСНЬ ЛОДОЧНИКА. Перевод В. Вебера.
Диоскуры[2], свет ваш тихий
Дарит мне успокоенье.
По ночам в открытом море
Неусыпно ваше бденье.
Кто отваги не теряет
В ураганном диком вое,
Тот под вашими лучами
Тверже и смелее вдвое.
Эти весла не страшатся
Даже вала рокового,
Я вздымаюсь на колонны
Храма вашего святого.
УТЕШЕНЬЕ. Перевод В. Вебера.
В согласье с собственной душою,
В ладу с мечтой своей и волей
Ты никогда не будешь ведать
Ни зависти слепой, ни злобы.
У каждого свои напевы,
На всем творца прикосновенье.
В любом из нас осуществилась
Крупица замыслов великих.
Что юности внушать способно
Лишь отвращенье — зрелость видит
Спокойным взором. Есть надежда,
Что старость в том найдет отраду.
СВЕЖЕСТЬ. Перевод В. Вебера.
Как лес живительную тень
Дарует путникам усталым,
Как нам сияет летний день
Ручья прозрачнейшим кристаллом,
Так полон мир с тобою рядом
Нетленным духом бытия.
Все, что могу окинуть взглядом,
В долг миром взято у тебя.
ВОЛНА И ЦВЕТОК. Перевод В. Вебера.
Волна цветку сказала:
Прекрасно быть свободной,
На солнце золотистом
Искриться и шуметь!
Я с сестрами своими,
Обнявшись в легком танце,
Спешу к дельфинам резвым
В далекие моря.
Мне жаль тебя, увянет
Твоя пора младая
На суше, взаперти.
Волне цветок ответил:
Когда на луг прибрежный
Я лью благоуханья
И бабочки ликуют
Над чашею моей,
Я чувствую, как крепко
С корнями связан стебель,
Как я к земле привязан
Своею красотой,
Меня земля вспоила
И прах укроет мой.
ИОСИФ ХРИСТИАН ЦЕДЛИЦ.
Иосиф Христиан Цедлиц (1790–1862). — Поэт, драматург, переводчик. Учился в гимназии в Бреславле, в 1809 году отличился в сражении против армии Наполеона. Позже служил в министерстве иностранных дел при князе Меттернихе. Писал поэмы и баллады в романтическом стиле. Известность приобрел его цикл «Венки смерти», где поэт пытался применить форму итальянской канцоны к немецкой поэзии. Всемирную известность завоевала баллада «Ночной смотр» (русский перевод В. А. Жуковского); в русском переводе едва ли не большей популярностью пользуется его «Корабль призраков» (у Лермонтова — «Воздушный корабль»); оба стихотворения относятся к циклу «Наполеоновских баллад». Цедлиц написал несколько драматических произведений, переводил Байрона.
Обе публикуемых баллады написаны поэтом после решения французского правительства перенести останки Наполеона с острова Св. Елены в Париж.
НОЧНОЙ СМОТР. Перевод В. Жуковского.
В двенадцать часов по ночам
Из гроба встает барабанщик;
И ходит он взад и вперед,
И бьет он проворно тревогу.
И в темных гробах барабан
Могучую будит пехоту:
Встают молодцы егеря,
Встают старики гренадеры,
Встают из-под русских снегов,
С роскошных полей италийских.
Встают с африканских степей,
С горючих песков Палестины.
В двенадцать часов по ночам
Выходит трубач из могилы;
И скачет он взад и вперед,
И громко трубит он тревогу.
И в темных могилах труба
Могучую конницу будит:
Седые гусары встают,
Встают усачи-кирасиры;
И с севера, с юга летят,
С востока и с запада мчатся
На легких воздушных копях
Один за другим эскадроны.
В двенадцать часов по ночам
Из гроба встает полководец;
На нем сверх мундира сюртук;
Он с маленькой шляпой и шпагой;
На старом коне боевом
Он медленно едет по фрунту:
И маршалы едут за ним,
И едут за ним адъютанты;
И армия честь отдает.
Становится он перед нею;
И с музыкой мимо его
Проходят полки за полками.
И всех генералов своих
Потом он в кружок собирает,
И ближнему на ухо сам
Он шепчет пароль свой и лозунг;
И армии всей отдают
Они и пароль тот и лозунг:
И Франция — тот их пароль,
Тот лозунг — Святая Елена.
Так к старым солдатам своим
На смотр генеральный из гроба
В двенадцать часов по ночам.
Встает император усопший.
ВОЗДУШНЫЙ КОРАБЛЬ. Перевод М. Лермонтова.
По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах.
Не гнутся высокие мачты,
На них флюгера не шумят,
И молча в открытые люки
Чугунные пушки глядят.
Не слышно на нем капитана,
Не видно матросов на нем;
Но скалы, и тайные мели,
И бури ему нипочем.
Есть остров на том океане —
Пустынный и мрачный гранит;
На острове том есть могила,
А в ней император зарыт.
Зарыт он без почестей бранных
Врагами в зыбучий песок,
Лежит на нем камень тяжелый,
Чтоб встать он из гроба не мог.
И в час его грустной кончины,
В полночь, как свершается год,
К высокому берегу тихо
Воздушный корабль пристает.
Из гроба тогда император,
Очнувшись, является вдруг;
На нем треугольная шляпа
И серый походный сюртук.
Скрестивши могучие руки,
Главу опустивши на грудь,
Идет и к рулю он садится
И быстро пускается в путь.
Несется он к Франции милой,
Где славу оставил и трон,
Оставил наследника-сына
И старую гвардию он.
И только что землю родную
Завидит во мраке ночном,
Опять его сердце трепещет
И очи пылают огнем.
На берег большими шагами
Он смело и прямо идет,
Соратников громко он кличет
И маршалов грозно зовет.
Но спят усачи-гренадеры —
В равнине, где Эльба шумит,
Под снегом холодной России,
Под знойным песком пирамид.
И маршалы зова не слышат:
Иные погибли в бою,
Другие ему изменили
И продали шпагу свою.
И, топнув о землю ногою,
Сердито он взад и вперед
По тихому берегу ходит,
И снова он громко зовет:
Зовет он любезного сына,
Опору в превратной судьбе;
Ему обещает полмира,
А Францию только себе.
Но в цвете надежды и силы
Угас его царственный сын,
И долго, его поджидая,
Стоит император один —
Стоит он и тяжко вздыхает,
Пока озарится восток,
И капают горькие слезы
Из глаз на холодный песок.
Потом на корабль свой волшебный
Главу опустивши на грудь, —
Идет и, махнувши рукою,
В обратный пускается путь.
ФРАНЦ ГРИЛЬПАРЦЕР.
Франц Грильпарцер (1791–1872). — Выдающийся драматург, поэт и прозаик.
Долгое время Грильпарцер большой поэтической известностью но пользовался. Реакционная меттерниховская цензура не пропускала многих его лучших лирических произведений; с другой стороны, к нему враждебно относилось общество «Молодая Германия», недовольное умеренной позицией писателя. После революции 1848 года популярность Грильпарцера заметно растет; крупными тиражами выходят его сочинения; его пьесы идут в большинстве театров Германии и Австрии. Прижизненная популярность Грильпарцера как драматурга огромна; лучшие его драмы — «Сафо», «Золотое руно», «Медея», «Праматерь» (последняя переведена на русский язык А. Блоком в 1908 г.). Перу Грильпарцера принадлежат исследования в области эстетики, истории театра и литературы, а также прозаические произведения. Особую часть наследия Грильпарцера составляет его поэзия, до сих пор по-настоящему не оцененная.
ГЕТЕ[3]. Перевод В. Топорова.
[3].
Да! Пусть порой тоска берет
От пухлых книг чинуши,
Но гений Гете не умрет
И западет нам в души.
Он гений был! Он был пророк!
Совет младому другу:
Не зарься на его шлафрок,
Примерь его кольчугу!
СВЕТ И ТЕНИ. Перевод И. Грицковой.
Ты сердцем беспечна,
Хоть с виду кротка.
Люблю тебя вечно,
А жизнь коротка.
Ты словом остудишь,
А взглядом сожжешь.
Тебя не осудишь,
Хоть веры на грош.
И страсть не стихает.
В глазах ты одна.
Душа полыхает.
Строка холодна.
* * *
«Всеведущ человек…». Перевод И. Грицковой.
Всеведущ человек. Король, венец творенья,
Он знает все, не зная ничего.
Ему подвластно только отраженье,
Но непонятны суть и естество.
Он тщетно жизнь свою постичь стремится.
Блуждает, кружит, мечется впотьмах.
Бедняк-король! Колеблются границы.
Корона есть. Нет скипетра в руках.
Он взаперти, он в строгости затвора.
А если чувство в нем заговорит —
Оно раскрепостит, взметнет его; но скоро
Он вновь себя к цепям приговорит.
Безропотно свои погасит страсти,
Свою любовь сотрет, сведет на нет.
Он от рожденья самого во власти
Обычных слов: страх, долг, закон, запрет.
ПРЕВРАЩЕНИЯ. Перевод И. Грицковой.
1.
Как ты жестока,
Ночь, и долга.
Сотнями красок
Пестрели луга.
Нынче повсюду
Одна чернота.
Вытерты краски,
Смыты цвета.
Мир застилает
Каверзный мрак.
Дом свой родимый
Не сыщешь никак.
2.
Но где стоял он,
Там и стоит.
Раннее солнце
Его осветит.
Рьяно растопит
Черную тень.
Как милосерден
Радостный день!
3.
Только однажды
Перед тобой
Вновь не забрезжит
Свод голубой.
И не избудешь
Ввек темноты,
Если угаснешь,
Кончишься ты.
СЕРЕНАДА. Перевод И. Грицковой.
Трили! Блим! Хожу, пою.
Ну, послушай песнь мою.
Ты не знаешь снисхожденья,
Все глумишься надо мной.
Я похож на привиденье
В этот поздний час ночной.
И вконец наверняка
Изведет меня тоска.
Напеваю вновь и вновь,
И все время про любовь.
Холод, ветер завывает,
Переулок темный спит,
Но любовь не остывает,
Жаром кровь моя кипит.
Я витаю в облаках
С верной цитрою в руках.
Напеваю вновь и вновь,
И все время про любовь.
От тебя вдали смелею
И к признанию готов.
Повстречаемся — сомлею,
Не могу связать двух слов.
То и дело маета.
Знать, любовь не так проста.
Напеваю вновь и вновь,
И все время про любовь.
В цитре все мое спасенье,
Под нее нельзя не петь.
И любое невезенье
Легче с ней перетерпеть.
То, что вымолвить невмочь,
Я спою сегодня в ночь.
Напеваю вновь и вновь,
И все время про любовь.
Стань, красотка, подобрее,
Прочь беднягу не гони.
Отвори окно скорее,
Сердце настежь распахни!
Чтобы не было в помине
Ни упрямства, ни гордыни,
Иль замучишь до конца
Неприступностью певца.
Невезучий я, несчастный,
Подчинись любви всевластной,
О пощаде не молю.
Хоть сживи меня со света,
Я снести готов и это,
Потому что я — люблю,
Ну и вот…
Напеваю вновь и вновь,
Все же сладостна любовь!
НИКОЛАУС ЛЕНАУ. Перевод В. Левина.
Николаус Ленау (1802–1850). — Крупнейший австрийский поэт XIX века. Подлинное имя — Франц Нимбш Эдлер фон Штреленау. Родился в обедневшей прусской офицерской семье, поселившейся в Венгрии. В детстве на поэта огромное влияние оказала природа Венгрии, им впоследствии многократно воспетая. Окончил гимназию в Пеште. Изучал в Вене философию, право, медицину. Здесь поэт сближается с Грильпарцером и Грюном, композиторами И. Штраусом (отцом) и Лайнером. Враждебное отношение к режиму Меттерниха побудило молодого поэта уехать в Соединенные Штаты Америки, но, не найдя там истинной демократии, он, разочарованный, через год возвращается в Европу.
Первый поэтический сборник Ленау был издан в 1832 году. Для его поэзии характерна любовь к пейзажу, тяга к пустынным степям, осенним картинам, интерес к обездоленным народам; его стихи о венгерских цыганах и американских индейцах — не только дань романтической традиции. Ленау горячо сочувствовал польской революции 1830 года. Перу Ленау принадлежит эпическая драма «Фауст» (русский перевод А. Луначарского, 1904); дух сомнения приводит Фауста к самоубийству.
ПЕЧАЛЬ НЕБЕС.
На лике неба хмурой, темной тучей
Блуждает мысль, минувшей бури след.
Под резким ветром бьется лист летучий,
Как сумасшедший, впавший в буйный бред.
Рыдает гром глухими голосами,
Чуть вспыхнув, меркнет бледный свет зарниц,
Порой в очах, наполненных слезами,
Так слабый луч дрожит из-под ресниц.
Над степью тени призрачные встали,
Сырой туман окутал все вокруг,
И небо смолкло в мертвенной печали,
Бессильно солнце выронив из рук.
ЛОТТА. Песни в камышах.
1.
Лег последний луч на нивы,
День усталый изнемог.
Над водой склонились ивы,
Пруд безмолвен, пруд глубок.
Дни любви, как сон, прошли вы,
Плачь, душа, в немой тоске!
Шелестят печально ивы,
Стонет ветер в тростнике.
Ты одна — мой луч пугливый
В бездне темных, горьких мук.
От звезды любви сквозь ивы
Пал на воду светлый круг.
2.
Смерклось. Буря тучи гонит.
Хлынул черный дождь из туч.
Ветер воет, ветер стонет:
Где же, пруд, твой звездный луч?
Ищет: где в бурлящем море
Эта светлая струя?
Ах, в моем глубоком горе.
Не блеснет любовь твоя!
3.
Ввечеру лесной тропою
Пробираюсь в камыши —
Над пустынною водою
О тебе грустить в тиши.
Если ветер листья тронет,
Пронесется по волне,—
Как тростник шумит и стонет,
Как рыдает все во мне!
Ибо, сладостей, чудесен,
Вновь звучит мне голос твой,
Он исходит в звуках песен,
Замирая над водой.
4.
Тучи нанесло.
Сумрак на земле.
Ветер тяжело
Бьется в душной мгле.
Стрелы молний, треск,
Гром да ветра вой,
Бродит беглый блеск
В бездне прудовой.
Вижу в блеске гроз
Лишь тебя одну,
Взвихренных волос
Вольную волну.
5.
Пруд недвижен. Золотая
Льет луна поток лучей,
Розы бледные вплетая
В зелень темных камышей.
На холме олень пасется,
Смотрит в ночь, на лунный лик.
Сонно птица шевельнется,
Дрогнет дремлющий тростник.
И, как прошлого дыханье,
Как молитва в час ночной,
О тебе воспоминанье
Тихо веет надо мной.
ТРИ ИНДЕЙЦА.
Буря в небе мчится черной тучей,
Крутит прах, шатает лес дремучий,
Воет и свистит над Ниагарой,
Тонкой плетью молнии лиловой
Люто хлещет вал белоголовый,
И бурлит он, полон злобы ярой.
Три индейских воина у брега
Молча внемлют реву водобега,
Озирают гребни скал седые.
Первый — воин, много испытавший,
Много в жизни бурь перевидавший,
Рядом с ним — два сына молодые.
На сынов глядит старик с любовью,
С тайной болью видит мощь сыновью,
В гордом сердце та же мгла и буря.
Словно туча, что чернее ночи,
Дико блещут молниями очи.
Говорит он, гневно брови хмуря:
«Белые! Проклятье вам вовеки!
Вам проклятье, голубые реки,—
Вы дорогой стали нищей своре!
Сто проклятий звездам путеводным,
Буйным ветрам и камням подводным,
Что воров не потопили в море!
Их суда — отравленные стрелы —
Вторглись в наши древние пределы,
Обрекли свободных рабской доле.
Все, чем мы владели, — им досталось,
Нам лишь боль и ненависть осталась,—
Так умрем, умрем по доброй воле!»
И едва то слово прозвучало,
Отвязали лодку от причала,
Отгребли они на середину,
Обнялись, чтоб умереть не розно,
И запели песню смерти грозно,
Весла кинув далеко в пучину.
Гром громит, и молния змеится,
Лодка смерти по реке стремится,—
То-то чайкам-хищницам отрада!
И мужчины гибели навстречу
С песней, будто в радостную сечу,
Устремились в бездну водопада.
ОСЕННЕЕ РЕШЕНИЕ.
Осень, тучи, ветра свист.
Одному в дороге трудно!
Смолкли птицы, вянет лист,—
Ах, как тихо, как безлюдно!
Словно смерть, идет зима.
Лес мой, где твои напевы?
Где твой шелест, полутьма,
Золотые нивы, где вы?
В поле стал пастись туман.
Бесприютный холод бродит.
В голой роще, вдоль полян
Веет скорбью. Жизнь уходит.
Сердце! Слышишь, как поток
По скалам грохочет грозно?
Был у нас немалый срок
Обсудить дела серьезно.
Сердце! Ты сожгло себя,
Всех терзало понемногу,
Многим верило, любя,
Что ж, пойдем-ка в путь-дорогу!
Я тебя на дальний путь
Спрячу вглубь, стяну потуже,
Чтоб ни ветру не дохнуть,
Не достать коварной стуже.
Молча мы в последний раз
Побредем тропой унылой.
Только дождь помянет нас
Да поплачет над могилой.
ХОЛОСТЯК.
Не ждут ни дети, ни жена
Меня в мансарде голой.
Не знает нежных слов она
Иль беготни веселой.
Там не залает верный пес,
Товарищ престарелый,
Лишь дым наперсник давних грез
Да череп пожелтелый.
Кольцо в кольцо — уходит дым,
А тигель мозга бренный
Стоит пред зеркалом моим,
Как зеркало вселенной.
Я друга мудро усадил
На полку в назиданье.
Я смертью в сердце охладил
Палящее желанье.
Угрюмо созерцая кость
И тусклый облак дыма,
Мне третий друг, незримый гость,
Сказал неумолимо:
«На что жена, на что семья —
Случайный спутник в мире?
Как дым, уйдет душа твоя,
Рассеется в эфире.
И этот череп жил огнем
Высоких откровений,
И чья-то страсть курилась в нем,
Пылал в нем чей-то гений.
Пускал колечки Пан-старик
Из этой трубки хрупкой,
И смерть пришла в тот самый миг,
Как Пан расстался с трубкой.
Но череп — ныне мерзкий прах —
Блистал красой в те годы,
Когда он трубкой был в устах
У божества природы.
Исчез неведомый жилец,
О нем не вспомнят боле,
И мудрый был он иль глупец —
Для нас не все равно ли?
Не все ль, что в воздух выдул Пан,—
Нужда в людской пустыне,
Блаженство, боль душевных ран —
Не все ль забыто ныне?
И дым забыт и жар забыт
В круженье урагана.
Их образ призрачный хранит
Одна лишь память Пана.
Мне не везло в моей судьбе,—
Виной людская злоба.
Так не впущу и пса к себе,
Запрусь один, до гроба.
И здесь умру, в пустом дому,
Бездетным нелюдимом…»
Ну что ж! Пока чубук возьму
Да послежу за дымом.
ТРИ ЦЫГАНА.
Грузно плелся мой шарабан
Голой песчаной равниной.
Вдруг увидал я троих цыган
Под придорожной осиной.
Первый на скрипке играл — озарен
Поздним вечерним багрянцем,
Сам для себя наяривал он,
Тешась огненным танцем.
Рядом сидел другой, с чубуком,
Молча курил на покое,
Радуясь, будто следить за дымком —
Высшее счастье людское.
Третий в свое удовольствие спал
На долгожданном привале.
Струны цимбал его ветер ласкал,
Сердце виденья ласкали.
Каждый носил цветное тряпье,
Словно венец и порфиру.
Каждый гордо делал свое
С вызовом богу и миру.
Трижды я понял, как счастье брать,
Вырваться сердцем на волю,
Как проспать, прокурить, проиграть
Трижды презренную долю.
Долго — уж тьма на равнину легла —
Мне чудились три цыгана:
Волосы, черные, как смола,
И лица их цвета шафрана.
ФОРМА.
Если форма и готова,
Знай, поэт, стихи пусты
До тех пор, покуда ты
Мыслью не наполнил слово.
Есть слова — как облаченье,
Под которым тела нет.
Сердце дрогнет им в ответ,
Но, увы, лишь на мгновенье.
Наподобие трещотки
Стих по рифмам застучит,
И хоть он мастеровит,
Жалок век его короткий.
СМОТРИ В ПОТОК.
Кто знал, как счастья день бежит,
Кто счастья цену знает,
Взгляни в ручей, где все дрожит
И, зыблясь, исчезает.
Смотри, уйдет одна струя,
Придет струя другая,
И станет глуше скорбь твоя,
Утраты боль живая.
Рыдай над тем, что рок унес,
Но взор впери глубоко
Сквозь пелену горячих слез
В изменчивость потока.
Найдешь забвенье в глуби вод,
И сердцу будет зримо:
Сама душа твоя плывет
С ее печалью мимо.
ИОГАНН НЕПОМУК ФОГЛЬ. Перевод В. Вебера.
Иоганн Непомук Фогль (1802–1866). — Поэт, прозаик, драматург, фольклорист. Сын купца. С 1819 по 1859 год служил чиновником земских учреждений в Нижней Австрии. Почетный доктор философии Иенского университета. Писал романсы, баллады, лирические стихотворения; был одним из главных представителей венской позднеромантической школы. Многие его стихи положены на музыку, некоторые из песен стали народными.
В АЛЬБОМ ГРИЛЬПАРЦЕРУ.
На голом бескрайнем песке, зеленея,
Огромная пальма стоит.
Ни солнце, ни едкая пыль суховея,
Ни буря ее не щадит.
Шакал свои зубы о ствол ее точит,
И червь добрался до корней.
Взирает на все, что ей гибель пророчит,
Она равнодушьем ветвей.
Как образ величья, одна посредине
Безжизненных диких пустот,
Любому даря с милосердьем богини
И тень, и цветенье, и плод.
НА МОСТУ.
Как люблю глядеть с моста я
На неистовство воды…
На волнах дрожит, не тая,
Отражение звезды.
Волны мчат в порыве яром.
Их проглатывает мгла.
Лишь звезда на месте старом
Серебриста и светла.
Так взирает лик твой нежный
На теченье дней моих:
То тревожных в час мятежный,
То смиренно-голубых.
Жизнь течет неудержимо.
Ты, как прежде, светишь мне,
Далека, недостижима,
Как звезда речной волне.
* * *
«Солнце низко наклонилось…».
Солнце низко наклонилось
И, сияя ликом чистым,
Вдруг свободу даровало
Волосам своим лучистым.
Золотой ноток полился
Над землей струей отвесной.
Вскоре каждая из нитей
Стала лестницей небесной.
Птахи смелые взбирались
Вверх по ним к заветной цели,
Песни в небе добывали
И потом их рощам пели.
АДАЛЬБЕРТ ШТИФТЕР.
Адальберт Штифтер (1805–1868). — Выдающийся прозаик. Сын ткача. В юности пытался стать художником. В Вене в «Серебряном кафе» часто встречался с Грильпарцером, Грюном, Ленау. Поддерживал либеральную оппозицию, но был против революционного радикализма. Не поняв революции 1848 года, уехал из Вены в Линц. С 1850 года был инспектором народных училищ Австрии, в 1865 году, после конфликта с властями, вышел в отставку. В 1868 году покончил с собой.
Штифтер получил широкое читательское признание уже в 40-е годы, однако после смерти скоро был забыт и заново открыт лишь в XX веке. Наиболее известен роман Штифтера «Позднее лето», а также рассказы. Поэтическое наследие Штифтера невелико, но отдельные его стихотворения регулярно включаются в антологии немецкой и австрийской поэзии.
ОСЕННИЙ ВЕЧЕР. Перевод В. Швыряева.
В лугах гуляет ветр осенний.
Бесцветен, холоден закат.
И две звезды, две тусклых тени,
Вниз, на еловый лес, глядят.
По небосводу там и тут
Виденья рваных туч бегут.
С вершин на мокрые поляны
Ползут белесые туманы.
Куда ни глянь, любой росток
Мертвеет, чахнет. Сиротливый,
Дрожит забытый колосок
Среди жнивья у края нивы.
Унылые наводит думы
Вечерний колокол, звоня;
И звезды астр, бледны, угрюмы,
Взирают с клумбы на меня.
Восточный ветер налетел
И куст сиреневый задел.
Он шелестит, как будто плачет,
Как будто грусть о прошлом прячет
И в страхе ждет прихода тьмы.
Стоит туман над гладью водной,
Земли печальные холмы
Закутав в саван свой холодный.
АНАСТАЗИУС ГРЮН. Перевод И. Грицковой.
Анастазиус Грюн (1806–1876). — Поэт и политический деятель. Настоящее имя — Антон Александр граф фон Ауэршперг. Одни из вождей буржуазного либерализма в Австрии. Наряду с Фрейлигратом, Гервегом, Гартманом — создатель немецкой революционной поэзии. Изучал философию в Граце и Вене, жил преимущественно в своих родовых поместьях, уделял много времени общественной деятельности, выступал за единство германской нации. В начале литературной деятельности Грюн издал лирические сборники «Страницы любви», «Последний рыцарь», но вскоре Июльская революция дала новое направление его поэзии. Огромное впечатление в Австрии и Германии произвел его сборник «Прогулки одного венского поэта» (1831), появившийся анонимно. Грюн стал нежелателен монархическому правительству. Своим либеральным взглядам Грюн остался верен до конца жизни. В 1860 году, в зените славы, будучи уже почетным гражданином города Вены и почетным доктором Венского университета, он публично заявил о своем отказе принять пост в австрийском правительстве.
Перу Грюна принадлежат также переводы словенских народных песен, английских баллад о Робине Гуде.
ПОЧЕМУ?
Вот указ верховной власти. Он висит средь бела дня.
И в словах его притворных притаилась западня.
И забавный человечек, не известный никому,
Прочитал его покорно и промолвил: «Почему?»
Вот монах осатанелый. Солнце он сгноить не прочь.
Ряса черная скрывает душу черную, как ночь.
Вот аббат, надменный, злобный, — служит черту самому.
А забавный человечек снова шепчет: «Почему?»
Безнаказанно священство хочет лгать и воровать,
Тех, кто против слово пикнет, — сразу в цепи заковать.
Знает это человечек. Делать нечего ему.
Он стоит себе смиренно и вздыхает: «Почему?»
Вот, взывая о свободе, птицы в небеса летят.
Где уж тут! Вовсю из пушек в них безжалостно палят,
Чтобы не было повадно жаждать воли никому.
А забавный человечек вопрошает: «Почему?»
Средь жнивья родимой речи он, как будто бы зерно,
Отыскал простое слово, всем знакомое, одно.
Сросся с ним, забыл другие, верен слову одному.
И твердит его повсюду, повторяет: «Почему?»
Привели на суд беднягу, и повел судья допрос:
«Как же ты посмел, преступник, задавать такой вопрос?
Измываешься над властью? К ногтю я тебя прижму!»
Человечек ухмыльнулся, взял и вставил: «Почему?»
Свирепея, негодуя, повскакали судьи с мест.
«Бунтаря на хлеб и воду! В одиночку! Под арест!»
Тотчас в кандалы закован человечек и — в тюрьму!
Но и здесь невозмутимо он заладил: «Почему?»
На рассвете потащили человечка на расстрел.
И стрелки, в ряды построясь, молча взяли на прицел.
Залп огня. И кровь струится. Все в чаду, и все в дыму.
Но слетает с губ бескровных стон ужасный: «Почему?»
И могилу придавили толстой каменной плитой.
И восславили в соборе этот новый день святой.
Наконец молчит мятежник. Никогда не встать ему.
…А на каменном надгробье проступило: «Почему?»
ИЗВЕСТИЕ.
С турнира скачет граф домой.
Ему навстречу, сам не свой,
Его слуга идет и плачет.
«Скажи-ка, что все это значит?
Куда направился, дружище?»
«Иду искать себе жилище».
«А что стряслось? Ответь толково».
«Да в общем ничего такого.
Но, испустив последний вздох,
Любимый песик ваш издох».
«Не может быть!.. Совсем щенок!
Он что, внезапно занемог?»
«Ему копытом вдарил с маху
Ваш верный конь, поддавшись страху».
«Мой конь всегда был храбр и смел.
Кто напугать его посмел?»
«Сыночек ваш, премилый крошка,
Когда бросался из окошка».
«Но он остался невредим?
Моя супруга, верно, с ним?»
«Да нет. Ее хватил кондрашка,
Когда угробился бедняжка».
«О, горе! Горе мне! О, боже!
А дом остался на кого же?»
«Какой там дом! Сгорел дотла.
Там только пепел и зола.
Пожар внезапно начался.
Огонь страшенный поднялся.
Он все спалил и все пожег.
А я со всех помчался ног —
И выжил, — господи, прости! —
Чтоб вам сие преподнести».
МОРИЦ ГАРТМАН. Перевод В. Вебера.
Мориц Гартман (1821–1872). — Поэт и публицист. Много путешествовал, в Париже встречался с Гейне, Беранже, Мюссе. В конце 1847 года поселяется в Праге. В октябре 1848 года принимает участие в восстании в Вене, позднее — в Баденском восстании. В 1849 году вынужден бежать из Австрии в Швейцарию. В 1854 году участвует как корреспондент европейских газет в Крымской войне. В 1860 году — профессор немецкой литературы в Женеве. С 1862 года живет в Штутгарте. В 1868 году возвращается в Вену и работает в газете «Новая свободная пресса».
Популярность Гартману принесли политические стихи сборника «Кубок и меч» (1845), запрещенного властями вскоре после выхода. Гартман известен также как переводчик на немецкий язык произведений И. С. Тургенева и Ш. Петефи.
«Песнь твоя, как зов планеты дальной…».
Песнь твоя, как зов планеты дальной,
Разбудила боль в моей груди.
Я пошел на голос твой печальный,
И земля осталась позади.
В прошлой жизни мне не жаль нимало
Счастья, походившего на тлен.
Все, что на земле душа желала,
Обрету я у твоих колен.
* * *
«Первый снег лежит на деревах…».
Первый снег лежит на деревах,
На ветвях безлистых и застывших.
Первая печаль в моих словах,
Лишь вчера о счастье говоривших.
Первый снег сбежит с нагих ветвей,
Лишь проглянет луч из мглы туманной,
Первая печаль в груди моей
Будет жить неизлечимой раной.
ТУМАН.
Едва зари завидя лик,
Туманы мчатся как шальные.
Так, петуха заслыша крик,
Уходят призраки ночные.
Туман спешит, весь мир вокруг
С его горами и полями
Куда-то устремился вдруг,
Боясь, что их зальет лучами.
Мне кажется, с лица земли
И жизнь моя исчезнет вскоре,
Растает, как туман вдали,
И счастье унося, и горе.
ЭПИТАФИЯ.
Ни словом единым не мучая,
Молчу, расставаясь с тобой.
Молчит даже ива плакучая,
Склонясь над могильной плитой.
Погоста печаль безнадежная!
Читаю на бледных щеках:
Где радость, когда-то безбрежная,
Светилась — теперь только прах.
ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ.
Я знал тебя еще птенцом,
И о мгновенье,
Когда ты в упоенье
Раздольем чистым
С восторгом голосистым
Взлетишь, — я думал, как о празднике большом.
И вот со всеми вместе
Гляжу на твой полет.
Как после доброй вести,
Земля вокруг поет.
И страх стесняет грудь:
Вдруг в этот миг стозвонный,
Тобою пробужденный
Уж крылья коршун расправляет где-нибудь?
ДОВОЛЬНО!
Отчаяньем душа земли полна.
Не дайте этой чаше перелиться!
Не слава Гогенцоллернов ей снится,
О мире молит вас сейчас она.
Достойна жить под небом неделимым
Лишь слава человечности в веках;
Но средь пожарищ изойти ей дымом
И слыть грехом в голодных городах.
Ужели, родина, свой идеал
Пожертвуешь химере разрушенья,
Чтоб океан всемирного презренья
Твои границы в гневе омывал?
Но только порчу порча порождает,
Шагающих по трупам гибель ждет,
На лаврах победитель погибает
И тянет в бездну собственный народ.
АВИНЬОН[4].
[4].
Клеменс вышел на прогулку
Из дворца, что он построил
В Авиньоне. Был как крепость
Тот дворец, а он как воин.
Вдруг у мраморной колонны
На руинах древнеримских
Деву юную он видит
Красоты необычайной.
И, спросив, что нужно деве,
Он в ответ услышал:
«В Арле, Старом городе античном,
Средь язычников живу я.
Я паломницею стала,
Чтоб предстать перед тобою,
Я вблизи тебя хотела
Святость обрести и веру.
Но, едва тебя увидев,
Поняла: мой путь напрасен,
Чувства более земного
Я не ведала доныне».
«Как желанья наши сходны»,—
Шепчет Клеменс, в крепость с нею
Уходя, где вскоре дева
Христианства суть постигла.
РОБЕРТ ХАМЕРЛИНГ. Перевод В. Летучего.
Роберт Хамерлинг (1830–1889). — Поэт, прозаик, драматург, переводчик. Участник революции 1848 года. В 60-х годах, в период подъема австрийской промышленности, опубликовал получившую широкую известность книгу «Лебединая песня романтики» (1862), в которой выступил против века «пара и электричества».
«О, времена и нравы! — Взгляни на образцы…».
О, времена и нравы! — Взгляни на образцы:
Цветут на желтых пляжах хоромы и дворцы;
И каждый житель знатен, умен и знаменит,
А коль сострит — назавтра полмира рассмешит.
Цвет нации! — Прославлен от головы до пят
На всю страну. Но так ли, как кажется, он свят?
Несется клич истошный: нажива, чистоган,
Дарами краткой жизни спеши набить карман.
Есть цель одна, и только: заветный миллион!
Кто достигает цели, кричит, что мир пленен
Соблазнами и скверной; он всех пороков враг,
Он машет кулаками и льет вино на фрак.
А в золоченых залах и музыка, и смех,
Любой бежит за шлюхой на поиски утех.
Что стоят все святыни? — В роскошных теремах
Потеют блудодеи и трудятся впотьмах.
Дородные кокетки, пьяны от счастья в дым,
Продать готовы тело распутникам седым,
А душу — черту. Скалясь, пророк вокруг глядит,
И плачет честь слезами кровавыми навзрыд.
* * *
«Все воспевают трезвость; я — пьянство восхвалю!..».
Все воспевают трезвость; я — пьянство восхвалю!
Исполнен дум высоких мечтатель во хмелю.
И лишь тогда герои достойны всех похвал,
Когда их змий зеленый на подвиги позвал.
Подъем душевный славлю; пускай исходит он
Из пенистой баклажки; пускай он пробужден
Настойкой и вдыхает, восторга не тая,
И вешний запах мяты, и трели соловья.
Весь мир измерит трезвость и вдоль и поперек,
А что она получит за долгий труд и срок?
Названия и цифры. Выходит, все равно
Ей завладеть вселенной с линейкой не дано.
Для бражника, что вечно горит в святом огне,
И небо и планеты купаются в вине,
Как жемчуга красотки. Вселенная прильнет
К его груди и лаской под звезды вознесет.
МАРИЯ ФОН ЭБНЕР-ЭШЕНБАХ. Перевод И. Грицковой.
Мария фон Эбнер-Эшенбах (1830–1916). — Прозаик, поэт, драматург. Наряду с Аннетой Дросте-Гюльсгоф — наиболее значительная немецкоязычная поэтесса XIX века. Родилась и выросла в Моравии, в аристократической семье. В 1848 году вышла замуж за инженера Эбнер-Эшенбаха, состоявшего на военной службе и дослужившегося впоследствии до звания фельдмаршала. Первые стихотворения поэтессы получили положительный отзыв Грильпарцера. В прозе Марии фон Эбнер-Эшенбах отчетливо прослеживается влияние И. С. Тургенева.
Поэтическое наследие Марии фон Эбнер-Эшенбах невелико, по читателя поражает его исключительная цельность. Как крупные, так и миниатюрные поэтические вещи написаны очень плотно, с высокой языковой точностью, афористичностью. Недаром писательница много времени посвятила афоризмам как отдельному литературному жанру.
ТАК ОНО ЕСТЬ.
Они мне всё твердят: «Ну не пиши стихи.
Поэзия тебя опустошит, измучит».
«Я б с радостью, по не могу никак».
«Никак не можешь? Вздор! Все дело за тобой.
Тебе недостает желания и воли
Осилить, превозмочь тщеславие свое.
Тебе повсюду льстят, тебя повсюду хвалят.
Как видно, этого лишиться нелегко».
«Не знаю, может быть, все так. Не знаю.
Уверена в одном: пусть выше во сто крат,
Чем до сих пор, мое возносят имя,
К ничтожным похвалам останусь равнодушной.
Взамен продажной и обманной славы
Я предпочла бы выкупить свободу.
Ведь я — невольница, покорная раба.
Я демону служу беспрекословно.
Как мне его назвать? Прости, господь,—
Талантом.
Я знаю многих, одержимых им.
И что ж? Одни в безумном заблужденье
Им помыкать хотят. Другие — хуже! —
В нем видят дар судьбы и пестуют его,
Лелеют, любят. Нет. Все это не по мне.
Я не могу постичь, как можно обожать
Чудовище, которое крадет святыню всех святынь
И радость — быть самим собою.
Ему известно таинство одно:
Лишать покоя, сна и отравлять усладу.
Он шепчет день и ночь:
„Опомнись! Оглянись!
Ты видишь этот свет? А ту деталь, а штрих?
Ты этот запах слышишь?“
В тебя вторгаясь, колдовством своим
Он заполняет мысли, ощущенья,
Жизнь, наконец.
Твой гнев и боль, сочувствие, тоска,
Твой сокровенный помысел, желанье,
Сомнения твои и ненависть твоя —
Все выкрадено им. Он все в себя впитал.
Все, все ему поставлено на службу.
Ну а потом придет пора мытарств.
Опустошенный, ты во власти муки:
Так безоглядно подчинясь ему,
Ты сотворил добро?
Увековечил правду?
Иль было все зазря?
Теперь подумайте, завидна ли судьба,
Начертанная мною перед вами?
О, если б я могла родиться вновь,
Я повернула б жизнь свою иначе.
Жила б в покое, мире и любви.
И лишь для вас, поверьте, сестры, братья,
Все б оставалось так же, как сейчас.
Мне б ваше горе прожигало сердце.
Мне б ваше счастье было высшим счастьем.
Но вас живописать не стала б ни за что».
МАЛЕНЬКАЯ ПЕСЕНКА.
Я не могу никак не петь.
Что в этой песенке, ответь,
Скажи мне, не тая!
Ее напев нетороплив,
Просты слова, и прост мотив.
…В ней вся душа твоя.
ЗАСЫПАЯ.
День кончился. И ночь на откуп нам дана,
Чтоб, сбросив груз невзгод, вкусить блаженство сна.
Сегодня ты страдал. Усни и не грусти.
Вдруг с завтрашнего дня тебе начнет везти?
А если нет? Так что ж! Негодовать, тужить
И горести сносить — все это значит жить.
Но каждый заражен мечтою вожделенной —
Забыться навсегда, расстаться с жизнью бренной.
Спасительница смерть! Любой из нас, скорбя,
Хотя б всего лишь раз, но призывал тебя!
Сон — это та же смерть, но во сто крат короче.
Не бойся, не страшись! Войди в нее средь ночи.
Твоя заглохнет боль. Все снимет, как рукою.
Мы все устремлены к священному покою.
И упиваться им в природе жаждет всяк:
Не только человек, по птаха и червяк
И даже ураган, беснующийся в море.
…Как истребить печаль? Как выкорчевать горе?
Я слово странное услышала вчера —
Нирвана, в нем сокрыт сладчайший смысл добра.
Не может суть его меня не подкупать —
Не думать никогда, а только спать и спать.
Нирвана, твой исход из всех злосчастий прост.
…И вот передо мной предстанет длинный мост.
Из жизни суетной, свирепства бытия
Он перекинут в сон, в обитель забытья.
Лишь ты сомкнешь глаза — найдешь к нему дорогу,
И вся твоя тоска отступит понемногу.
Но чу! Что там за звук? Бьют на стене куранты.
Со скрипками в руках выходят музыканты
И, песенку сыграв, исчезли виновато.
Как жадно им внимал малютка мой когда-то!
И сердце вздрогнуло, вновь явственно воскрес
В усталой памяти густой сосновый лес
И терпкий аромат настоя смоляного.
Ты здесь, мое дитя! Нам не расстаться снова.
Светлы твои черты, твои лобзанья сладки.
Куда же ты? Зачем игру затеял в прятки?
Откликнись, отзовись! Ну, сжалься надо мною.
…Ни шороха в ответ. Мир скован тишиною.
Но этот день иссяк, истлел, умчался мимо,
Растаял, как туман, как снег, как струйки дыма.
И я — живу! Живу! Пусть жизнь меня пытает —
Я вижу, как звезда на небе расцветает.
Пусть хлещет, жжет меня страданий круговерть!
Я только сна боюсь. Он так похож на смерть.
ФЕРДИНАНД ФОН СААР. Перевод В. Вебера.
Фердинанд фон Саар (1833–1906). — Поэт, прозаик и драматург. Участвовал в Итальянском походе 1859 года. В 1873 году совершил длительную поездку в Рим. Последние десятилетия жизни провел в Моравии, лишь ненадолго посещая Вену. Покончил с собой в 1906 году.
В творчестве Фердинанда фон Саара едва ли не впервые в австрийской поэзии возникает тема города и фабричных рабочих. В его произведениях заметно влияние Тургенева и Шопенгауэра.
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД.
Водоемы у карьера
Грязно-желты, как болота.
Над сараями гнилыми
Трубы черные печные.
Люди с кожею землистой
Словно сделаны из глины,
Той, которую бесстрастно
Руки их годами месят.
Мнут, ровняют, гладят, режут,
Кирпича все ту же форму,
Неизменную вовеки,
С безразличьем повторяя.
Мимо них проходит время.
В мерзком месиве увязнув,
Задыхаясь в пыльном зное,
Мир стоит у края бездны.
ОСЕНЬ.
Красишь леса с утра,
Солнечна и добра.
Краше всех роз, по мне,
Ты, в золотом огне.
Нет никаких невзгод,
Нет никаких забот.
Ненарушимый сон
Тихо пресуществлен.
Только нет-нет и в мох
Внятный и кроткий вздох
Скатится с багреца:
Близится час конца.
РЕКВИЕМ.
Помянем усопших.
Серый, промозглый туман
Окутал всю землю,
И на погосте, на склоне горы
Мерцают вразброд фонари,
Мерцают на бугорках иммортели и астры.
Да помянет сегодня
Каждый своих мертвецов,
Украсит цветами державу,
Где тлеют они или истлели давно,—
И память живая уронит чело
На железо и мрамор надгробий
С венками посмертной славы.
Но кто же помянет
Безымянных,
Никем не любимых
И не погребенных?
Чей уход от сограждан
Никто не оплакал,
Никто не заметил?
Кто же сегодня окликнет их души?
Их помянет сегодня
Один человек,
Кто, как и они,
Жил,
Боролся,
Страдал,
Кто всю жизнь трепетал за завтрашний день.
В их судьбе он провидит свою.
Да почиют все они с миром!
АЛБАНИЯ.
ИЕРОНИМ ДЕ РАДА. Перевод Т. Серковой.
Иероним Де Рада (1814–1903). — Родился в деревне в Калабрии, учился в итало-албанской православной коллегии св. Адриана. Записывал народные песни и сказания арберешей (албанцев, живущих в Италии). В 1836 году издал свою первую поэму — «Песни Милосао», тепло встреченную арберешами и сделавшую имя автора известным в Европе. В 1837 году поэт принял участие в заговоре мадзинистов против Бурбонов и вынужден был некоторое время скрываться. В 1841 году издал поэму «Песни Серафины Топии» (второе издание — в 1843 г.). Революционные события 1848 года поэт встретил в Неаполе; сам принимал в них участие; организовал издание первой албанской газеты «Л’Албанезе д’Италия» («Албанец Италии», 1848). После поражения революции поэт уехал в деревню. В 1849 году он добился включения в учебную программу коллегии св. Адриана преподавания албанского языка и сам стал вести этот предмет, однако вскоре был уволен за свои демократические взгляды. В 1866 году поэт издал фольклорный сборник «Рапсод албанской поэмы», в 1873 году — две части поэмы «Несчастный Скандербег», в 1883–1887 годах — второе издание фольклорного сборника под названием «Национальный рапсод. Народные песни». И. Де Рада выпустил также ряд работ о происхождении албанской нации и языка. В 1883–1887 годах он издавал журнал «Фьямури Арберит» («Знамя албанцев»), значение которого для национально-освободительной борьбы было исключительно велико. И. Де Рада призывал албанский народ к открытому выступлению против турок. На рубеже XIX–XX веков Де Рада напечатал две последние песни поэмы «Несчастный Скандербег» и новый вариант поэмы «Песни Серафины Топии» под названием «Зеркало жизни человеческой». Он принял также участие в организации двух конгрессов лингвистов-албанологов (в 1896 и в 1897 гг.). Последние годы жизни И. Де Рада провел в бедности. Де Рада был зачинателем и самым ярким представителем романтизма в албанской литературе, а его поэма «Песни Милосао, сына господаря Шкодры» — наиболее значительным произведением этого направления.
ПЕСНИ МИЛОСАО, СЫНА ГОСПОДАРЯ ШКОДРЫ. (Из поэмы).
«Стылый воздух с гор струится…».
Стылый воздух с гор струится,
И зима бредет в долины.
Я пошел в стан Марелюлье,
Там давно в немом безлюдье
Ждал пастух меня. Он быстро
Молоко согрел овечье
И промолвил, прослезившись:
«Пей, мой мальчик. Помню время —
Приходил твой дед к нам часто,
Молоко ему мы грели,
И сидел он до рассвета,
Горечь битвы забывая».
Здесь могилы моих братьев —
А земля врагу досталась.
Зыбкий сон вспугнули овцы.
Я проснулся: над Мбусатом[5]
Поднимался бледный месяц,
Серебром осыпав море.
Во второй раз я проснулся:
Звезды больше не смотрели
На людей, укрытых буркой,
На овец, шумевших глухо,—
Ночь была, как смерть, черна.
В третий раз я приподнялся:
Закатился тонкий месяц,
По холмам белесым овцы
Одиноко разбрелися.
Я в четвертый раз проснулся:
Наши овцы пили воду
Из реки, как небо, синей.
Все постыло мне, в деревню
Поспешил я вдоль долины.
На траве в лучах рассвета
Хлопья снега исчезали…
Я вошел в орешник, вижу:
Далеко за поворотом
Чей-то стан мелькнул неясно
С голубой полой одежды
И каштановой косою.
В камышах ее нагнал я.
Юноша.
Ты сегодня здесь! Не думал
Я тебя так рано встретить.
Девушка.
Почему меня не видно —
Помогаю братьям в поле.
А сегодня мать велела
Два цикория найти ей.
Где ты спал сегодня ночью?
Юноша.
У костра, укрывшись буркой.
Девушка.
В этот холод? Почему же
Ты домой не мог вернуться?
Юноша.
Потому что мимо дома
Моего не ходит больше
Девушка с густой косою.
Девушка.
Ты, как солнце, — одиноко
Целый день бредешь к ночлегу.
Разве плохо солнцу в небе?
Юноша.
Скоро вновь поход, чужбина.
Я, тебе чужой, погибну.
Рада будешь моей смерти.
Девушка.
Почему?
Мы по дороге
Рядом шли. Она отстала
И смотрела, пряча слезы,
На вершины тополей.
* * *
«Лег, но не могу уснуть…».
Лег, но не могу уснуть.
Дверь пошире отвори,
Чтобы влажный ветер с моря
Освежал всю ночь наш дом.
Мне видны холмы отсюда,
Наш очаг и звезды в небе,
Вдоль стены сидят старухи,
Год прошедший вспоминают…
Девушку с прекрасным станом
Выбрал в жены я себе,
Сын родился у меня,
На нее лицом похожий.
Сколько счастья в дом внесла
Та, что, колыбель качая,
Вышивает пояс мне!
Лег, но не могу уснуть.
Свет безбрежный, полуденный
Вижу я в ее глазах;
Безмятежна и прекрасна,
В доме царствует она.
Пусть о днях моих счастливых
Кто-нибудь на свете вспомнит,
Как названья старых храмов,
Гор и рек капризных вспомнят
Те, что после нас родятся…
Лег, но не могу уснуть.
* * *
«Дождь три дня свинцовой сетью…».
Дождь три дня свинцовой сетью
Заслонял дыханье лета.
На четвертый день над нивой
Протянуло руки солнце.
Я один в тоске смертельной
К роднику с холма спустился,
Под оливой сел на камень.
Плыло марево. Со стога
Сорвалась воронья стая.
Я вскочил, ошеломленный.
Слышно было, как на ниве
Женщины серпы точили.
С виноградника летела
Песнь протяжная. В то утро
Словно родилась земля.
Рина, на твоей могиле
Тоже зреет виноград?
Но был твой удел счастливым,
Даже если на кладбище
Краше всех твоя ограда.
Ты теперь вдали, одна,—
Прах в блистающих одеждах,—
Не разделишь с мужем радость
Летнего, сухого дня.
Господи, творец юдоли!
Будь ко мне ты милосерден,
Смерть приблизь, чтоб я навеки
Вырвался из рук твоих.
* * *
«Дуют ветры с гор высоких…».
Дуют ветры с гор высоких,
У дубов срывают листья.
Кровь моя — в реке Води[6].
Воины, шатер откройте,
Я хочу увидеть Шкодру,
Я сестру хочу увидеть.
У окна сестра томится,
А вокруг качает ветер
Волны яркие цветов.
Мне там больше не проснуться.
Вечерами, как и прежде,
Собираются друзья…
Я ж для них, как сон, исчезну!
Нет на свете Милосао.
ЗЕФ СЕРЕМБЕ. Перевод Я. Козловского.
Зеф Серембе (1843–1901). — Родился в Калабрии. Его отец, участник революционных событий 1848 года, был вынужден после поражения революции покинуть деревню и скрываться в горах. Мальчиком З. Серембе поступил в коллегию св. Адриана, где на него большое влияние оказал И. Де Рада. Окончить коллегию поэту не удалось; он вернулся в родную деревню, затем обошел пешком все калабрийские и сицилийские поселения арберешей, собирал народные песни. Девушка, которую он любил, героиня его многих стихов, эмигрировала вместе с родителями, бедными крестьянами-арберешами, в Бразилию и там умерла. В 1875 году Серембе удалось побывать в Бразилии благодаря дружеской переписке с известной меценаткой, албанкой по происхождению, Еленой Гика, которая дала поэту деньги на поездку; меньше чем через год он покинул Бразилию. В Италию он вез поэму, драму, много стихов; все его надежды были связаны с их изданием. У испанских берегов корабль, на котором плыл поэт, потерпел крушение. Серембе удалось спастись, но рукописи погибли. Оставшись без всяких средств, Серембе прошел пешком Испанию, Италию и вернулся в свою деревню. Вскоре поэт снова уехал в Бразилию. Умер он в Сан-Пауло.
Зеф Серембе редко записывал свои стихи; блестящий импровизатор, он творил их повсюду: в. пути, в гостях, на свадьбах. После смерти поэта отдельные его стихотворения изредка появлялись в печати. Племянник поэта собрал тридцать девять стихотворений 3. Серембе и опубликовал их отдельным изданием в Милане в 1926 году. Только в 1974 году рукописи некоторых стихов З. Серембе были найдены в Копенгагенской королевской библиотеке.
ПОСЛЕ СБОРА УРОЖАЯ.
Клубится в небе туч громада,
Заладил дождь, и грустно нам,
Что сбор окончен винограда
И бродит осень по полям,—
И не пускает нас туда,
Где нам мила была страда.
И лишь с дубов листва опала,
Как, тишину разлив окрест,
Опять зима залютовала.
За прялки усадив невест.
Белы деревья и кусты,
Снег занял гнезда, что пусты.
Я в одиночестве брожу,
Своей возлюбленной не видя.
И всякий раз, на площадь выйдя,
Как будто сам себя бужу.
И не шепнет никто мне вдруг: —
Да вон она в кругу подруг!
Одна отрада: взять ружье
И вдалеке села родного
В пещере горной забытье
Найти под облаками снова.
Привычно верх среди высот
Над явью вымысел берет.
И девушка полувоздушно
Вдруг возникает, как во сне,—
Прекрасна и неравнодушна,
Она приносит радость мне.
Не оттого ль, хоть снег вокруг,
Воочью вижу вешний луг…
И слышу: льется недремотно
Напев златоголовых птиц.
И вижу стелющих полотна
Над речкой женщин-чаровниц.
И тем они, что белокожи,
С речными лилиями схожи.
И в мире том, что создан мною,
Живу, печали вопреки,
И полон радостью земною,
Как зернышками колоски.
И сердце я сквозь снег в лесу,
Как будто бы фонарь, несу.
А в дни, когда гремят обвалы,
И слышится стенанье птиц,
И ледяные ветры шалы,
Моей печали нет границ.
Сидеть мне дома суждено,
И все вокруг черным-черно.
Гляжу с балкона и за гранью
Продрогших стекол вижу вновь,
Как девушка мелькнула ланью,
Чтоб помнил горькую любовь.
И в бездну рушится утес,
И пробуждаюсь я от грез.
Земли и неба сотрясенье,
И волн морских ночной порой
Мне чудится исчезновенье,
Но люди видят сон второй.
И лишь в минуты забытья
Душою отдыхаю я.
И снова мысленно молю
Перед полночного лампадой:
«Приди, которую люблю,
Развей мой страх, утешь, порадуй!
Засну я, и желанья тут
Сбываться сказочно начнут.
Рассказ послушай мой: „Вчера
Нашел в пещере петуха я,
Глухарь был яркого пера,
Глаза мерцали, затухая.
Он ранен был и в смертный час
Подругу звал в последний раз.
И на меня он походил,
Подруге о любви поведал
И умер, не расправив крыл,
И мертвого земле я предал.
И поднял руки к облакам,
Катились слезы по щекам.
Я вспомнил, как в Пилури[7] ты
Когда-то хворост собирала
И, словно ангел доброты,
Меня улыбкою встречала.
Как нежное, зардевшись, мне
Шепнула слово в тишине.
Рододендронов посреди
Тебя, как сердце подсказало,
Я целовал, прижав к груди,
Когда ты хворост собирала.
И, свой благословив удел,
Ликуя, песню я запел:
— Ты слышишь, милая моя,
Что захлестнуло мир веселье,
Как эхо горного ручья
Суровоскальное ущелье.
А небо, от любви оно
Сегодня мягче, чем руно…“»
Темнеет. Поздно. Сжав ружье,
Я вспоминаю все, что было:
Миг, канувший в небытие,
И ту, что про меня забыла.
Удачу, это понял я,
Уносят волны бытия.
ГОСПОЖЕ ЛЮЛЕ.
На холме ты запела отрадно,
Твоя песенка льется мне в грудь.
Видит солнце, как ты ненаглядна
И цветам не уступишь ничуть.
И печаль для меня ты и счастье,
Хоть не блещешь в деревне своей.
Всех красавиц в окрестности застя,
Ранишь сердце мне молний грозней.
Грех смеяться над парнем влюбленным,
Пусть гордишься ты станом точеным,
Обаянье не вечно — учти.
Одержимый любовью земною,
Стал, покой потеряв под луною,
Я костром у тебя на пути.
МОРЯК.
Простимся. О себе не беспокоясь,
Уходит перевозчик нынче в ночь.
Из сундука достань широкий пояс
И меч к нему надежно приторочь.
Ты плачешь, госпожа? Не плачь, не надо,
Жизнь каждому желанна и мила,
Мне и в ее печали есть услада.
Прощай! Меня отчизна призвала.
В сраженье, испытавшие немало,
Мы гневно поднялись, и потому
Несется от причала до причала
Проклятие турецкому ярму.
Ты в море проводи меня и ведай,
Что я к тебе, печали утоля,
Еще вернусь, любимая, с победой,
Вздымая флаг на мачте корабля.
Над собственной судьбою я невластный,
Молю тебя, любовью дорожа,—
В час проводов не выгляди несчастной,
Когда ты арберешка, госпожа.
Любимая, счастливо оставаться,
А в море, словно распахнув крыла,
Являя храбрость, буду я сражаться,
Нам всем пример Теута[8] подала.
Тебе известно, госпожа, что новый
Бардюль[9] поднялся, и, гордясь судьбой,
Иду я в бой, иду на все готовый,
Все чаянья свои связав с тобой.
Когда зари на небе вспыхнет пламя,
Как прежнее на берег ни зови,
Мне молодой женою станет знамя,
А песнь о море — песнею любви.
ВИНЧЕНЦ СТРАТИКО.
Винченц Стратико (1822–1886). — Родился в Калабрии, в аристократической семье, где почитались боевые традиции прошлого; многие из предков поэта принимали участие в вооруженной борьбе с турками на территории Албании и Греции. В. Стратико тоже учился в коллегии св. Адриана и воспитывался в обстановке революционности и свободомыслия, одним из его преподавателей был И. Де Рада, дружбу с которым поэт сохранил на всю жизнь. В 1848 году В. Стратико вместе с двумястами односельчанами сражался с войсками Бурбонов. В 1859 году он возглавил восстание против Бурбонов в Люнгро. В 1860 году В. Стратико во главе пятисот добровольцев присоединился к войскам Гарибальди, проходившим через Калабрию; участвовал в битве за Неаполь; в 1866 году был начальником штаба в армии генерала Дж. Дурандо. В 1874 году поэт подвергся преследованиям за социалистическую деятельность; полиция произвела в его доме обыск, в результате чего погибло много рукописей.
В. Стратико был зачинателем пролетарской поэзии в албанской литературе. В своих многочисленных статьях он выступал в защиту прав трудящихся. Этой же теме посвящена его небольшая поэма на диалекте калабрийских арберешей «Пролетарий» (год написания неизвестен, опубликована в 1959 г.).
ПРОЛЕТАРИЙ. Перевод М. Курганцева.
Плач по случаю смерти того, кто ничего не имел.
Костлявый череп твой обтянут кожей —
Лежишь, на человека непохожий,
Без дома, без надела, без креста.
Ни панихиды по тебе, ни всхлипа.
Положен в яму и землей засыпан
Ты, труженик. Душа твоя чиста.
Ты всех кормил своим трудом и хлебом.
Но пение псалмов, и плач под небом
Кладбищенским, и колокольный звон —
Не для твоих убогих похорон.
Ты брошен в яму, словно ком земли.
Тебя зарыли, а не погребли.
Как ствол большого кряжистого дуба
Лежит, поваленный на землю грубо
Косым ударом молнии слепой,
Разбит, обуглен, оголен, расколот,—
Так ты лежишь, и сумрак — над тобой.
Перемогая боль, и жар, и голод,
В мученьях дни последние влача,
Томился ты без крова, без врача.
Родился нищим — умираешь голым.
Подобно камню сердце богача.
Но если б только лошадь заболела
У богатея, он бы поскорей
Созвал на помощь лучших лекарей
И задал им единственное дело:
Любимицу немедля исцелить!
Ее согреть заботой без предела:
Покрыть попоной, сладко накормить,
И напоить, и уберечь от боли,
Скребком почистить, вычесать, помыть,
Не выводить, чтоб отдохнула в холе.
И вся болезнь пройдет сама собой,
Когда есть врач, забота и опека,
Еда, питье и кров над головой.
А ты, подобье божие от века,
Ты, человек, потомок человека,
Ты, самый благородный на земле,
Лежишь во прахе, в холоде, во мгле!
Ты во сто крат достойней, чем солдат
С ружьем, с ножом, с медалью за победу.
Бездельники торопятся к ободу,
А ты работал, голодая, брат.
Ты всем пожертвовал, все претерпел.
Ты даже хлеба досыта не ел.
Есть у лисы надежная нора,
Свое гнездо — у птицы поднебесной.
Лишь ты один, безропотный и честный,
Не нажил ни лачуги, ни двора.
Невзгодами измотан, изможден,
О хлебе для себя не беспокоясь,
Под градом, ветром, снегом и дождем,
Не видя света, не за страх, за совесть
Ты поработал. Завершил свой путь.
Закопан в землю — можешь отдохнуть.
Ты не имел своей одежды даже,
Овечьей шкуры жалкого куска.
Не для тебя веретено и пряжа,
Постукиванье ткацкого станка.
Ты нас овец, возделывал сады,
Косил траву и собирал оливки.
А что взамен? Объедки да опивки,
Ломоть лепешки да глоток воды.
На виноградниках ты дотемна
Трудился, но не пробовал вина.
Ты за скотом ходил, его стерег
Зимой и летом, не жалея ног,
Но так и не разжился, не запасся
Своего долей сыра или мяса.
Сажал бобы — остался на бобах.
Гнул спину в копях на добыче соли,
А нажил только вечные мозоли,
Кровавым потом навсегда пропах.
При четырех наборах каждый раз
Ты призывался в рекруты, в солдаты.
Мы все перед тобою виноваты:
И жизнь и кровь ты отдавал за нас.
Могильный холод, тишина и прах.
Свободен ты от жизни и от боли.
Но и за гробом на твоих руках
Не сгладятся кровавые мозоли.
Счастливец сытый, щеголь и богач,
Себя оберегающий умело,
Твоих невзгод, и мук, и неудач
Но примет к сердцу. И ему нет дела
До голытьбы. Ловкач себялюбивый,
Он занят только собственной наживой.
Перед тобой захлопывались двери,
И отвращение, и недоверье
Ты находил у входа в каждый дом,
Где господа живут твоим трудом.
Не ожидай поддержки, и щедрот,
И жалости, не уповай на помощь
От тех, кого ты одеваешь, кормишь,
От тех, кому ты отдал кровь и пот.
Ты украшеньем был земли родной,
Родник добра, струившийся потоком.
Ты, шелковичный червь, свой белый кокон
Ты отдал людям, жертвуя собой.
Ты честно послужил отчизне милой
И честно умер, позабытый миром.
Ты временем безжалостно убит.
Старуха-мать пришла. Едва стоит
И молча плачет над твоей могилой.
Мать! Вытри слезы. Ими все моря
Уже полны. Отчаянье, несчастья
Не вечны. И скончался не напрасно
Твой сын, твоя отрада, кровь твоя.
Он человеком был. И силы зла
Над ним не властны. Он погиб не зря.
Он — солнце, что взойдет в заветный час
И щедро землю радостью одарит.
Он — молния. Она еще ударит,
И сгинет враг, поработивший нас.
И человек не будет никогда
Душить и грабить человека, брата.
Все будут жить свободно и богато —
Настанет век совместного труда!
НАИМ ФРАШЕРИ.
Наим Фрашери (1846–1900). — Родился в семье мелкого бея в деревне Фрашери на юге Албании. Стихи на албанском языке начал слагать в детстве В 1865 году вместе с семьей переехал в Янину, где поступил в греческую гимназию. После религиозно-мистической атмосферы, царившей во Фрашери. Наим окунулся в мир классической и современной науки. В гимназии он начал писать стихи по-персидски, которые опубликовал в 1885 году в Стамбуле в сборнике «Грезы». Вернувшись на родину, поэт участвовал в создании Призренской лиги (1878–1881), национальной албанской организации, возглавившей борьбу против турецкого ига. После поражения лиги и ареста ее руководителя Абдюля Фрашери, старшего брата Наима, последний вынужден был уехать в Стамбул. Всего около пятнадцати лет длился творческий путь поэта (1880–1895 гг.), но значение его для процесса развитии албанской литературы было огромно. Н. Фрашери занимал в Стамбуле должность члена цензурной комиссии при министерстве образования Оттоманской империи. При его содействии было получено разрешение на издание многих албанских книг. Много сил поэт отдавал организации освободительного движения, созданию национальных типографий. Из десяти книг, изданных в 1886 году албанским обществом в Бухаресте, шесть принадлежали его перу. Среди них были поэма «Стада и пашни», принесшая поэту всеобщее признание, и патриотическая поэма на греческом языке — «Истинное желание албанцев». Н. Фрашери принимал участие в создании национальных школ в Албании; ему принадлежат первые албанские азбуки, книги для чтения и учебники. Наиболее зрелый и значительный из всех и о поэтических сборников — «Летние цветы» — вышел в 1890 году. В 1898 году Н. Фрашери издал две свои поэмы: «Историю Скандербега» и «Кербела».
Наим Фрашери был самым значительным албанским поэтом эпохи национального возрождения. Его творчество отличалось реализмом, народностью, национальной самобытностью, гуманизмом.
СЕРДЦЕ. Перевод Э. Александровой.
Когда грохочет небосвод
И вспышки молний блещут,
Когда осенний вихрь ревет,
И дождь нещадно хлещет,
И мчится, низвергаясь с гор,
Взбешенным водопадом,
И мир, спокойный до сих пор,
Глядит кромешным адом,—
Тогда не помышляй найти
Знакомых мест приметы
Средь все сметающей с пути
Кипящей лавы этой.
Так сердце вещее певца
Вскипает, словно волны,
И пламенеет без конца,
И мечет стрелы молний;
И дни и ночи, изболев,
Все сетует и стонет,
И, изливая скорбь и гнев,
В слезах кровавых тонет.
О сердце, захлебнулось ты,
Подобно мошке слабой,
И тщетно ждешь, что с высоты
Проглянет луч хотя бы.
…Весна с дождями промелькнет,
Для лета путь расчистив,
И лето гибель обретет
Под грудой желтых листьев;
А листья унесет поток
Распутицей осенней
Туда, где всех начал исток
И всех концов сплетенье…
О ты, не знающее дна
Вместилище вселенной!
Приносит все твоя волна,
Уносит неизменно.
Пока в твой темный океан
Не влился я рекою,—
Век сердцу изнывать от ран,
Век не знавать покоя.
ПЕСНЬ СВЕТИЛЬНИКА. Перевод Э. Александровой.
Средь вас, о люди, и для вас
Во тьме кромешной рдею.
Рожден я, чтобы вам светить,
Чтоб делать вас мудрее.
Сгорю, по каплям изойду,
Истаю весь, счастливый,
Чтобы себя, друзей, весь мир
Полней познать могли вы.
Когда ж угасну наконец,
Не сокрушайтесь — верьте:
Я жизнь с отрадой отдал вам,
Я не страшился смерти!
Я вездесущ, я воплощен
В животворящем свете;
Я в вас самих, я вам родной,
Роднее всех на свете.
Великой доблести пример,
Сурового терпенья,
К самозабвенью вас зову
И к самоотреченью.
Придите ж, сядьте вкруг меня,
Шутите, пойте, пейте,
В душе предела нет любви —
Для вас она, — владейте!
Для вас, для вас мой каждый вздох,
Печаль моя и радость.
Отдав вам все, хочу вкусить
Великой жертвы сладость.
Ведь я люблю людей, люблю
Всем сердцем, всею кровью,—
Так полюбите и меня
Такою же любовью!
Любите жизнь, любите труд,
Друг друга полюбите!
О легкокрылые сердца,
На мой огонь летите!
Он обжигает плоть, зато
Врачует дух недужный.
Пред очистительным огнем
Откиньте страх ненужный.
Да, я ваш самый лучший друг,
Я с давних пор вам ведом,
Я вашим пращурам светил,
И прадедам, и дедам.
Подобно им, я испытал
Немало превращений:
Бывал и глиной, и водой,
И стеблями растений;
Взметался жертвенным костром,
Тлел огоньком болотным.
Искрился в чаше круговой
И в зелье приворотном.
Я отпрыск вечного огня,
Родня светил далеких,
Властитель облачных высот,
Владыка недр глубоких…
Сказал бы больше, да боюсь
Прослыть за многослова,—
И для бумаги ль сотворен
Язык огня святого?!
СВИРЕЛЬ. Перевод Э. Александровой.
Ты слышишь, песня раздалась
Свирели одинокой?
Вновь повела она рассказ
Об участи жестокой:
«С тех пор как, дома и друзей
Лишась, брожу по свету,
Нет у меня счастливых дней,
Минуты доброй нету.
Лила я слезы, грудь свою
Терзала я в печали,
И люди, чуя боль мою,
Скорбели и рыдали.
Потом, страданье затая,
Я примирилась с виду,—
Делю с веселым радость я,
С обиженным — обиду.
Но нет забвенья мне ни в чем:
В беседе ль, за трудами —
Исходит сердце день за днем
Незримыми слезами.
Взирают люди на меня,
Но как заглянешь в душу?
Им не понять того огня,
Что жжет меня и сушит.
Теснясь назойливо вокруг,
Помочь они не властны,
Не пережив ни этих мук,
Ни этой жажды страстной».
Все, кто от родины вдали
Обречены скитаться,
В свирели друга обрели,
Навеки с ней роднятся.
Напев свирели! Наделен
Он прелестью манящей;
Ему весь мир внимает, он —
Огонь животворящий.
Он светом сумрак озарит,
Вино играть заставит,
Надеждой душу опьянит
И лед в сердцах расплавит.
Дал звучный голос соловью,
Цветку — благоуханье,
Смысл вдохновенный — бытию
И стройность — мирозданью.
Он к небесам свой жар вознес
И в бездне опаленной
Зажег мильоны ярких звезд —
Могучих солнц мильоны.
Крупицу этого огня
Взял бог — творец природы
И, в землю искру зароня,
Дал жизнь людскому роду.
О пламя чистое, гори,
Пылай в душе поэта!
Захочешь жизнь мою — бери,
Но не оставь без света!
* * *
«В тебе я целый мир пою…». Перевод Т. Скориковой.
В тебе я целый мир пою
И красоту вселенной,
Я строки эти отдаю
Твоей красе нетленной.
В тебе пою я красоту,
И песня льется в высоту,
Как птица,
Лечу в твой царственный чертог,
Чтобы в звучанье этих строк
Явиться.
* * *
«Твое дыхание — как легкий взлет ветвей!..». Перевод Т. Скориковой.
Твое дыхание — как легкий взлет ветвей!
В листве трепещет персик спелый,—
Возьми в ладонь, и кажется, что в ней
Забьется сок его литого тела…
Так отчего ж негреющий огонь,
А не полдневный жар ты в сердце заронила
И вместо мака на мою ладонь
Морозный лепесток жасмина положила?
Сковала сердце зимняя тоска,
И, словно подо льдом, безмолвно стынут строки…
Но знай: в душе моей весенняя река,—
Ждут половодья скрытые потоки!
* * *
«Пусть я сгорю во тьме свечой…». Перевод Т. Скориковой.
Пусть я сгорю во тьме свечой,
Но знала б ты, как я томился,
Как с опаленною душой
Вдруг улыбаться научился,
Как, засветив огонь в ночи,
Истаял с пламенем свечи…
ФИЛИНН ШИРОКА.
Филипп Широка (1859–1935). — Родился в городе Шкодре, окончил городскую итальянскую школу. Принимал активное участие в деятельности Призренской лиги (см. выше). После поражения лиги вынужден был покинуть родину и с тех пор жил в Египте и Ливане; умер в Бейруте. Большинство своих стихотворений написал и опубликовал в период с 1896 по 1903 год под псевдонимом Гег Пострипа. Единственный сборник стихов поэта — «Муза сердца» — вышел в 1933 году в Тиране.
ЗИМА. Перевод Т. Скориковой.
Пора зимы все явственней близка:
Душа скорбит, и сердце мое точит
Природу охватившая тоска,
Которая мне горести пророчит.
Сгустились над землею облака,
Деревья стонут, гром во тьме грохочет,
А ветер не оставил ни листка
И сердце разорвать на части хочет.
Но снег укроет горы и поля,
Чтобы опять весеннею порой
Проснулась к жизни спящая земля.
Лишь мое сердце правды не скрывает:
Снег старости ложится сединой,
И под лучами солнца он не тает.
АНГЛИЯ.
ТОМАС ГУД.
Томас Гуд (1799–1845). — Родился в семье книготорговца и издателя в Лондоне. Начал писать, когда в английской поэзии ведущими были романтические направления, но, считая, что «полезней подметать сор в настоящем, чем стирать пыль с прошедшего», он сразу обратился к современной тематике. Известность завоевал своими юмористическими и сатирическими стихами. Томас Гуд — один из ведущих поэтов социального протеста 1830–1840-х годов. Его «Песню о рубашке» высоко ценил Ф. Энгельс.
ДЖОН ДЕЙ. (Патетическая баллада). Перевод Г. Русакова.
Краса и гордость кучеров,
Джон Дей был грозно-тучен.
И ширь его смущала всех,
Кто к шири не приучен.
Лишь взгромоздится на задки,
А лошадей шатает:
Легко ли снесть такую честь!
Силенок не хватает.
Увы! Никто не убежит
Всевластья Купидона.
И вот коварная стрела
Впилась в жилетку Джона.
Он полюбил. Она была
Служанкой из таверны,
Где он, меняя лошадей,
Служил ей правдой верной.
Прелестниц полон дилижанс,
Рядком сидят снаружи.
А для него — одна она,
Ему никто не нужен.
Раз он вошел — она сидит,
Пивные кружки сушит.
И рухнул Джон, вконец сражен,
Пред нею всею тушей.
Она в ответ: «Ах, сударь, нет!..
Ваш вид уж больно странен.
Такой размах, что просто страх…»
Но Джон был страстью ранен.
Уж он стонал, уж он стенал,
Уж он вздыхал, тоскуя!..
Проходит год, второй идет.
Кокетка — ни в какую.
Уперлась — хоть ты расшибись!
Кричит ему бесстыже:
«Катись ты в Ковентри, толстяк!»
(Хоть Страуд много ближе.)
И он катил под скрип колес,
Упорен и беззлобен:
Непредсказуем путь любви
И трясок от колдобин.
Бедняк ослаб и побледнел,
Он таял, точно свечка.
Ему хотя бы нежный взгляд,
Единое словечко!
«О Мэри, глянь: я сух и тощ,
Вконец от страсти сгину.
И не женат, а потерял
Почти что половину».
Но нет, не трогают мольбы
Ни глаз ее, ни слуха.
А Джона ветром долу гнет,
Крылом сшибает муха.
Он даже больше не тощал,
Усохнув до предела.
И понял Джон, что он смешон,
А жить смешным не дело.
Опасен водный рацион,
И вы в него не верьте:
Бедняга Джон лишь воду пил —
И допился до смерти.
Приходит Мэри поутру,
А к ужасу красотки,
Торчат из бочки во дворе
Лишь мокрые подметки…
Есть слух, что бродит Джонов дух
Округой, безутешен.
Но кто поверит, чтобы Джон
Бродил по свету пешим?
ПЕСНЯ О РУБАШКЕ[10]. Перевод Э. Багрицкого.
[10].
От песен, от скользкого пота —
В глазах растекается мгла.
Работай, работай, работай
Пчелой, заполняющей соты,
Покуда из пальцев с налета
Не выпрыгнет рыбкой игла!..
Швея! Этой ниткой суровой
Прошито твое бытие…
У лампы твоей бестолковой
Поет вдохновенье твое,
И в щели проклятого крова
Невидимый месяц течет.
Швея! Отвечай мне, что может
Сравниться с дорогой твоей?..
И хлеб ежедневно дороже,
И голод постылый тревожит,
Гниет одинокое ложе
Под стужей осенних дождей.
Над белой рубашкой склоняясь,
Ты легкою водишь иглой,—
Стежков разлетается стая
Под бледной, как месяц, рукой,
Меж тем как, стекло потрясая,
Норд-ост заливается злой.
Опять воротник и манжеты,
Манжеты и вновь воротник…
От капли чадящего света
Глаза твои влагой одеты…
Опять воротник и манжеты,
Манжеты и вновь воротник…
О вы, не узнавшие страха
Бездомных осенних ночей!
На ваших плечах — не рубаха,
А голод и пение швей,
Дни, полные ветра и праха,
Да темень осенних дождей!
Швея! Ты не помнишь свободы,
Склонясь над убогим столом,
Не помнишь, как громкие воды
За солнцем идут напролом,
Как в пламени ясной погоды
Касатка играет крылом.
Стежки за стежками, без счета,
Где нитка тропой залегла;
«Работай, работай, работай,—
Поет, пролетая, игла,—
Чтоб капля последнего пота
На бледные щеки легла!..»
Швея! Ты не знаешь дороги,
Не знаешь любви наяву,
Как топчут веселые ноги
Весеннюю эту траву…
…Над кровлею месяц убогий,
За ставнями ветры ревут…
Швея! За твоею спиною
Лишь сумрак шумит дождевой,
Ты медленно бледной рукою
Сшиваешь себе для покоя
Холстину, что сложена вдвое,
Рубашку для тьмы гробовой…
Работай, работай, работай,
Покуда погода светла,
Покуда стежками без счета
Играет, летая, игла.
Работай, работай, работай,
Покуда не умерла!..
АЛЬФРЕД ТЕННИСОН.
Альфред Теннисон (1809–1892). — Родился в семье священника. Закончил Кембриджский университет. Первые свои поэмы написал еще в годы учения. Первая книга, «Стихи», была издана в 1830 году. Этот сборник подвергся тщательной авторской переработке и был переиздан в 1842 году. В 1850 году А. Теннисон опубликовал книгу элегий «В память А. Г.», которые считаются лучшими его творениями, и получил звание Поэта-лауреата. Книга «Королевские идиллии» (1858) — стилизация средневековых легенд о короле Артуре и рыцарях Круглого стола; живя в полном согласии со своим временем, Теннисон написал сентиментальные идиллии, которым идеализация средневековья придает оттенок авторской неудовлетворенности настоящим.
В истории поэзии Теннисон остался как лирический поэт, автор пейзажной лирики, искренней и эмоциональной, и как мастер лирической миниатюры, которую отличает продуманная элегантность и звуковая гармония.
ЛОТОФАГИ[11]. Перевод Г. Кружкова.
[11].
«Смелей! — он крикнул, указав туда,
Откуда шум прибоя доносился.—
Нас вынесет приливная вода!»
Так экипаж спасенный очутился
На берегу, где вечный вечер длился
И полный месяц в вышине сиял;
Ласкаясь томно, ветерок струился;
А водопад дымился и сверкал —
И аркой хрусталя над морем застывал.
Страна ручьев! Одни сочились вниз
Каскадом капель, кружевным узором;
Другие через каменный карниз
Переливались шумно и с напором;
Широкая река предстала взорам;
А часть небес была заслонена
Высоким снежным пиком, за которым
Горел закат; и на скале сосна
Росой летучих брызг была окроплена.
Чарующий закат не остывал
На алом западе; между горами
Просвет открыто видеть позволял
За долом дол, как в светлой панораме,
И пальмы, и низины с камышами,—
Казалось, все застыло в той стране!
И бледны, с отрешенными очами,
Явились Лотофаги в тишине,
Задумчиво-грустны, как тени в смутном сне.
В руках они несли пучки цветов,
Плоды и стебли — той волшебной силы,
Что если кто их брал из моряков
И ел, — то делались ему постылы
И корабли, и моря шум унылый;
И если спрашивал о чем-то друг,
То голос глухо шел, как из могилы;
И сквозь дремоту он глядел вокруг;
И музыкой в ушах ему был сердца стук.
Садился он у моря, на песке,
Меж солнцем и луной посередине,
И родину воображал в тоске,
Своих детей, жену; но уж отныне
Страшился плыть по водяной пустыне,
Бороться с бурей, налегать веслом;
И что-то говорил еще о сыне…
Но эхо вторило ему: «Твой дом
За волнами далек; что вспоминать о нем!»
* * *
«Когда луна на полог мне…». Перевод М. Соковнина.
Когда луна на полог мне
Прольет свой луч, я знаю: он
У моря, там, где тих твой сон,
Сияньем вспыхнул на стене.
Твой мрамор выступил на свет,
Серебряный пожар луны
Крадется тихо вдоль стены,
Вдоль имени и чисел лет.
Но вот — он уплывает прочь,
Как луч на пологе моем.
Усталый, я забудусь сном,
Пока рассвет не сменит ночь.
Тогда, я знаю: развита
Над морем искристая шаль,
А в церкви, там, где спит печаль,
Как призрак, светится плита.
ГОДИВА[12]. Перевод И. Бунина.
[12].
Я в Ковентри ждал поезда, толкаясь
В толпе народа по мосту, смотрел
На три высоких башни — и в поэму
Облек одну из древних местных былей.
Не мы одни — плод новых дней, последний
Посев Времен, в своем нетерпеливом
Стремленье вдаль злословящий Былое,—
Не мы одни, с чьих праздных уст не сходят
Добро и Зло, сказать имеем право,
Что мы народу преданны: Годива,
Супруга графа Ковентри, что правил
Назад тому почти тысячелетье,
Любила свой народ и претерпела
Не меньше нас. Когда налогом тяжким
Граф обложил свой город, и пред замком
С детьми столпились матери, и громко
Звучали вопли: «Подать нам грозит
Голодной смертью!» — в графские покои,
Где граф, с своей аршинной бородой
И полсаженной гривою, по залу
Шагал среди собак, вошла Годива
И, рассказав о воплях, повторила
Мольбу народа: «Подати грозят
Голодной смертью!» Граф от изумленья
Раскрыл глаза. «Но вы за эту сволочь
Мизинца не уколете!» — сказал он.
«Я умереть согласна!» — возразила
Ему Годива. Граф захохотал,
Петром и Павлом громко побожился,
Потом по бриллиантовой сережке
Годиве щелкнул: «Россказни!» — «Но чем же
Мне доказать?» — ответила Годива.
И жесткое, как длань Исава, сердце
Не дрогнуло. «Ступайте, — молвил граф,—
По городу нагая — и налоги
Я отменю», — насмешливо кивнул ей
И зашагал среди собак из зала.
Такой ответ сразил Годиву. Мысли,
Как вихри, закружились в ней и долго
Вели борьбу, пока не победило
Их Состраданье. В Ковентри герольда
Тогда она отправила, чтоб город
Узнал при трубных звуках о позоре,
Назначенном Годиве: только этой
Ценою облегчить могла Годива
Его удел. Годиву любят, — пусть же
До полдня ни единая нога
Не ступит за порог и ни единый
Не взглянет глаз на улицу: пусть все
Затворят двери, спустят в окнах ставни
И в час ее проезда будут дома.
Потом она поспешно поднялась
Наверх, в свои покои, расстегнула
Орлов на пряжке пояса — подарок
Сурового супруга — и на миг
Замедлилась, бледна, как летний месяц,
Полузакрытый облачком… Но тотчас
Тряхнула головой и, уронивши
Почти до пят волну волос тяжелых,
Одежду быстро сбросила, прокралась
Вниз по дубовым лестницам — и вышла,
Скользя, как луч, среди колонн, к воротам,
Где уж стоял ее любимый копь,
Весь в пурпуре, с червонными гербами.
На нем она пустилась в путь — как Ева,
Как гений целомудрия. И замер,
Едва дыша от страха, даже воздух
В тех улицах, где ехала она.
Разинув пасть, лукаво вслед за нею
Косился желоб. Тявканье дворняжки
Ее кидало в краску. Звук подков
Пугал, как грохот грома. Каждый ставень
Был полон дыр. Причудливой толпою
Шпили домов глазели. Но Годива,
Крепясь, все дальше ехала, пока
В готические арки укреплений
Не засияли цветом белоснежным
Кусты густой цветущей бузины.
Тогда назад поехала Годива —
Как гений целомудрия. Был некто,
Чья низость в этот день дала начало
Пословице: он сделал в ставне щелку
И уж хотел, весь трепеща, прильнуть к ней,
Как у него глаза оделись мраком
И вытекли, — да торжествует вечно
Добро над злом. Годива же достигла
В неведении замка — и лишь только
Вошла в свои покои, как ударил
И загудел со всех несметных башен
Стозвучный полдень. В мантии, в короне
Она супруга встретила, сняла
С народа тяжесть податей — и стала
С тех пор бессмертной в памяти народа.
К ***, ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ «ЖИЗНИ И ПИСЕМ»[13]. Перевод Г. Кружкова.
[13].
Проклятие тому, кто потревожит мои кости.
Эпитафия Шекспира.
И ты бы мог поэтом слыть
(Какой бы ни был в этом прок),
И гордо лавровый венок
На лбу прославленном носить.
Но ты избрал другой удел:
Спокойно плыть в потоке дней
Сквозь тьмы забывчивых друзей,
Негромких слов, разумных дел.
Ты избежишь в конце концов
Позора тех, кто знаменит:
Твой мирный гроб не оскорбит
Орда шутов и подлецов.
Ведь ныне, коль умрет поэт,—
Остыть бедняге не дадут,—
А уж вокруг и спор и суд,
Скандал и крик на целый свет:
«Ломай замок! Врывайся в дверь!
Священного нет ничего!
Подай нам слабости его!» —
Рычит многоголовый зверь.
Бесстыжие! Он только пел;
Он жил совсем не напоказ,
И ни для чьих досужих глаз
Героем быть он не хотел.
Он в песни лучшее вложил,
А худшее с собой унес.
Будь проклят тот глумливый пес,
Кто в почве роется могил!
Завидней век свой просвистеть
Пичугой скромной в лозняке,
И доверяться лишь реке,
И в гуще листьев умереть,
Чем звучной песней славу звать
И гордым жить среди невзгод,—
Когда стервятник часа ждет
Тебя, как падаль, растерзать!
У МОРЯ[14]. Перевод С. Маршака.
[14].
Бей, бей, бей
В берега, многошумный прибой!
Я хочу говорить о печали своей,
Непокойное море, с тобой.
Счастлив мальчик, который бежит по песку
К этим скалам, навстречу волне.
Хорошо и тому рыбаку,
Что поет свою песню в челне.
Возвращаются в гавань опять
Корабли, обошедшие свет.
Но как тяжко о мертвой руке тосковать,
Слышать голос, которого нет.
Бей, бей, бей
В неподвижные камни, вода!
Благодатная радость потерянных дней
Не вернется ко мне никогда.
* * *
«В чем, в чем причина этих странных слез?..»[15]. Перевод В. Рогова.
[15].
В чем, в чем причина этих странных слез?
Они, высокой скорбью рождены,
Идут из сердца, застилают взор,
Когда смотрю на ширь осенних нив
И думаю про канувшие дни.
Свежее первого луча, что пал
На парус, приносящий к нам друзей,
Грустней луча, который обагрил
Все милое, идущее ко дну,
Грустны и свежи канувшие дни.
Грустны и странны, как в предсмертный час
Хор полусонных птиц перед зарей,
Когда глазам тускнеющим окно
Квадратом, все светая, предстает,
Грустны и странны канувшие дни.
Вы дороги, как память милых уст
Усопшему, лобзаний слаще вы
Придуманных, бездонны, как любовь,
Как первая любовь, как совесть, злы,
О Смерть средь Жизни, канувшие дни.
ТИФОН[16]. Перевод А. Сергеева.
[16].
Истлеет лес, истлеет лес и ляжет,
Туман придет и выплачется в почву;
Придет, уйдет под землю земледелец,
И лебедь, житель долгих лет, умрет.
Лишь я жестокого бессмертья пленник;
Я чахну медленно в твоих пределах,
Седою тенью, как во сне, скитаюсь
По вечно молчаливому Востоку,
Блуждаю лабиринтами тумана,
Вхожу в чертог сияющей зари…
Увы! Я был когда-то человеком
И юношеской так блистал красою,
Что ты на мне остановила выбор;
И я, счастливый сердцем, возгордился
И возомнил, что я такой же бог.
Я попросил тебя: — Дай мне бессмертье! —
И ты его дала мне с небреженьем,
С каким монетку подает богач.
Но бдительные Оры[17], негодуя,
Меня согнули и опустошили
И, так как мне не может быть кончины,
Оставили меня калекой, прахом,
Бессмертным ветхим стариком, соседом
Бессмертной юности. Твоя любовь
И красота не облегчили горя,
Хотя поныне от моих стенаний
В очах твоих, наполненных слезами,
Подрагивает кормчая звезда.
Пусти меня, возьми свой дар обратно!
Зачем я отделился от людей,
Зачем презрел исконный распорядок,
По коему в конце всего — покой?
Сквозь тающие тучки на мгновенье
Проглянул темный мир, где я родился;
Но вновь крадется тайное сиянье
От чистого чела и чистых плеч,
И сердце просыпается в груди.
Во мгле твои ланиты заалели,
Но очи милые, с моими рядом,
Еще не ослепили звезд, и кони
Твоей упряжки дикой не проснулись,
И не стряхнули с грив остатков мрака,
И первых искр не высекли из мглы.
Да, в утреннем молчанье ты прекрасна,
Но, как всегда, ни слова не ответишь —
Слезинку лишь оставишь на щеке.
Зачем слезами ты меня пугаешь?
Ужели верно старое реченье
Из мира темного, что сами боги
Своих даров назад не в силах взять?
О, горе! Ведь когда-то с легким сердцем
Счастливыми глазами наблюдал я,—
Не верится, что то был тоже я,—
Как свет тебя очерчивал во мраке,
Как локоны от солнца пламенели;
Вслед за тобой и я преображался,
И кровь во мне пылала тем пыланьем,
Каким багришься ты и твой чертог;
Губами, лбом, закрытыми глазами
Я чувствовал: роса на мне теплеет
От поцелуев, нежных, как бутоны
Полураскрывшейся весны; и слышал
Из уст твоих безумный сладкий лепет,
Сравнимый разве с пеньем Аполлона
При возведенье илионских стен[18].
И все ж, позволь мне твой Восток покинуть;
Мне по природе можно ль быть с тобой?
Твои прохладны розовые тени
И свет прохладен, — как прохладны ноги
Мои на золотых твоих ступенях,
Когда пары неясного рассвета
Возносятся над темными домами
Счастливых, наделенных даром смерти,
И над гробами более счастливых.
Освободи меня, верни земле!
Богиня, обновляй от утра к утру
Свою красу — ты можешь все; а мне —
Дай мне могилу, чтобы, прах во прахе,
Забыл я, как в серебряной упряжке
Ты возвращаешься в родной чертог.
ВИЛЬЯМ МЕЙКПИС ТЕККЕРЕЙ.
Вильям Мейкпис Теккерей (1811–1863). — Один из создателей английского реалистического социального романа. Родился в Калькутте в семье чиновника Ост-Индской компании. В университетские годы испытал огромное влияние творчества П.-Б. Шелли.
Большинство стихов В.-М. Теккерея, которые он в основном печатал в журнале «Панч», носят откровенно бурлескный характер; как правило, они являются иллюстрациями к его прозаическим произведениям. (Подробнее о Теккерее см. в томе БВЛ: В. Теккерей. Ярмарка Тщеславия).
БАЛЛАДА О БУЙАБЕСЕ. Перевод В. Рогова.
На улице, в Париже славной,
Стоит известный ресторан;
Зовется улица издавна
Поднесь Bue Neuve des Petits Champs[19].
Хоть заведенье небогато,
Готовят в нем деликатес —
Там часто я бывал когда-то
И ел отменный буйабес.
Прекраснейшее это блюдо,
Я в том присягу дать готов:
В одной кастрюле — ну и чудо! —
Найдете рыбу всех сортов,
Обилье перца, лука, мидий,—
Тут Гринич сам теряет вес! —
Все это в самом лучшем виде
И составляет буйабес.
Да, в нем венец чревоугодий!
Пора философам давно,
Любя прекрасное в природе,
Ценить и яства и вино.
Какой монах найдет несносным
Меню предписанных трапез,
Когда по дням исконно постным
Вкушать бы мог он буйабес?
Не изменилась обстановка:
Все та же вывеска, фонарь,
И улыбается торговка,
Вскрывая устрицы, как встарь.
А что Терре? Он ухмылялся,
Гримасничал, как юркий бес,
И, подлетев к столу, справлялся,
Гостям по вкусу ль буйабес.
Мы входим. Тот же зал пред нами.
«А как мосье Терре, гарсон?»
Он говорит, пожав плечами:
«Давным-давно скончался он».
«Так кончились его печали —
Да внидет в царствие небес…»
«А что б вы кушать пожелали?»
«А все ли варят буйабес?»
«Mais oui, monsieur! — Он скор с ответом.—
Voulez-vous boire, monsieur? Quel vin?»[20]
«Что лучше?» — «Помогу советом:
С печатью желтой шамбертен».
…Да, жаль Терре! Он распростился
С отрадой вскормленных телес,
Когда навеки вас лишился,
Бургундское да буйабес.
В углу стоит мой стол любимый,
Не занят, будто на заказ;
Года прошли невозвратимо,
И снова я за ним сейчас:
Под этой крышей, cari luoghi[21],
Я был повеса из повес,—
Теперь, ворчун, седой и строгий,
Сижу и жду я буйабес.
Где сотрапезники, что были
Всех ближе в пору дней былых?
Гарсон! Налейте из бутыли —
До дна хочу я пить за них!
Со мной их голоса и лица,
И мир исчезнувший воскрес —
Вся банда вкруг стола толпится,
Спеша отведать буйабес.
Удачно очень Джек женился,
Смеется, как и прежде, Том,
Огастес-хват остепенился,
А Джеймс во мраке гробовом…
Немало пронеслось над светом
Событий, бедствий и чудес,
С тех пор как здесь, друзья, кларетом
Мы запивали буйабес.
Как не поддаться мне кручине,
Припомнив ход былых годин,
Когда я сиживал, как ныне,
Вот здесь, в углу, — но не один?
Передо мною облик милый:
Улыбкой, речью в дни забот
Не раз она меня бодрила…
Теперь никто со мной не пьет.
Я пью один, веленьем рока…
Стихов довольно! Пью до дна
За вас, ушедшие далеко
Пленительные времена!
Так, не печалясь и на тризне,
За все, в чем видел интерес,
Останусь благодарен жизни…
Несут кипящий буйабес!
РОБЕРТ БРАУНИНГ.
Роберт Браунинг (1812–1889). — Родился в семье банковского служащего в Лондоне. Первая поэма, созданная Р. Браунингом, — «Полина» (1833). Им были написаны несколько пьес, в которых как раз отсутствует то напряженное движение, которое стало основой драматического монолога, излюбленной поэтической формы Р. Браунинга. Высшего мастерства в разработке этой формы поэт добился в циклах «Мужчины и женщины» (1855) и «Dramatis Personae» (1864). В первую очередь это нравственно-философская поэзия. Браунинг часто пишет об исторических личностях. Его монологам свойственна детальная психологическая мотивировка, стремление передать сложность внутреннего мира человека.
БЛАГОПРИСТОЙНОСТЬ. Перевод В. Рогова.
Нет, милый, свет не скажет нам:
«Как ваш союз понятен мне!
Ему сочувствуя вполне,
Я вам благословенье дам!»
Как много месяцев и лет
Умчалось быстрой чередой —
И все ж мы поняли с тобой,
Чего боится свет!
Нам лет потраченных не счесть
Меж тех, кто обществу оплот,—
Предобродетельных господ
И дам, что соблюдают честь,—
Но мы гуляем, им назло,
Вдоль Сены, в ливень, в поздний час,
И на Бульварах манят нас
Блаженство, свет, тепло!
Любовь попробуй запрети!
Нет, рада я своей судьбе!
Позволь мне по губам тебе
Рукой в перчатке провести…
А вот в сиянье фонарей
Встал Институт; другим в пример,
К Гизо спешит Монталамбер…
А ну-ка, веселей!
АНДРЕА ДЕЛЬ САРТО[22] ПО ПРОЗВИЩУ «БЕЗУПРЕЧНЫЙ ЖИВОПИСЕЦ». (Фрагменты). Перевод В. Рогова.
[22].
Ну, полно, больше ссориться не надо,
Лукреция моя; стерпи хоть раз.
Присядь, и все, как пожелаешь, будет.
Лицо ко мне повернуто, а сердце?
Я выполню заказ, который даст
Друг друга твоего, не беспокойся —
То, что захочет он и как захочет,
В срок установленный и не торгуясь,
А деньги в эту маленькую ручку
Вложу, когда она моей коснется,—
Да? Нежно? Все исполню, дорогая,
Но завтра! Я сильнее устаю,
Чем ты подумать можешь, а сегодня
Сильней обычного, и мне сдается,—
Прости меня, — что если посидеть нам
Здесь, у окна, рука в руке, смотря
На Фьезоле так с полчаса, и думать,
Как любящим супругам, об одном,
И тихо-тихо вечер скоротать,
То завтра я за труд могу приняться,
И свеж и весел. Сделаем попытку.
А завтра будешь рада ты сама!
Твоя рука — что женщина, моя же —
Мужское сердце, что ее вместило.
Не зря ты время тратишь: посиди
Для всех пяти заказанных картин —
И сэкономим на модели… Так!
Так выгляди — прекрасная змея,
Что, за кольцом кольцо, склубилась плавно!
Зачем безукоризненные уши
Ты проколола даже для серег?
Как хороша луна! И мне и всем
Она принадлежит — любой считает
Ее своей, и все ж ничья она,
Хотя мила… Ага, ты улыбнулась?
Ну, вот, моя картина и готова,
Вот что гармонией зовет наш цех!
Все тонет в серебристо-серой дымке,
Все в сумерках — и мы с тобою тоже.
Точь-в-точь такая ты, как в дни, когда
Гордилась мною (что давно прошло),
А я совсем, как сумерки, поблек.
Все тускло: молодость, мечты, искусство —
Как очертанья Фьезоле[23] вдали.
…………………….
Когда б ты каждый день со мной сидела,
Я лучше бы писал, ты понимаешь?
Ну, то есть больше получал бы денег
И больше бы дарил тебе. Темнеет,
Вон первая звезда. Морелло[24] скрылся.
При фонарях дозора видно стену,
И вдалеке заухали сычи.
Ну, милая, вернемся от окна
В наш грустный дом, что для веселья сложен.
Бог справедлив. Простит Франциск[25], быть может:
Я ночью от мольберта отведу
Усталый взгляд, и кажется, что стены
Светиться начинают, кирпичи
Как будто гневным золотом сверкают —
Тем золотом, что их скрепило здесь!
Давай любить друг друга. Ты уходишь?
Опять пришел кузен? И ждет снаружи?
Тебя он хочет видеть — без меня?
Он снова проигрался? Денег надо?
Поэтому ты улыбалась? Что ж,
Купи меня улыбками! Еще
Найдется у тебя? Рука, и глаз,
И сердца часть еще при мне остались,
Трудом живу я, — сколько стоит он?
Я заплачу за прихоть. Но позволь
Побыть с тобою вместе дотемна —
В безделье, как считаешь ты, — мечтая,
Как написал бы, возвратясь в Париж,
Еще одну картину, лик мадонны —
Не твой на этот раз! А ты могла бы
Услышать их, — ну, Аньоло[26], конечно,—
Как он судил мой труд, чего он стоит.
Согласна? Верь, твой друг доволен будет:
Готов я выполнить его заказы,
Портрет шутя доделаю, — да, да,
А заворчит он — что-нибудь еще
Ему подкину, и довольно будет,
Чтоб выручить кузена. А вдобавок,
Что лучше и что мне важней всего,
Тебе на брыжи дам тринадцать скуди[27]!
Ты рада, милая? Но он-то, он,
Кузен! И чем тебе он полюбился?
Я нынче безмятежен, как старик.
Жалею о немногом, перемен
Совсем не жажду. Прошлое прошло,
Так для чего еще менять что-либо?
Проступок мой перед Франциском?
Правда, Его я деньги взял, в соблазн я впал,
Дом этот выстроил, грешил — и все тут.
Родители мои в нужде скончались —
А сам-то был богат я? Ты же видишь,
Как богатеют! Каждому свое.
Они ведь нищими и родились,
И жили, и скончались. Я трудился
За плату жалкую. Пусть сын хороший
Попробует, как я, картин две сотни
Создать! Есть, право, в чем-то равновесье,
Ведь я сегодня был тобой любим.
С меня достаточно. Чего ж еще?
Одну возможность — в царствии небесном,
Быть может, ангел выделит четыре
Стены: для Леонардо[28], Рафаэля[29],
И Микель Аньоло, и для меня,—
Они все холосты и побеждают,—
Но у меня Лукреция! Я выбрал.
Кузен свистит! Ступай, любовь моя.
РАЗВИТИЕ[30]. Перевод А. Сергеева.
[30].
Отец мой был филолог-эллинист.
Я, пятилетний, раз его спросил:
«Ты что читаешь?» — «Про Осаду Трои».
«Осаду… Трои… Что это такое?»
Он стулья и столы составил в город
И, посадив меня наверх Приамом,
Поведал, что Елену — нашу кошку —
От прежнего хозяина сманил
Злодей Парис, и вот она, трусиха,
Забилась под скамеечку для ног;
Собаки наши, Таузер и Трей,—
Атриды — из-за драгоценной киски
Воюют с Троей; а когда Ахилл —
Мой пони — перестанет обижаться
И выскочит из стойла, Гектор дрогнет
И побежит (рассыльный наш мальчишка).
Так я узнал, кто — кто и что к чему.
В пять лет я понял все, что мог понять,
Какой же это был восторг! Должно быть,
Такой же, как сейчас. Наставник мудрый
Не ослепил невыносимым светом
Всезнанья слабые глаза невежды,
Но и не дал им впредь подслеповато
Довольствоваться тьмой и пустотой.
Когда двумя-тремя годами позже
С друзьями я играл в Осаду Трои,
Отец мой увидал и не одобрил:
«Тебе пора бы самому прочесть
В подробностях о том, о чем когда-то
Я дал тебе начальное понятье.
Вот Поп[31] — он досконально изложил
То, что в один прекрасный день, быть может,
Услышишь ты от самого Гомера.
Штудируй греческий, — по крайней мере,
Старайся, — может быть, к тебе придет
Слепой Старик, Сладчайший из Певцов,—
„Туфлос“ — слепой, „гедистос“ — самый сладкий.
Пока же будь доволен переводом —
Читай!» Я прочитал запоем Попа:
Что может быть прекрасней и правдивей?
Потом я с чувством взялся за учебник,
Ступенька за ступенькой подбираясь
К оригиналу, к подлинному слову,
Когда мне будет нужен, скажем, Буттман[32].
Шло время; я готовился — и вдруг:
«Ты, говоришь, созрел для „Илиады“?
Вон Хайне[33] — красный том на третьей полке;
Да не забудь заглядывать в словарь!»
Не упустив ни слова, я узнал,
Кто — кто и что к чему, из уст Гомера;
Ученье кончилось. Теперь спросите
Ученого двенадцати годов:
«Кто автор „Илиады“?» — детский смех!
Конечно же, Гомер! Давно известно,
Что он был нищий и слепой; поныне
Не установлено, где он родился,—
Семь городов вели об этом споры;
Как полагает Байрон, прав Хиос.
Что написал еще он? «Одиссею»,
«Войну мышей с лягушками» и «Гимны»,
И это все, за вычетом «Маргита»:
«Маргит» до нас (эх, жалко!) не дошел.
Так отрочество тешилось, пока:
«А что по поводу открытий Вольфа
Сегодня пишут немцы? Неуютно
Менять воззренья и лишаться веры,
Но взялся за ученье, так учись!»
Ну что ж, я «Пролегомены» осилил.
Сам Вольф[34] и дюжина ему подобных
Мне доказали: не было ни Трои,
Ни осаждающих, ни осажденных,
Ни автора, ни подлинного текста,
Ни повода в истории для сказки —
А я ее ценил душой и сердцем
И, несмотря на новые познанья,
Ценю досель и в глубине души
Считаю полной истиной, свободной
От прихоти заботливых идей.
С тех пор (хвала моим счастливым звездам!)
Пусть кто в святилище моем посмеет
Встревожить обитателей любезных —
Елену, Гектора с женой, Улисса,
Ахилла и Патрокла… Впрочем, Вольф —
Зачем сомненьем он разрушил сон?
Но «Пробужденье драгоценней сна»,
Как пишет Роберт Браунинг, — затем-то
Я, старый человек, вам объясняю,
Что мог бы ныне упрекнуть отца —
Зачем он так мучительски, так долго
Не позволял ребенку — мне — проснуться,
Чтоб отделить зерно от шелухи
И поименно знать, где ложь, где правда.
Зачем он вообще навеял сон
И сразу не открыл мне трезвой яви?
Допустим, детство — неуместный возраст
Для верного истолкованья мифов;
По крайности, он мог бы промолчать!
Я сам сумел бы — так или иначе —
Каким-то образом пробиться к знанью
Прямой дорогой, без обиняков;
И должен был бы, как Пелеев сын[35],
Коварство клясть у адских врат; как Гектор,
Любить свою законную жену,—
Что, я не мог бы подражать героям,
Прекрасно зная, что они — мечта?
Не лучше ль было бы отцу тогда
Мне выдать «Этику»[36],— пусть в переводе,
Но верном, без обмана и жеманных
Прикрас в угоду современным вкусам,—
Да, «Этику»! Теперь-то я считаю
Трактат об этике нелегким чтеньем,
Хотя подвластен мне оригинал.
А в детстве — что терпела книга детства!
И я, старик, склонясь над Стагиритом[37],
Страниц, по крайней мере, не мусолю,
Углов не загибаю, молоком
Не заливаю и не сыплю крошек…
ЭМИЛИ ДЖЕЙН БРОНТЕ.
Эмили Джейн Бронте (1818–1848). — Сестра романисток Шарлотты и Анны Бронте. Родилась в семье священника. Всемирную известность принес ей роман «Грозовой перевал» (1847). Первая книга ее стихов вышла в свет в 1850 году — «Избранные стихи Эллис Белл». Основной мотив лирики Бронте — поэтессы романтической традиции — жажда освобождения от рутинной жизни. На ее творчество большое влияние оказал П.-Б. Шелли.
О, БОГ ВИДЕНИЙ… Перевод Э. Ананиашвили.
Пускай порывы прошлых лет
Рассудок высмеет, как бред,—
Твой взор горящий даст ответ,
Расскажет голос неземной:
Зачем, зачем ты избран мной.
Суровый Разум правит суд
В одеждах темных, строг и крут.
Защитник мой, смолчишь ли тут?
Пусть речь поведает твоя
О том, что свет отвергла я,
Что отказалась я идти,
Как все, по торному пути,
Чтоб дикою тропой брести,
Презрев соблазн богатства, власти,
Гордыню славы, сладость счастья.
Когда-то я их приняла
За божества — я им дала
Обет и жертву принесла…
Но дар неискренний немил
Богам — и он отвергнут был.
О, я их не могла любить,
И я их поклялась забыть,
И одному тебе служить,
Фантом, меня пленивший встарь,
Мой раб, товарищ мой и царь.
Ты раб мой, мне подчинено
Твое влиянье — мной оно
К добру, не к злу обращено!
Товарищ одиноких дней,
Ты — ключ от радости моей,
Ты — боль, что ранит и грызет,
И благость слез, и духа взлет
К вершинам от мирских забот.
Ты — царь, хоть трезвый разум мой
Велит мне восставать норой.
И как же не молиться там,
Где веры столп, надежды храм,
Душе, приверженной к мечтам?
Будь мне заступник, светлый Гений,
Избранник мой, о Бог видений!
* * *
«Передо мною тьма ночная…». Перевод Л. Володарской.
Передо мною тьма ночная,
Здесь диких бурь сошлись пути.
Но злым недугом пленена я —
И у меня нет сил уйти.
Деревья гнутся. Тяжесть снега
Ветвям замерзшим не снести.
Мне вьюги страшен час набега —
И все же нет, нет сил уйти.
Сквозь тучи черные дорогу
К земле уж солнцу не найти.
Мне не унять в душе тревогу —
И не уйти. нет сил уйти.
ЭРНЕСТ ЧАРЛЬЗ ДЖОНС.
Эрнест Чарльз Джонс (1819–1869). — Видный политический деятель рабочего движения, «знаменитый хартистский агитатор» (Н. Г. Чернышевский), поэт, литературный критик, романист, Э.-Ч. Джонс принадлежит к младшему поколению чартистов, которое начало играть роль после 1842 года, когда чартизм приобрел характер действительно массового пролетарско-революционного движения.
Родился в Берлине, в аристократической английской семье. Образование получил в Германии; отказавшись от карьеры юриста, стал одним из лидеров чартистского движения.
Поэзия Э.-Ч. Джонса была оружием чартизма. Поэт писал для рабочих и стремился воплотить актуальное политическое содержание в простую поэтическую форму — создавать стихи в «народном ключе». Впервые в английской поэзии борющиеся народные массы заняли в ней центральное место.
НАШ КЛИЧ. Перевод Г. Симановича.
Народ мой! Что с тобою?
Где слава прежних лет?
Страданьем, как травою,
К ней зарастает след.
Ты родился свободным,
Но, услыхав призыв,
Твои герои пали,
А ты — в позоре — жив.
В цепях, в железной хватке
Тебе не продохнуть!
Вперед же без оглядки,
Ищи к свободе путь!
Людских сердец разливы
Не усмирить вовек:
Свобода, справедливость —
Вот русла этих рек.
О, не пугайтесь смерти!
Ведь умереть в борьбе
Достойнее, поверьте,
Чем изменить себе.
Ты вовсе не британец,
Коль быть рабом посмел.
Ты жалкий чужестранец
Для всех, кто горд и смел.
Прочь! Не касайся чаши
Волшебного вина!
В ней вольнолюбье наше,
Не для тебя она.
Ты раб! Твоя невеста,
Стройна и молода,
Пылает не румянцем,
А краскою стыда.
Ты взором раболепным
Тревожишь мертвецов —
Венцом великолепным
Увенчанных бойцов.
Кто испытает счастье
Добра и красоты?
Кто дружбой насладится?
Не ты! Не ты! Не ты!
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ПОЭТА. Перевод Г. Симановича.
Кому дано соединять
Сердца, скорбящие в разлуке,
И чьи дряхлеющие руки
Способны вечное создать?
Пред кем тюрьма и западня
Лишь дымка легкая — не боле?
Кто душу солнечного дня
Спасает от ночной неволи?
Кто возрождает из могил
Дыханье доблести и мести?
И с кем герой заговорил
О прежних днях, о прежней чести?
Чья поступь тихая слышна
На вечных тропах мирозданья
И почему гневит она
Тиранов, сеющих страданья?
Чей клич способен поднимать
На революцию народы?
Кто может словом проникать
Сквозь времена, эпохи, годы?
И кто своею добротой
Врачует мир от зла, уродства,
Кто в этой жизни непростой
Слуга любви и благородства?
Поэт! Он сделал все, что мог:
Сердца людей сильнее стали!
И он уходит. Путь далек:
Назад, в заоблачные дали.
МЭТЬЮ АРНОЛЬД.
Мэтью Арнольд (1822–1888). — Родился в семье университетского профессора. Был преподавателем, инспектором школ, профессором Оксфордского университета. Первый сборник стихов М. Арнольда — «Заблудший гуляка и другие стихи» (1849). Но успех пришел к нему с книгой 1853 года — «Стихи». Мэтью Арнольд соединял в себе незаурядный талант поэта и критика, хотя критик часто мешал свободному выражению его поэтического «я». Когда стихи Арнольда не сковывала холодная рассудочность, в них появлялась естественная грация, они поражали совершенной чистотой языка. Древняя Греция и античная культура были идеалом для Арнольда. В своих стихах, которые должны были быть, как считал Арнольд, «критикой жизни», он писал правду о викторианской Англии.
ДУВРСКИЙ БЕРЕГ. Перевод М. Донского.
Взгляд оторвать от моря не могу.
Тишь. Смотрится луна
В пролив. Там, на французском берегу,
Погас последний блик. Крут и высок,
Английский берег над водой навис.
О, подойди к окну! Как ночь нежна.
Лишь там, где бухту ограждает мыс,
Где отделен серебряный песок
От черной бездны пенною каймой,
Вздыхает море, галькою шурша:
То отступает, то опять — бросок,
Льнет к берегу и снова рвется вдаль,
И в мерном плеске чувствует душа
Безмерную печаль.
Софокл[38] в былые дни
Так вслушивался в гул эгейских волн,—
Его воображению они
О горестях людских вели рассказ.
Гул северного моря, скорби полн,
Рождает те же помыслы и в нас.
Давно ль прилив будил во мне мечты?
Его с доверьем я
Приветствовал: он сушу обвивал,
Как пояс из узорчатой тафты.
Увы, теперь вдали
Я слышу словно зов небытия,
Стеная, шлет прилив за валом вал,
Захлестывая петлю вкруг земли.
Пребудем же верны,
Любимая, — верны любви своей!
Ведь мир, что нам казался царством фей,
Исполненным прекрасной новизны,
Он въявь — угрюм, безрадостен, уныл,
В нем ни любви, ни жалости; и мы,
Одни, среди надвинувшейся тьмы,
Трепещем: рок суровый погрузил
Нас в гущу схватки первозданных сил.
ШЕКСПИР. Перевод В. Рогова.
Все отвечают нам. Свободен ты.
Мы ждем и ждем — но ты, с улыбкой, нем
И выше знанья. Пик, светилам всем
Открытый средь безбрежной высоты,
На дне морском найдя упор пяты,
Отчизну в Небесах Небес обрел,
Подножье лишь отдав на произвол
Пытаний земнородной суеты.
И ты, кто видел свет, гонящнй мрак,
Кто сам себя постиг, почтил, взрастил,
Шел по Земле не узнан. Лучше так!
Всю боль, что дух бессмертный ощутил,
Все немощи, все скорби обняло
Победоносное твое чело.
ГРЯДУЩЕЕ. Перевод Э. Шустера.
Человек — это странник с рожденья.
Он родится на судне,
Под которым волнуется время;
Изумлен, осчастливлен,
Раскрывает он солнцу объятья,
Озирает он Времени реку.
Человек размышлять начинает.
Впервые — проснувшись
В снежно-белом ущелье,
Что под клекот орлиный
Расстилает потоку
Первозданное ложе;
Затем — на равнине,
Где лениво река
Распрямляет извивы,
Приближаясь к всеядному морю.
И всегда человеческий разум —
Это мир отмелькавших брегов.
Что терзаться и грезить о землях,
Промчавшихся мимо
До того, как поток подхватил
И понес человека сквозь Время;
Что терзаться о землях за смертью.
Только путь быстроходного судна
Будет познан; лишь вехи пути
Будут в памяти жить человека.
Кто сегодня пройдет за пределы,
Что поставило вечное Время?
Кто сумеет увидеть не пажить,
А зеленую землю до плуга?
Кто к земле так же близок, как люди,
Что когда-то земле подарили,
Не скупясь, неуемных детей?
Кто та дева,
Что мать-землю поймет и постигнет,
Как Ревекка однажды
У колодца под пальмой постигла?
Кто страж
Чувств земли, как весна, просветленных,
Как весна, незапятнанных, чистых?
Есть ли бард,
Что умеет помыслить о боге,
О душе и о мире
Настолько же просто
И пронзительно, как Моисей
Мыслил ночью, у спящего стада,
Под пустынной арабской звездой?
Голос Духа
Услышит ли он и склонится?
Нас теперь полноводное Время
Несет по бескрайней равнине.
Невозвратен истоков покой.
А к реке города подступают,
Раздаются стоустые крики;
Непонятен их смысл,
Непонятны все те измененья,
Что мы видим и знаем повсюду.
Что сказать?
Полноводное Время
Потеряло достойное русло;
Города не расступятся снова,
Не растает их черное стадо;
Тем сильней будут гомон и грохот,
Чем нахальней вторжение торжищ,
Чем ровней будет эта равнина,
Чем свирепей нависшее солнце.
Никогда никому не увидеть
Красоты первозданной потока,
Не вкусить даже капли покоя.
Но, что было до нас, мы не знаем
И не знаем того, что грядет.
Может быть, полноводное Время,
Растекаясь за грани пространства,
Удаляя мерцанье и блики
Заодно с городами все дальше,
Возвратит если не первозданность
Снежно-белых утесов ущелья,
То хотя бы бессуетность, гордость.
И на глади безбрежной потока,
В обезлюдевшем, смолкшем пространстве,
Освеженном могучим дыханьем
Океана, покой, может быть,
В человека вселится;
В безмерном растает пустое,
Уплывут берега в неоглядность,
Выйдут звезды, и ветер прохладный
Понесет человеку навстречу
Вздох и запах предвечного Моря,
ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО. Перевод А. Сендыка.
Ляг в могилу, не ропщи,
Успокойся, замолчи,—
Их довольно, и любой
Может справиться с тобой.
Мне давно уж все равно:
Что бело, а что черно…
Будет все, как нужно им,—
Станешь нем и недвижим.
Этой сваре много дней.
Были люди и сильней
И упорнее, чем ты,—
Только всем заткнули рты.
Не ропщи, что не жил всласть!..
Форт безумья должен пасть.
И падет, а твой резон —
Пасть на миг скорей, чем он.
ПАЛЛАДИЙ[39]. Перевод А. Сендыка.
[39].
В горах, где бурный Симоис[40] рожден,
Стоял Палладий средь лесов и скал.
Герои, защищая Илион,
Не видели его, но он стоял,
Стоял в сиянье солнца и луны,
Дыханием ветров обласкан всласть,
Врагов сметая с крепостной стены,
Твердыне славной не давая пасть.
Душою Трои был священный храм,
Сладки там были воздух и вода,
Росла трава нетоптаная там…
Но как же редко я ходил туда…
Поутру битва вспенится опять,
Поутру станет Ксанф[41] от крови ал,
Аякс[42] и Гектор[43] выйдут умирать,
Взойдет Елена[44] на высокий вал.
От ржавчины очищусь я в бою,
Надеждой и отчаяньем дыша…
А то ведь можно жизнь прожить свою,
Не ведая понятия «душа».
Далёко от мирских сует она,
Но от нее зависима судьба.
Могучи мы, когда она сильна,
Бессильны мы, когда она слаба.
ДАНТЕ ГАБРИЭЛЬ РОССЕТТИ. Перевод А. Сендыка.
Данте Габриэль Россетти (1828–1882). — Сын итальянского карбонария, бежавшего в Англию после подавления восстания в Неаполе. Родился в Лондоне. Учился в Королевской Академии художеств; первоначально завоевал известность как художник. Россетти был главой «Прерафаэлитского братства», в которое входили К. Россетти, В. Моррис, А.-Ч. Суинберн. Свойственное им стремление развенчать культ торгашества выразилось в идеализации средневековой старины. Россетти много занимался переводом на английский язык поэтов итальянского Возрождения. (чьи стихи он публиковал в журналах; отдельной книгой они увидели свет лишь в 1870 году. Всего Д.-Г. Россетти издал три сборника стихов.
«В густой траве лежишь ты недвижимо…».
В густой траве лежишь ты недвижимо,
Полупрозрачны пальцы, как цветы.
В глазах бездонность синей высоты,
Где над полями, словно клочья дыма,
Кочуют тучи. Даль необозрима,—
Поля, дороги, редкие кусты…
И время, как течение воды,
Беззвучно, но реально ощутимо.
Меж лютиков трепещет стрекоза
На нити, уходящей в небеса,
Где скупо отмеряются мгновенья.
Сплетем же руки и уста сольем,
Господень дар — прекрасный миг вдвоем,
Когда все наше: страсть и вдохновенье.
МОЛОЧАЙ.
Едва поднявшись, бриз упал
В кусты, в листву, за край земли,—
И я, что с ветром дрейфовал,
Увы, остался на мели.
В колени ткнувшись головой,
Я верил — нет беды страшней,
Мешались волосы с травой,
В ушах звучала поступь дней.
Глаза глядели в пустоту,
И вдруг случайно, невзначай
Нащупал взор полянку ту,
Где цвел колючий молочай.
Я боль тех бед забыл давно,
Они от новых — не щиты,
Но позабыть мне не дано
Трехлепестковые цветы.
ДЖОРДЖ МЕРЕДИТ.
Джордж Мередит (1828–1909). — Родился в семье портного. Был журналистом. На философские взгляды Д. Мередита большое воздействие оказало учение Ч. Дарвина. Мировоззрение Д. Мередита складывалось под влиянием чартизма. Поэт принадлежал к левому крылу английского радикализма. В январе 1905 года Мередит призывал помочь русской революции; вместе с А.-Ч. Суинберном и Т. Гарди подписал воззвание, требуя от царского правительства освобождения из-под ареста М. Горького.
Проза и поэзия Д. Мередита представляют собой исследование нравственного становления человека и восходят к психологической традиции Л. Стерна. Наиболее известны его ранний поэтический цикл «Современная любовь» и философская лирика 80-х годов. Стих Мередита лаконичен и строг.
ЛЮБОВЬ В ДОЛИНЕ. (Фрагменты). Перевод Б. Лейтина.
Там, под тем вот буком, в травах, одиноко,
Сложивши руки под головкой золотой,
Косы смяв, колени согнув в дремотной лени,
Спит моя любовь в тени густой.
Где найду отвагу — подкрасться, лечь с ней рядом,
Рот сомкнуть раскрытый, стан обхватить не вдруг, —
Так, чтоб в удивленье обняла, проснувшись.
Не вырваться вовек из власти этих рук!
Робкая, как белка, как ласточка, капризна,
Как ласточка, быстра, что кругом над рекой
Чертит воду, встретив крыльев отраженье,—
Как полет ни скор, стремительней покой;
Робкая, как белка, что в кронах сосен скачет,
Как ласточка, капризна, что на закат летит,
Та, кого люблю я: покоренье трудно,
Трудно, но — о, счастье тому, кто покорит!
Вниз идет с холма с подружками своими,
Взявшись за руки, на запад путь держа:
Песнь ее задорна, поступь — в ритме песни,
Смела осанка и девственно-свежа.
Да, свежа; о ней шепнуло миру сердце
В пробужденья час: утра свет она.
Страстная любовь должна здесь отступиться,
Закинутую сеть пустой найти должна.
Счастлив, счастлив час: поля свежи росою,
Белая звезда свой путь склоняет вниз,
Близок лик зари; со мглой рассветной в споре,
Краской нижет мрак, как алость ягод — тис.
Неба край горит; облако, румянясь,
Ширится, а тени — гуще и тесней.
Тих рассвет, как дева: странен взор, вся — тайна,
Раковин глубинных щеки холодней.
Когда лучи на склонах южных медлят,
В грудах туч горя, ползущих вдоль холмов,
Часто день, искряся их неверным смехом,
Хмур к концу, как лик, презревший песни зов.
Но лишь запад явит грудь зыбко-оперенной,
В час, когда текут к полуденной черте
Облака, струясь, — тогда, глубок, закат приходит,
Пышный, как любовь в бескрайной красоте.
На заре, вздохнув и, как дитя, к окошку
Устремив свет глаз, несытых после сна,
Лилией речной она сияет, белой,
Что, взорвав бутон, затону отдана.
Вот, с постели встав, покрытая рубашкой
С шеи и до пят, как в мае ветвь, маня,
Лилией в саду она сияет статной,
Чистой — ночи дар, пышной — в свете дня.
О отец росы, темноресничный сумрак,
Низко над равниной ты склонил глаза,
На твоей груди жаворонок кружит,
Песнь его чиста, точно в ней поет роса.
Скрытый там, где пьет заря земли прохладу,
Полн, как полон ключ, он трели в брызгах льет.
Слышу ль милый смех, ее навеки жажду,
Свежей, как роса, как жаворонка взлет.
Девочки идут, сбирая скороспелки,
Тропкой через лес, что смехом покорен.
Впереди она: не ведая причины,
Медлит и следит за сгибом анемон.
Хочет взор сказать, что фиалки распустились,
Розе — цвесть; нечаянный, один,
Крик исторгла грудь; причина — запах? краски?
Чаща? соловей? — не ведает причин.
Голова платком покрыта; средь тюльпанов,
Ивой в дождь струясь, умчалась — не догнать.
Смят ли где, к земле ль приник цветок — их ангел,
Стебли приподняв, она бежит опять.
Ветер гонит тучу, гремит, стучась в ворота,
Но тех, кто приуныл, бодрит ее привет.
Так, когда трава и небо гром встречают,
Видел я голубку — земли последний свет.
Цветы в ее саду, как школьники, примерны,
Стать готовы в ряд, вопросы задавать.
Я люблю и их, но мне дикий цвет милее:
Дикари мои! Вам есть о чем сказать!
Ты, дикарка, мне — как повесть о фиалке,
Розе полевой, ты, как они, цветок:
Доброте твоей вдоль троп свидетель ландыш;
Ты — жизни, доброте свидетель у дорог.
Прохладна сень; играют в крикет дети
У молочной, где прохладна белизна;
Школьников движенья быстры, лица красны;
О, прохлада — мрак прозрачных глаз без дна!
Раздобыв на ферме, кувшин она приносит,
Каждый тянет клюв в черед свой к молоку.
Вот малыш на цыпочках: «Дай поцелую», —
Говорит, и клонит она, смеясь, щеку.
Голубям на елях, стеной обставших крышу,
В грустный полдень долгий грустно ворковать.
Листва поникла, и вдоль дороги сонной
Зяблик чуть свистит; поникла синева.
В речке по колена бьют хвостом коровы,
Без дыханья, в власти солнца, мух, слепней.
Милой не видать, а коль не видно милой —
Молния, сверкай! Стань, небо, тигр! Дождь, лей!
Сион, о, золотой шуршащий клад-охапка!
О, сумбурность смуглых кос, чей сон глубок!
О, богатство кос, друг на дружке спящих!
О, вкруг талии ослабший поясок!
Маки уж мертвы, случайный их багрянец
Жив в серьгах пшеницы: в ранах поясок.
То в румянце зрелости земли невесты.
О, сумбурность смуглых кос, чей сон глубок!
Холоден в закате диск дымно-красный солнца,
Ущерблен в холмах, где фиолетов снег;
Хижиной луны восток сияет тихо —
Там в свой час, горя, луна начнет свой бег.
В эту белизну, чеканя ветви чернью,
Смотрит бук всю ночь; всю ночь и мне смотреть.
Образ жизни здесь на смерти? Смерть на жизни?
Душу дай обнять, чтоб знать: бессильна смерть.
Ей сочтут ошибки кумушки в каморке
Без окна: ее и неба не видать.
«Вот, еще малюткой…» — дребезжит старуха.
Рада мучить сердце, уши мне терзать.
Да, ошибки были: падая, училась
Бегать, контур черт не безупречно строг.
Но красе, святящей небо, воздух, — знайте,—
Нипочем изъяны с головы до ног.
Если б я сумел наедине быть с небом,
Сокровенный сердца я б открыл родник.
Как ольха, горит питомец каждый леса,
В блеске — как жасмин, колеблясь — как тростник.
Как ольха, горя, что в октябре румяна,
Как тростник, струясь, когда подул зюйд-вест,
В блеске, как жасмин, внезапно освещенный,
Таинству небес причастно все окрест.
* * *
«Какими козырями я сильна?..». Перевод В. Васильева.
«Какими козырями я сильна?
Не Вечностью, а Временами года!» —
Смеется на пути своем Природа.
В ней все полно гармонии. Она
Вздохнет над розой в тяжкий час разлуки,
Но более не обернется к ней.
Осознанней, чем люди, и мудрей
Смысл бытия постигла та, чьи руки
Здесь сеют семена, там сыплют прах,
Та, что сама себе наносит мету.
Единственной наставницы совету
Дадим ли место в алчущих сердцах?
Всему свой срок. Всему? И розам дивным
Любви? Да, да! Покорно всё минуй,
Когда так свеж твой вечный поцелуй,
Охваченный волос горячим ливнем.
ВИЛЬЯМ МОРРИС.
Вильям Моррис (1834–1896). — Родился в буржуазной семье. Учась в Оксфордском университете, особое внимание Моррис уделял средневековой истории. Тогда же он познакомился с оказавшими на него большое влияние работам английского ученого Рёскина, считавшего искусство необходимой частью человеческой жизни; произведения искусства — это то, что создается свободными людьми, для которых работа — удовольствие. Моррис и его друзья организовали мастерскую для воскрешения древнего искусства ремесленников, что принесло им известность; однако предметы их труда стоили дорого, и покупали их презираемые Моррисом богачи. В. Моррис был членом «Прерафаэлитского братства».
Эпические поэмы Морриса «Жизнь и смерть Язона» (1867), «Земной рай» (1868–1870) и др., написанные на исторические сюжеты, звучали упреком в адрес негероической современности. 1871 год, год Парижской Коммуны, стал переломным в жизни В. Морриса. В 1883 году он стал членом «Социальной Демократической Федерации», марксистской пропагандистской организации. Несколько месяцев спустя вместе с Элеонорой Маркс и с помощью Ф. Энгельса В. Моррис основал Социалистическую лигу с журналом «Коммонвил», в котором впервые были напечатаны его поэма, посвященная Парижской Коммуне, «Пилигримы надежды» (1885–1886) и прозаические произведения. Моррис называл себя коммунистом, что означало — революционный социалист, марксист, разделяющий идеи «Коммунистического манифеста».
МАРШ РАБОЧИХ. Перевод В. Рогова.
Что за шум и что за грохот слышен в недрах многих стран,
Словно ветер по долинам, словно близкий ураган,
Словно яростная буря, что колышет океан?
Это двинулся народ.
Кто они? Идут откуда и куда они спешат?
Где живут? У двери ада иль у светлых райских врат?
Можно ль их купить за деньги? Верно ль служит их отряд?
Слух о них везде идет.
Чу! Раскаты громовые!
Солнце льет лучи живые,
Гнев с надеждой встал впервые,
Войско грозное идет.
От несчастья, от мучений — к свету, к радости идут,
И везде они, как дома, и везде они живут.
Не купить и не продать их! Попытайтесь — лишний труд!
Дни свершают свой поход.
Хлеб тебе они взрастили и построили твой дом,
Горечь в сладость обратили для тебя своим трудом
И не видели награды ни сегодня, ни в былом —
Но отряд пошел вперед.
Чу! Раскаты громовые!
Солнце льет лучи живые,
Гнев с надеждой встал впервые,
Войско грозное идет.
За работой безотрадной шла столетий череда.
Но они надежд не знали в годы тяжкого труда,
А теперь надежда с ними, вместе с ними навсегда,
И пошли они вперед.
Богачи, остерегайтесь! Вот их гневные слова:
«С нас довольно рабской доли, мы возьмем свои права,
Люди мы и в бой стремимся, чтобы жизнь была жива,
И отряд наш в бой идет».
Чу! Раскаты громовые!
Солнце льет лучи живые,
Гнев с надеждой встал впервые,
Войско грозное идет.
«Значит, бой? Так, словно хворост, вас мы в пламени спалим!
Значит, мир? Так будьте с нами каждым помыслом своим.
Будьте живы! Жизнь проснулась, мир воспрял, мы победим,
И надежда не умрет.
Мы, рабочие, поход свой продолжаем, не страшась,—
Это боя звук и вести, что победы близок час:
Ведь надежда, наше знамя, повела на битву нас,
С нами целый мир идет».
Чу! Раскаты громовые!
Солнце льет лучи живые,
Гнев с надеждой встал впервые,
Войско грозное идет.
АЛЬДЖЕРНОН ЧАРЛЬЗ СУИНБЕРН.
Альджернон Чарльз Суинберн (1837–1909). — Родился в семье адмирала. Учился в Итоне и Оксфорде. Первая книга А.-Ч. Суинберна, состоящая из двух пьес, увидела свет в 1861 году, но внимание к молодому поэту было привлечено лишь появлением стихотворной трагедии «Аталанта в Калидоне» (1865); в 1866 году, после выхода в свет «Стихов и баллад», А.-Ч. Суинберн стал широко известным поэтом.
Стихи А.-Ч. Суинберна шокировали добропорядочных викторианцев своей эмоциональной раскованностью, откровенностью в области «запретных» тем. Демократическое мировоззрение поэта проявилось сначала в нескрываемом атеизме, а позже в поддержке борьбы итальянского народа, в обличении русской и европейской реакции (сборники «Итальянская песня», 1867, «Песни перед восходом», 1871, и др.). Суинберн — блестящий мастер стиха, он много экспериментировал в области формы.
ИТИС. Перевод Г. Кружкова.
Ласточка, милая моя сестрица,
Как твое сердце с весною мирится?
Минули тысячи лет и невзгод.
Как ты еще и поешь и летаешь?
Где ты для песен слова обретаешь?
Что будешь делать, как лето пройдет?
Ласточка, быстрая моя сестрица!
Или решишь ты на юг устремиться
Теплого края искать для житья?
Или старинное горе не ранит?
Или язык не прилипнет к гортани?
Или забыла ты больше, чем я?
Ласточка, о, погоди хоть немного!
К солнцу неблизкая наша дорога;
Дай мне сначала боль утолить,—
Песню разлив по болотам и чащам,
Клювиком нежным и тельцем дрожащим
Сердце ночное огнем напоить!
Ласточка, ты понимаешь, сестрица:
Мне — соловьиного болью томиться,
Петь — всю весну и гореть — всю весну!
В росные тени скрываясь ночные,
Петь, пока утро и птицы лесные
Солнце не встретят, уйдя в вышину.
Ласточка, ласковая сестрица!
Пусть на пиру у весны веселится
Весь торжествующий лес; но пока
Жизнь не забудет, и смерть не напомнит,
Горечью сердце твое не наполнит,—
Ты навсегда от меня далека.
Ласточка, нежная моя сестрица,
Как твое сердце тоской не томится,
Как оно полниться может весной?
Вейся, родная моя, — но покуда
Ты не воспомнишь и я не забуду —
Не полечу никуда за тобой.
Ласточка, легкая моя сестрица!
Вихорь беды надо мной шевелится,
В сердце — палящая жаром зола.
Ты б задержалась, а я улетела,—
Если бы только забыть я умела,
Если бы только ты помнить могла.
Нет, позабыла ты скорбь и невзгоды,
Видно, сердца у нас разной породы,
Сердце твое — как на ветке листок;
Ну, а мое — над ревущей пучиной
Вдаль, где был Итис[45] убит неповинный,
В Давлию мчится, к царю на порог.
Ласточка, страшная это дорога!
Песню прерви, помолчи хоть немного!
Сыро, и ветер гудит в вышине.
Горестью вытканное покрывало,
Мертвое тельце так мягко упало…
Все ты забыла, — забыть бы и мне.
Первенец это, твой мальчик, сестрица!
Льнет, за подол норовит уцепиться…
Детские плечики кровью залить —
Как ты сумела на это решиться?
Кто тебе дал милосердно забыться?
Небо обрушится — мне не забыть.
РОНДЕЛЬ. Перевод В. Рогова.
Так много лет с начала бытия
Что боги слали нам? Что ведал я
С моей любимой? Зла и страха след,
И горечь ядовитого ручья,
И счастье-флюгер, и недвижность бед
Так много лет.
Что сделали с любимою моей?
Но кто же вам поведает о ней?
Кто радостный иль грустный даст ответ?
Не надо слез — не лился их ручей
Из глаз, чей взор милей, чем звездный свет,
Так много лет.
Но пусть бежит прощальных слез поток
От вежд белей, чем белый лепесток,
Скрывающих очей лазурный цвет,
О том, кто с нею был суров, жесток,
О том, с кем счастья не было и нет
Так много лет.
ПЕСНЯ ВРЕМЕН ПОРЯДКА. Перевод П. Кашкина.
Вперед, через мели к волнам.
Крепнет ветер соленый, ревет;
Преследуя нас но пятам,
Подгоняет смерть вперед.
Кандалами прибой звенит,
Гребни пены бегут вдали,
И встает, и растет, и гремит
Набухающий с моря прилив.
Над вершинами желтых скал
Полный колос нивы гнут;
Вперед! Хоть смерти оскал
Осклабился сквозь волну.
Привет лихой непогоде,
Валам, что борта громят.
Трое нас в море уходит,
И рабов стало меньше тремя.
Вперед, в просторы морей,
Где не словят нас короли.
Земля — владенье царей,—
Мы ушли от владельцев земли!
Там сковали цепи свободе,
Там подачками куплен бог.
Трое нас в море уходит,
И в тюрьме не докличутся трех.
Проклятье продажной земле,
Где разгул разбойных пиров,
Где кровь на руках королей,
Где ложь на устах у попов.
Не смирить им вихрь на свободе,
Не подвластны ярму их моря!
Трое нас в лодке уходит,
Порванной цепью гремя.
Мы кровавый вскинули флаг,
Полинял он уже и поблек.
Но сожмется разжатый кулак,
Вспыхнет тлеющий уголек.
Мы причалим снова к земле, —
В кандалах будет папа грести,
Бонапарте-Ублюдок в петле
Будет пятками воздух скрести.
Если Пастырь святой кличет волка
И король свои режет стада,
Значит, Стыд там уснул надолго
И Вера не знает стыда.
И покуда протрут глаза
Тем Кайенна, тем Габсбургский хлыст
Мы научимся петли вязать
И затянем потуже узлы.
Свищет дождь, и молния блещет,
Освещая буйство морей.
Пусть веселое море нас хлещет
Пеной сладко-соленой своей.
Прямо в зубы лихой непогоде
Мы уходим, цепью гремя;
Коль троих ненависть сводит,—
Рабов — меньше тремя.
САД ПРОЗЕРПИНЫ[46]. Перевод М. Донского.
[46].
Здесь, за глухим порогом,
Не слышен волн прибой,
Здесь места нет тревогам,
Всегда царит покой;
А там орда людская
Кишит, поля взрыхляя,
И жаждет урожая
С надеждой и тоской.
О, род людской! Постыли
Мне смех его и стон;
В бесплодности усилий
Жнет, чтобы сеять, он.
К чему ловить мгновенья,
Низать их в дни, как звенья,
Не верю я в свершенья,
Я верую лишь в сон.
Здесь жизнь — в соседстве смерти,
В тенетах тишины.
Там, в буйной круговерти,
Игрушки волн — челны
Плывут, ища удачи…
А здесь — здесь все иначе:
Здесь, в заводи стоячей,
Ни ветра, ни волны.
Здесь, где цветов и злаков
Не выбьется росток,
Растет лес мертвых маков,
Безжизненных осок;
И Прозерпина в чащах
Тех трав, дурман таящих,
Для непробудно спящих
Готовит сонный сок.
И в травах бессемянных —
Бескровные тела
Уснувших, безымянных,
Которым нет числа;
Над тишью безутешной
Ни синевы безгрешной,
Ни черноты кромешной,
Лишь призрачная мгла.
Смерть разожмет все руки,
Все охладит сердца,
Но нет ни адской муки,
Ни райского венца;
Без гнева, без участья
Листву сорвет ненастье,
Не может быть у счастья
Счастливого конца.
В венке из листьев палых
Она стоит у врат,
От уст ее усталых
Струится нежный хлад;
И все, все без изъятья,
Все смертные, как братья,
В бессмертные объятья
Текут к ней — стар и млад.
Встречает к ней идущих
Всех — с лаской на челе,
Забыв о вешних кущах,
О матери-земле;
Всяк, кто рожден, увянет,
В провал времен он канет
И перед ней предстанет
Здесь, в сумеречной мгле.
Любовь, ломая крылья,
Спешит уйти сюда;
Здесь — тщетные усилья,
Пропащие года;
Лист, умерщвленный градом,
Бутон, сраженный хладом,
Мечты и сны — здесь рядом
Застыли навсегда.
Веселье, грусть — все бренно,
Зачем свой жребий клясть?
Лишь времени нетленна
Безвременная власть;
Чувств призрачна безбрежность,
Признаем неизбежность:
Оскудевает нежность,
И остывает страсть.
Зачем с бесплодным пылом
В судьбе искать изъян?
Спасибо высшим силам,
Хоть отдых — не обман:
В свой срок сомкнем мы веки,
В свой срок уснем навеки,
В свой срок должны все реки
Излиться в океан.
Созвездий мириады
Сюда не шлют лучи,
Молчат здесь водопады,
Не пенятся ключи;
Ни радости беспечной,
Ни скорби быстротечной,—
Один лишь сон — сон вечный
Ждет в вечной той ночи.
ПЕРВЫЙ ХОР ИЗ «АТАЛАНТЫ В КАЛИДОНЕ»[47]. Перевод В. Невского.
[47].
Когда зиму настигнут весны посланцы,
Месяцев мать в просторах полей
Полнит рощи, где ветра танцы,
Лепетом листьев и дрожью дождей;
И влюбленный соловей яснокрылый
Уж почти позабыл о своем Итиле,
О фракийских судах[48], о толпе чужестранцев,
О бденье безмолвном, о скорби своей.
С луком тугим приходи и с колчаном,
Совершенство, богиня сияющих дней.
С шумом ветра и рек журчаньем,
С рокотом вод и силой своей.
Сандалии туже стяни ремнями
Над прекрасными, быстрыми стопами,
Ибо рдеет восток, меркнет запад печальный
Над стопами дня, над стопами ночей.
Где найдем мы ее, как воспоем ее,
Вкруг колен ее руки сомкнем и прильнем?
О, если б ринулось сердце, встречая огнем ее,
Мощью грозных потоков или огнем!
Ибо звезды и вихри для девы света —
Как одеянья, как песни поэта,
Ибо звезды, взойдя, окружают кольцом ее,
Вихри песнь ей поют в бушеванье своем.
Ибо вьюги и бури зимы миновали,
И прошло это время снегов и грехов,
Этих дней, что любимых сердца разделяли,
Когда день убывал, ширя ночи покров;
Эти дни, словно горе былое, забылись,
И морозы убиты, цветы зародились,
И — цветок за цветком — весна наступает
В перелесках зеленых и в чащах лесов.
Камышом покрываются вздутые воды,
Ноги путников вязнут средь трав молодых,
Тихо свежее пламя юного года
Льется с листьев на цвет и с цветов на плоды.
И цвет и плод — словно злато и пламя,
И свирель вместе с лирой слышна над полями,
И копытце сатира дробит мимоходом
Плод каштана под сенью деревьев густых.
Пан при свете дневном, Вакх[49] во мраке вечернем,
Быстроногой лани быстрей,
Преследуют с пляской, поят восхищеньем
Вассарид и менад[50] — лесных дочерей.
И как губы, что радость таят, улыбаясь,
Так же нежно смеется листва, расступаясь,
То скрывая, то вдруг открывая зренью
Бога в пылкой погоне, беглянку среди ветвей.
С кудрями вакханки плющ ниспадает
На брови, скрывая очей ее свет;
Виноградная ветвь, соскользнув, обнажает
Ее грудь, часто дышащую в листве;
Виноград ниспадает под тяжестью листьев,
Но, весь в ягодах, плющ цепляется, виснет,
К блестящим телам, к ногам прилипает
Юной лани и волка, бегущего вслед.
УИЛФРИД СКОУЭН БЛАНТ. Перевод В. Рогова.
Уилфрид Скоуэн Блант (1840–1922). — Родился в графстве Сассекс. Дипломатическую карьеру начал в 1858 году. Его наиболее известная книга — «Любовные сонеты Протея» (1880). Страстный борец против колониальной политики империализма. В 1887 году был арестован в Ирландии на политическом митинге. Политические взгляды Бланта нашли свое выражение в его поэзии.
«Да, и в тюрьме есть радости свои…».
Да, и в тюрьме есть радости свои:
В час завтрака немало дней подряд,
Чтобы отведать крошек, воробьи
К решеткам камеры моей летят,
Паук плетет узорных кружев ряд,
Мышонок смелый слушает со мной
Шаги, тревожащие каземат…
С друзьями легок плен унылый мой.
А в сумерки в окне напротив тень,
Когда зажгутся лампы, мне видна —
То надзирателя проходит дочь,
И кажется: мила, добра она, Прекрасна…
Но прошел и этот день,
Мерцают звезды, опустилась ночь.
* * *
«Творить добро, пока еще я жив…».
Творить добро, пока еще я жив,
Быть отзвуком возвышенных идей,
Бороться, в мысль благую превратив
Безумные мечтанья юных дней,
Дать миру исцеленье от скорбей,
С лиц изможденных слезы отирать,
И облегчать страдания людей,
И сделать легкой тягостную кладь,
Став гражданином в братстве мировом,
Готовиться к лишеиьям вместе с ним,
Любовь даря, платя за гнев добром,
Победу одержать над злом земным,—
Свершив все это, умереть готов
Враг богачей, союзник бедняков.
ВЕТЕР И БУРЯ. (Фрагменты).
Мне есть о чем сказать. Но как скажу я?
Мне есть что защитить. Но кто поймет?
И трону ль тех печальными словами,
Кого не тронул плачущий народ?
Как я скажу захватчикам о чести,
Об истине — владетельным лжецам,
О праве — королям, чья власть в бесправье,
О мире — злым и о добре — попам?
*
И все ж я говорю. Клянусь я небом,
Что высший долг свой выполнит поэт,
Коль вступится перед толпою сильных
За тех, кому защиты в мире нет.
Нет благодарности, но будет слава —
Не сразу же, но в будущих веках,
Когда забытых канцлеров поглотит
Былая ложь, распавшаяся в прах.
*
Да, ветер сеяли жрецы Ваала,
Но как о них сказать сумею я?
Ведь бурю пожинали англичане,
Мне земляки, а многие — друзья.
Вы, земляки, поборники свободы,
Болит моя душа от ваших бед.
Я промолчал бы о позоре вашем,
Когда б не кровь, что к небу вопиет.
*
Ума бахвальство! Дерзость грубой силы!
Богатства, правой мудрости враги!
Ты мнишь ли, Англия, что бог навеки
Обманут тем, кто ловко вел торги?
*
Ты заслужила ненависть людскую
И страх людской. Смертелен страх людской.
Ты попираешь слабых. Но слабейший —
И тот тебе удар готовит свой.
*
Дрожи: империю твою разделят,
Тебя на твой торгашеский безмен
Народы поместят. Взовьется чаша —
И не найдешь ты ничего взамен.
Без жалости к тебе твои владенья
Они вернут себе. На их морях
Твоим судам тогда не слать снарядов,
Что ныне сеют смерть, огонь и страх.
В дни торжества ты жалости не знаешь —
Не жди ее себе. Не станет зла,
И молча ты изведаешь презренье
Всех тех, кого любить ты не смогла.
Империя навеки распадется,
Свободы царство встанет, и тогда
Исправят зло, которое безумно
Творила ты в бездумные года.
*
Восточные народы возмужали,
Ты одряхлела. Зрелость к ним придет;
Ты сотни лет в безмолвии пребудешь,
Они же Землю поведут вперед,
И вы узнаете, о земли плача,
Где скорбно долгие века текли
Инд, Ганг и реки тихие Эдема,
Блаженное грядущее Земли.
Криница первых знаний человека,
Ключ мудрости, где он впервые пил,—
Вы вновь ему рассудок оживите,
Даруя щедро обновленье сил.
*
Нет, не до скорби мне. Внемли, Египет!
И в смерти ты погибель не снискал.
Внемли мне, Англия! Нельзя не внять мне.
Я должен был сказать. И я сказал.
ДЖЕРАРД МЭНЛИ ХОПКИНС.
Джерард Мэнли Хопкинс (1844–1889). — Родился в семье дипломата, который в 1843 году издал книгу стихов и посвятил ее Томасу Гуду. Учился Д.-М. Хопкинс в Оксфорде. Был близок к прерафаэлитам. В 1866 году стал католическим священником и сжег нее написанные им к тому времени стихи, решив не писать их и в будущем. Преподавал древние языки в Англии и Ирландии. Похоронен и Дублине.
Все же Хопкинс продолжал писать стихи в течение всей своей жизни. Впервые они были опубликованы в 1918 году и в дальнейшем оказали большое влияние на английскую поэзию. Огромное значение Хопкинс придавал мелодии стиха, использовал инверсии, эллипсы, вводные предложения и т. д., чтобы добиться «волшебного звучания». Еще поэты-георгианцы в конце XIX века оценили свободный (sprung) ритм стихов Хопкипса.
ПЯТНИСТАЯ КРАСА. Перевод Д. Сильвестрова.
Хвала тебе, Господь, за пестроту вокруг:
За небеса в подпалинах, будто коровий бок;
За алый крап форели, резвой, как стрела;
Ковер цветов лоскутный, пашню, выгон, луг;
Кленовый жаркий лист, что вьется, как вьюрок;
Снасть и снаряд, убор, любого ремесла.
Мир, что изменчив, чуден, сокровен,
Пронизан (как? — кто это знать бы мог?)
Чредой: лед, пламень; мед, желчь; солнце, мгла,
Творишь. Твоя краса вне перемен, — Тебе хвала.
ФОНАРЬ В НОЧИ. Перевод Д. Сильвестрова.
Фонарь, бывает, вижу я в ночи.
Он манит взор, и я стою, гадаю:
Чей? кто его несет? — я не узнаю,
Зачем колеблют ночь его лучи.
Ум теплится ли пламенем свечи,
Краса в ком, сердце ль — я не выбираю:
Померкнет свет, тьме — ни конца, ни краю;
Погиб, исчез? — попробуй, отличи.
Смерть, расстоянье — вот и весь резон:
К чему, скосив глаза, глядеть вокруг?
Коль с глаз долой, так и из сердца вон.
Христос — глаза и сердце; боль, недуг
Врачует он, за нами без препон
Идет — спасенье, выкуп, кров, опора, друг.
СВЕЧА В ДОМУ. Перевод Д. Сильвестрова.
Свечи — вдруг — блеск в окне я вижу иногда.
Смотрю, как пламень благостный смывает прочь
Тьму, желтой влагою расплавив ночь,
В глазах веретеном снует туда-сюда.
За тем стеклом — чья жизнь, чьи руки, чья судьба?
Молюсь в ночи, в тиши, хочу помочь
Им — Джесси? Джек? — чей сын? чья дочь? —
Господа славить, восхвалять дела его всегда.
Войди же в дом; свой тлеющий очаг
Вскорми, затепли вновь свечу живую, коль
Скоро ты хранишь хотя б крупицу благ.
Иль твое сердце там, где истребляет моль?
С бревном в глазу снуешь? и сам себе ты враг?
Пустая совесть, обессоленная соль?
* * *
«Во рту ночная желчь…». Перевод Д. Сильвестрова.
Во рту ночная желчь. Что за часы
Прошли, еще пройдут! о, сколько ран
Оставит ночь, о, сердце, сколько стран —
Ных лиц пройдет до утренней росы!
Свидетель я. Я говорю, часы,—
Нет, годы, жизнь пройдет, как караван
Бессчетных мольб, к тому, чей океан
Любви — неколебимые весы.
Изжога жжет. Господень каждый шаг
Горчит на вкус, я этот вкус, я наг,
Кровь порченая, проклятая плоть.
Наш дух вздымает тесто. Передряг
Закваска — наше «я», наш злейший враг —
Себя, заблудших, потная щепоть.
СКЛОННОСТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ. Перевод А. Парина.
Безмолвье избранное, грянь,
Ударь в мое витое ухо,
Введи на пастбища и стань
Насущной музыкой для слуха.
Закройся, зев, будь тверд и нем:
Лишь звон колоколов оттуда,
Где отреченье правит всем,
Являет красноречья чудо.
Глаза, в броне из тьмы двойной
Ищите свет несотворенный:
Житейский опыт пеленой
Морочит взор незащищенный.
О нёбо, будь к соблазнам глухо,
Отринь отрадный вкус во рту:
Да будут кружка и краюха
Причастны божьему посту.
О ноздри, служите гордыне,
Свой нюх растрачивая зря:
Несет вам негу благостыни
Кадильный дым из алтаря.
Ладони с первоцветом чистым,
Ступни, что мох ворсистый мнут,
Пойдут по улицам звездистым,
Врата господни отомкнут.
Невестой, Нищета, явись
И жениха на пир избранных
Введи в шелках лилейных риз,
Без пряжи и труда сотканных.
ВИЛЬЯМ ЭРНЕСТ ХЕНЛИ.
Вильям Эрнест Хенли (1849–1903). — Поэт, критик, редактор. В детстве болел костным туберкулезом. Болезнь и больничные впечатления занимают немалое место в поэзии Хенли. Первая его книга стихов вышла в свет в 1880 году. Всего он опубликовал четыре сборника стихов, три пьесы (в соавторстве с P.-Л. Стивенсоном) и много критических работ; был одним из соредакторов словаря сленга (просторечного языка).
INVICTUS[51]. Перевод В. Рогова.
[51].
В глухой ночи без берегов,
Когда последний свет потух,
Благодарю любых богов
За мой непобедимый дух.
Судьбою заключен в тиски,
Я не кричал, не сдался в плен,
Лишенья были велики,
И я в крови — но не согбен.
Да, за юдолью слез и бед
Лишь ужас кроется в тенях.
И все ж угрозы этих лет
Вовеки не внушат мне страх.
Пусть страшны тяготы борьбы,
Пусть муки ждут меня в тиши —
Я властелин моей судьбы,
Я капитан моей души.
РОБЕРТ ЛУИС СТИВЕНСОН.
Роберт Луис Стивенсон (1850–1894). — Родился в семье инженера. В Эдинбургском университете изучал право. Основоположник и теоретик неоромантизма, литературного направления последней трети XIX века. Его произведения исполнены мужественного оптимизма, жизнелюбивого мироощущения здоровой юности. Стивенсон в первую очередь известен как автор приключенческих романов, и самый знаменитый из них — «Остров сокровищ» (1881–1882); был также одним из зачинателей современной психологической прозы («Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», 1886). Опубликовал пять сборников стихов («Детский цветник стихов», 1885, «Подлесок», 1887, и др.). Поэзия Стивенсона — в основном детские стихи и баллады в стиле народной поэзии ясного и чистого звучания. Последние годы жизни Р.-Л. Стивенсон провел на островах Тихого океана, умер на острове Самоа.
ПУТЕВАЯ ПЕСНЯ. Перевод А. Сергеева.
Веселый сборщик податей
Дудел на дудочке своей
Мотивчик песни путевой:
«Ах, за рекою, за горой».
Когда с дорожным рюкзаком
Я покидаю милый дом,
Я слышу дудку давних лет
И музыканта вижу след.
Помедли, друг, нам по пути,
Мне путевую подуди —
Ты знаешь сам, на целый свет
В дороге лучшей песни нет.
И лишь угрюмый дурачок
Без песни ступит за порог —
Ведь ни за тридевять земель
Пути не оправдает цель.
Налево путь, направо путь,
Но, право же, не в этом суть,
Раз люди, судя но всему,
В конце приходят ни к чему.
Пойдем куда глаза глядят,
Куда влечет огнем закат,
Куда приятели зовут,
И долг велит, и гонит труд.
Я верю, каждый будет там,
Куда всю жизнь стремится сам
При свете дня, во тьме ночной,—
«Ах, за рекою, за горой».
* * *
«Бесконечного неба сиянье…». Перевод В. Рогова.
Бесконечного неба сиянье
Ширилось, и в ночи
Увидел я: ангелы-звезды
Мне лили скорбь и лучи.
Они далеки, словно небо…
Свет праздных звезд в вышине,
Сверкающих, мертвых, безмолвных,
Был хлеба дороже мне.
За ночью ночь мое горе
Отражала морская мгла,
Но в сумерки я вгляделся,
И ко мне звезда низошла.
РОМАНС. Перевод А. Сендыка.
Я кольца, и брошки, и радость твою
Из песен и лунных лучей откую.
Для нас я воздвигну волшебный покой
Из зелени леса и сини морской.
Я дом уберу, приготовлю еду,
А ты над рекою в прекрасном саду
Постелешь постель и ногою босой
Коснешься травинок, умытых росой.
И будет нам петь голубая вода,
Как, может, не пела еще никогда…
И станет нам наша обитель родней
Зовущих уйти придорожных огней.
РОЖДЕСТВО В МОРЕ. Перевод А. Сергеева.
Снасти обледенели, на палубах сущий каток,
Шкоты впиваются в руки, ветер сбивает с ног —
С ночи норд-вест поднялся и нас под утро загнал
В залив, где кипят буруны между клыками скал.
Бешеный рев прибоя донесся до нас из тьмы,
Но только с рассветом мы поняли, в какой передряге мы.
«Свистать всех наверх!» По палубе мотало нас взад-вперед,
Но мы поставили топсель и стали искать проход.
Весь день мы тянули шкоты и шли на Северный мыс,
Весь день мы меняли галсы и к Южному вспять неслись.
Весь день мы зазря ладони рвали о мерзлую снасть,
Чтоб не угробить судно да и самим не пропасть.
Мы избегали Южного, где волны ревут меж скал,
И с каждым маневром Северный рывком перед нами вставал.
Мы видели камни, и домики, и взвившийся ввысь прибой,
И пограничного стражника на крыльце с подзорной трубой.
Белей океанской пены крыши мороз белил,
Жарко сияли окна, дым из печей валил,
Доброе красное пламя трещало по всем очагам,
Мы слышали запах обеда, или это казалось нам.
На колокольне радостно гудели колокола —
В церковке нашей служба рождественская была.
Я должен открыть вам, что беды напали на нас с рождеством
И что дом за жилищем стражника был мой отеческий дом.
Я видел знакомую комнату, где тихий шел разговор,
Блики огня золотили старый знакомый фарфор;
Я видел старенькой мамы серебряные очки
И такие же точно серебряные отца седые виски.
Я знаю, о чем толкуют родители по вечерам,—
О тени семьи, о сыне, скитающемся по морям.
Какими простыми и верными казались мне их слова,
Мне, выбиравшему шкоты в светлый день рождества!
Вспыхнул маяк на мысе, пронзив вечерний туман.
«Отдать все рифы на брамселе!» — скомандовал капитан.
Первый помощник воскликнул: «Но корабль не выдержит, нет!»
«Возможно. А может, и выдержит», — был спокойный ответ.
И вот корабль накренился, и, словно все оценив,
Он точно пошел по ветру в узкий бурный пролив.
День штормовой кончался на склонах зимней земли;
Мы вырвались из залива и под маяком прошли.
И когда на открытое море нацелился нос корабля,
Все облегченно вздохнули, все, — но только не я.
Я думал в черном порыве раскаянья и тоски,
Что удаляюсь от дома, где стареют мои старики.
ГАДАЛКА. Перевод А. Сергеева.
Я говорю гадалке: «Что-то никак не пойму,
Отчего я люблю все вкусное, а невкусного в рот не возьму?
Отчего у мота веселый, а у жмота печальный вид?»
«Легко загадки загадывать», — гадалка мне говорит.
Я говорю гадалке: «Что-то никак не пойму,
Всем не везет на свете или только мне одному?
То уплывет рыбешка, то пташечка улетит…»
«Легко загадки загадывать», — гадалка мне говорит.
Я говорю гадалке: «Что-то никак не пойму,
Отчего ребята заводят с девушками кутерьму?
И было бы что хорошее, а то — так сплошной стыд!»
«Легко загадки загадывать», — гадалка мне говорит.
Я говорю гадалке: «Что-то никак не пойму,
Раз всем помирать придется и вообще пропадать всему —
Зачем этот мир прекрасен и как праздничный стол накрыт».
«Легко загадки загадывать», — гадалка мне говорит.
Я говорю гадалке: «Что-то никак не пойму,
Где же причина причин, „потому“ на все „почему“?
От этих самых загадок в глазу аж слеза горит».
«Легко загадки загадывать», — гадалка мне говорит.
АЛЬФРЕД ЭДВАРД ХАУСМАН. Перевод Б. Слуцкого.
Альфред Эдвард Хаусман (1859–1936). — Ученый и поэт. Автор трех книг стихов, из которых наибольший успех поэту принесла книга «Шропширский парень» (1896). Простая по форме, лирика Хаусмана всегда с оттенком элегической грусти. Его герои — простые люди, его темы — быстротечность юности, тщета человеческих желаний, непостоянство дружбы.
НОВОБРАНЕЦ.
Парень, из дому уходи,
Руку крепко сжав у дружка,
И удача пребудет с тобой,
Башня Лэдло стоит пока.
В воскресенье вернешься домой,
Когда улицы Лэдло пусты
И скликают колокола
Фермы, и поля, и кусты.
Если в понедельник придешь —
В Лэдло рынок шумит под горой.
Перезвон над Лэдло гремит:
«О, гряди, победитель-герой!»
Возвращайся, но только свершив
Героические дела.
Не забудут в Лэдло тебя,
Пока башня Лэдло цела.
Будешь в утренних странах ты
С горном каждый встречать рассвет.
Пожалеет Англии враг,
Что ты в Лэдло родился на свет.
Может быть, до Судного дня
Сляжешь в землю утренних стран,
Опечалив своих друзей
Вестью, что скончался от ран.
Деревенского друга оставь,
Городского покинь дружка.
Не забудут они тебя,
Башня Лэдло стоит пока.
* * *
«Двадцать один мне было…».
Двадцать одни мне было.
Я слушал совет мудреца:
«Отдайте гинеи и фунты,
Но не отдавайте сердца.
Отдайте рубины и перлы,
А души нельзя отдавать».
Но двадцать один мне было.
Нет смысла со мной толковать.
Двадцать один мне было,
Когда я внимал ему,
Что безнаказанно сердце
Нельзя раздавать никому,
Что буду вздыхать я немало
О том, что с сердцем свершил.
Мне двадцать два миновало.
«Увы, он прав!» — я решил.
* * *
«Я непорочен был и мил…».
Я непорочен был и мил,
Когда тебя любил.
Дивились все за сотню миль
На мой любовный пыл.
Теперь, когда любовный чад
Прошел и отдымил,
На сотню миль вокруг кричат:
«Он стал таким, как был».
* * *
«Прекрасны небеса и лес…».
Прекрасны небеса и лес,
И нет милей нигде!
Но краше леса и небес
Все то, что есть в воде.
Отмыла куст и облака
Проточная вода.
Земли заманчивей река —
Мне хочется туда.
Едва заслышу я волну,
Достаточно взглянуть —
Изведать жажду глубину,
Шагнуть и утонуть.
Но там, где речка ток струит,
В лазоревой волне
Печальный дурачок стоит:
Он просится ко мне.
* * *
«Шаги солдат в ушах гремят…».
Шаги солдат в ушах гремят.
Мы смотрим на парад.
И вдруг на мне один солдат
Остановил свой взгляд.
Мой друг, как со звездой звезда
И с миром — мир иной,
Мы не встречались никогда,
Не встретимся с тобой.
Друг другу не открыть сердца
Ни мне и ни тебе,
Но я с тобою до конца,
И ты — в моей судьбе.
* * *
«Ты цель себе поставил, друг?..».
Ты цель себе поставил, друг?
Спеши, покуда силы есть.
А хватит дела и на двух —
Я помогу. Я жду. Я здесь.
Зови меня — я прибегу.
Кричи. Я твой услышу крик.
А похоронят — не смогу:
От мертвеца — прок невелик.
Зови, покуда я не сгнил,
Пока не погрузился в ночь,
Покуда из последних сил
Не прошептал, что мне невмочь.
* * *
«А что теперь с упряжкой…».
«А что теперь с упряжкой,
А что с плужком моим,
Которыми я правил,
Покуда был живым?»
Как прежде, тянут кони
По той земле плужок,
Где ты пахал когда-то,
Куда ты ныне лег.
«А что, футбол гоняют
Теперь на берегу?
Ведь поиграть с парнями
Я больше не смогу».
Как прежде, мяч летает,
Сердца разгоряча,
И вратарю не просто
Не пропустить мяча.
«А как моя девчонка?
Устала ли рыдать
В постели одинокой,
Когда ложится спать?»
Она давно спокойно
В постели спит своей.
Девчонка всем довольна.
Забудь ее скорей.
«А как у мила друга
Теперь житье-бытье?
Добыл себе он ложе
Помягче, чем мое?»
Устроен я удобно.
Ночами тешу я
Покойника невесту.
Не спрашивай, брат, чья.
* * *
«Когда я прежде в Лэдло…».
Когда я прежде в Лэдло
Шагал при свете звезд,
Со мной два добрых друга
Шагали во весь рост.
В тюрьму стащили Нэда,
А Дика на погост.
Теперь один я в Лэдло
Иду при свете звезд.
БЕЛЬГИЯ.
ГВИДО ГЕЗЕЛЛЕ. Перевод с нидерландского Н. Мальцевой.
Гвидо Гезелле (1830–1899). — Фламандский поэт и филолог, писал на нидерландском языке. Был священником. Преподавал в духовной семинарии в Руселаре, где одним из его учеников был Албрехт Роденбах (см. ниже). С 1871 года жил в уединенном местечке Контрейк.
С первым сборником («Кладбищенские цветы») Гезелле выступил в 1858 году, за ним в 1860 году последовали «Фламандские упражнения в стихосложении» и «Стихотворения, песни, молитвы». Темы творчества Гезелле— размышления о вере, взаимосвязи природы и человека, о судьбах родины. После длительного, вызванного тяжелым душевным кризисом молчания поэт в 1877 году вновь возвращается к литературной деятельности. Стихи этого периода посвящены вечности и смерти, поэт создал целый ряд мистических гимнов. С 1878 по 1880 год выходит в свет четырехтомное «Полное собрание стихотворений» Гезелле, в 1893 году — сборник «Венок времени», в 1897 году — «Рифмы».
ШЕЛЕСТЯЩИЙ ТРОСТНИК.
О шелестящий мой тростник!
Напев твой горестен и дик!
Когда пролетный ветр с полей
Твоих касается стеблей,—
Смиренно гнешься, отрешен,
И, вспрянув, вновь творишь поклон,
И шепчешь… — в глубь души проник
Твой зов печальный, о тростник!
О шелестящий мой тростник!
Как редко, встав от дел, от книг,
Один сидел я над рекой;
Был безграничен мой покой,
И я взирал на ток струи,
На стебли слабые твои,
На рябь… — и постигать привык
Твой зов печальный, о тростник!
О шелестящий мой тростник!
Твой голос путника настиг,
Но, глух к напеву твоему,
Он прочь спешит, из тьмы во тьму,
Туда, куда судьба влечет,
Где злато звонкое течет,—
Не остановишь и на миг
Его, о милый мой тростник!
И все же, гибкий мой тростник,
Не все отвергли твой язык;
Господь твой стебель сотворил,
Сказал он: «Дуй!» — и, легкокрыл,
Тебя коснулся ветерок,
Ты преклонился… слушал бог…
Твой голос, мал или велик,
Угоден был ему, тростник!
О шелестящий мой тростник!
И мне понятен твой язык,
Когда, смирен и отрешен,
Земле кладешь земной поклон,
Господню заповедь верша,—
Всегда с тобой моя душа,
О шелестящий мой тростник!
И мне понятен твой язык.
О шелестящий мой тростник,
Вплети свой голос хоть на миг
В напев мой горький и прильни
К стопам того, кто наши дни
Продлил! — о ты, творец твердынь,
Что внемлет стеблю, не отринь,
Услышь! — с мольбой к тебе приник
Я — бедный, страждущий тростник!
СТАРЫЕ ВЕТВИ.
Печален вид дерев нагих;
Как прежде, там гнездятся
От веток — паветья, на них
Листы не молодятся;
Но знаю — ветви дрогнут вдруг,
Листок с листком связуя,
На свет, струящийся вокруг,
Перстами указуя.
Во мгле зимы чета стволов
Чернеет за четою;
Полумертвы, но вешний зов
Затеплен в них мечтою;
Так в старом — новой жизни дни
Простерты божьим плугом,
Как утро с вечером, они
Чредуются друг с другом.
Рубцы и раны свежий цвет
Зеленый заживляет;
Минувшим не прельщайся, нет,—
Оно благословляет
Растущих вновь из седины,
Все с тою же мечтою,
Что присноновою должны
Излиться красотою.
ЗЛАТОГЛАВЕЦ.
О златоглавец, несличимый
С толпою звезд; неисточимый
Источник сил;
Сколь дивен выезд августейший,
Когда стремишься ты древнейшей
Тропой светил!
От века смертная зеница
Зарей и полднем не назрится,
И грустен час,
Как снидешь в царство теневое,
Возвеселивши все живое
И, грешных, нас.
О знак, нагой земле явленный
В послы зиждителем вселенной,
Чей лик сокрыт;
Что я, что ты, златое око,
Когда подъемлет нас высоко
Господень щит?
Как герб укажет на именье,
Род, славу, честь и разуменье,
Так, в свой чертог
Взойдя, верховное светило
Нам рыцаря провозвестило,
Чье имя — Бог.
МАТУШКА.
Ни фотографий
Сыну Вы,
Ни одного
Портрета,
Не соизволили —
Увы! —
Оставить
В жизни этой.
Все тлен — и холст
И мрамор, но,
Моею полон
Кровью,
Был в сердце
Образ Ваш давно
Напечатлен
Любовью.
Дай мне господь
Нести, как свет,
Его благую
Силу
И, кончив лета,
Сей портрет
Унесть с собой
В могилу.
ИЗ ГЛУБИНЫ.
Чуть слышный звон колоколов
И бой часов далекий;
И вся зима, как день один —
Бессветный, одинокий;
Так чужд пустынный этот мир,
Так мрачен и уныл,
Что сердце застучит на миг
И вновь лишится сил;
Темнея, дышит небосвод
Смятеньем; нет, тревожней
И глубже, отчего земля
Вокруг еще ничтожней.
Я болен, что со мной? чего
Недостает, что прежде
Меня хранило от забот,—
Меня, кто жил в надежде
И радости, кто обращал
И мысль, и светлый взор
К тебе, о солнце, в небеса,
В сияющий простор!
Где это все и почему,
Унижен и бессилен,
Я в зимнем склепе погребен
Без плача, без светилен?
О неизбежность смерти, ты
Передо мной воочью
Стоишь; по капле тьма твоя
Стекает в сердце ночью;
И вот печаль, хотя была
Прекрасна жизнь моя,
На сердце возложила длань,
И ныне плачу я.
Где мне укрыться от тебя,
Познание печали? —
Ты безутешно и мертво;
Ты — цепь, меня сковали.
Куда бежать? Ужель бежать
Мне, что себя в молитве
Искал, кому один господь
Опора в этой битве?
Молился я или молчал —
Ты слушал в вышине;
Воззри же вновь — я сердцем чист,
И нет вины на мне.
Услышь, отец! Из глубины
Взываю ввысь с мольбою:
«Над смертным сжалься, свет яви!
Я весь перед тобою».
И ты был погребен, как я,
Во глубине могилы,
И ты беспомощность свою
Оплакивал; и силы
Тебя оставили; и ты
Молил на склоне дня,—
Ты, господи, приявший смерть,
Страдавший за меня!
Так не отринь же; весь дрожа
От смертного озноба,
Встать из ничтожности своей
Хочу я, как из гроба!
ВОРОН.
Однажды я следил, как старый ворон в мглистом
Бессветном воздухе, — на призрака похож
Немого, — помавал крылами с хладным свистом;
И клюв и лапы — весь, как уголь, черный сплошь.
Голодные глаза в провалах черных впадин
Мигали тьмой; во мрак и траур обряжен,
Урод среди своих, ничтожен и нескладен,
Как камень, надо мной повис в тумане он.
Немой! И взмах его широких крыл беззвучен;
Как те, что гроб несут, в тиши замедлив шаг,—
Вот так и он скользил над льдом речных излучин,
Над белизной лугов, — всему живому враг.
Чего ты хочешь здесь, о призрак? Что за вести
Стремят тяжелый лёт в промозглой зимней мгле;
Гонец страданий, где, в каком осядешь месте,
Кому сулишь беду на сумрачной земле?
Что ныне нам с такой суровостью железной
Несешь, ответь, — болезнь, жестокий голод, мор?
Иль, может быть, уже разверзлась тьма над бездной,
И вечный мрак персты над нами распростер?
Молчишь! так прочь лети! туда, где даже свету
Нет доступа, мрачны и хмуры облака;
Где волны вмерзли в лед; где не было и нету
Ни неба, ни земли, ни малого цветка!
Прочь! Или молви мне, как все другие птицы,
Хоть слово — как они, вскричи среди зимы;
Да, как они, запой, хоть снег кругом вихрится
И на полях лежит налет вечерней тьмы.
И ворон вдаль поплыл, как глыба катафалка,
Но прежде, чем уйти в чернеющую высь,
Замедлил свой полет и тяжело и валко
И каркнул в тишине глухое: «Берегись!»
ЖОРЖ РОДЕНБАХ. Перевод с французского.
Жорж Роденбах (1855–1898). — Поэт и прозаик, писавший на французском языке. Изучал право в Гентском университете, где познакомился с Э. Верхарном. В 1881 году был одним из организаторов литературного журнала «Молодая Бельгия». С 1887 года жил в Париже. Испытавший вначале воздействие французских поэтов парнасской школы, Ж. Роденбах обретает в дальнейшем самостоятельный голос; для его стихов, вошедших в сборники «Элегантное море» (1881), «Светская зима» (1884), «Чистая юность» (1886), «Царство молчания» (1891), «Отблески родного неба» (1898), характерно неприятие капиталистической действительности, меланхолическая скорбь по фламандской старине, по уходящему патриархальному быту, культ страдания и тоски. Стихи Ж. Роденбаха, виртуозного мастера формы, передают зыбкость очертаний внешнего мира и мягкие полутона настроений; однако его символистская поэтика лишена зашифрованности, его стихи ясны и прозрачны. Перу Ж. Роденбаха принадлежит также ряд прозаических произведений.
«Воскресный бледен день…». Перевод М. Ваксмахера.
Воскресный бледен день и пуст, как в годы детства,
Он весь — уныния и скуки торжество,
Тягуч он и сонлив, и нет такого средства,
Чтоб хоть на миг один расшевелить его.
Как будто из краев, залитых солнцем южным,
Вернулся ты домой, к постылым и ненужным
Заботам и хандришь, слоняясь, точно тень,
По хмурым комнатам… Таков воскресный день.
Воскресный этот день, томительный и длинный,
Чье сердце немота тугая оплела,
Безмерно сиротлив, как черные крыла
Далекой мельницы над голою равниной.
Воскресный блеклый день! Я на него гляжу
Опять, как в те года, опять глазами детства,
И фиолетовых полутонов соседство
В его мерцании неярком нахожу —
И фиолетовый оттенок риз пасхальных,
И фиолетовый оттенок похорон…
Опять колокола поют со всех сторон,
И мерный перезвон их голосов печальных,
Как прежде, в душу мне вливает смерти страх…
Глазами детскими гляжу на воскресенье,
Огромный вижу пруд в пустынных берегах,
И в нем обрывки туч и небосвод осенний.
Воскресный день. Душа тоскою смущена.
Чуть слышный аромат, таинственный и тонкий,
Букета белого и маленькой сестренки
Печальные глаза — она всегда больна…
* * *
«Иные города, старинные посады…». Перевод М. Ваксмахера.
Иные города, старинные посады,
Где высятся церквей замшелые громады,—
Кольцом высоких стен они обведены,
Кольцом былых валов и рвов, заросших ныне,
Седых ровесников дряхлеющей твердыни.
И медный зов трубы слетает со стены
Унылой жалобой на долгую разлуку,
А рядом, на лугу, военную науку
Десяток рекрутов пытается постичь
Под монотонные рулады барабана —
По крепостным валам оживший бродит клич
Времен воинственных и гаснет средь бурьяна…
И старой крепости тосклив угрюмый вид,
И молодых солдат невесел шаг тяжелый,
И гулкий барабан встревоженно гудит,
Как улей, где в тоске больные бьются пчелы.
* * *
«В провинции, в тиши…». Перевод Ю. Денисова.
В провинции, в тиши, в истоме предрассветной,
В стыдливой сладости предутренней поры
Звонят часы, звонят, и ласковей сестры
Авроры нежной взгляд, и музыкою бледной
За звуком слабый звук, как за цветком цветок,
На крыши падает, и в тихий час рассвета
Их рассыпает ветр, как влажные букеты.
Роняет с башенки за звоном звон Восток,
И падают они гирляндой лилий белых,
И падают они, Былого лепестки,
Из высей голубых, медлительны, легки,
На мертвое чело Годов окаменелых.
ТИШИНА. Перевод Ю. Денисова.
О, нежность вечера! О, полумрак осенний!
Как смерть безбольная, кончается закат.
По стенам к потолку карабкаются тени,
И дремлют комнаты, и лампы не горят.
Как смерть безбольная, с отрадною улыбкой
Приходят сумерки. И в глубину зеркал
Ты отступаешь сам, и странен образ зыбкий,
И кажется, что он не жил, а умирал.
Картины темные висят на белых стенах,
Пейзаж задумчивый — пейзаж твоей души.
Как будто черный снег все падает в тиши,
Там, в долгих сумерках, печально-неизменных.
О, нежность вечера, привыкшая к сурдине
И к звукам томных арф, кларнетов и виол!
Любовники молчат в мечтах о птице синей,
Рисунок на ковре их взгляды вдаль увел.
О, если б вздохи слить в едином аромате,
Став существом одним, — какая благодать!
И думать об одном и об одном молчать,
Когда последний свет томится на закате.
* * *
«Тебе подобен я, мой порт…». Перевод Ю. Денисова.
Тебе подобен я, мой порт, больной мой брат!
Как скорбно над тобой звучат колокола!
Флотилия судов не раз к тебе плыла,
И груди парусов им золотил закат.
Те груди белые любви к морям полны!
Встречавший корабли, когда-то шумный порт,
Теперь ты в трауре, один скорбишь ты, горд,
И смелые суда не ищут ласк волны.
Исчез и шум и блеск… У берега тростник
Над пленного водой в недвижности поник.
Пустынная вода печальна, как вдова,
Ей саван ветры ткут, шепча любви слова.
Печально мы молчим, и ты, мой порт, и я.
Я знаю боль твою. Ведь эта тишина
Вся сожаленьями о парусах полна.
Как мертвый твой канал, застыла жизнь моя.
АЛБРЕХТ РОДЕНБАХ. Перевод с нидерландского Е. Витковского.
Албрехт Роденбах (1856–1880). — Фламандский поэт, писал на нидерландском языке. Учился в духовной семинарии, где на него большое влияние оказал преподававший там Гвидо Гезелле. Двоюродным братом поэта был Жорж Роденбах (см. выше).
В конце 70-х годов Албрехт Роденбах был основателем и руководителем литературного журнала «Рыцарский стяг» (впоследствии — «Новый рыцарский стяг»). Творчество Роденбаха, уходящее глубокими корнями в романтизм и впитавшее в себя влияния поэтов европейского Возрождения и классицизма от Данте до Гете, пленяет читателя страстностью и энергией. Молодой поэт становится одной из центральных фигур нарастающего национально-освободительного движения против насильственного офранцуживания Фландрии; он произносит пламенные речи, печатает политические статьи, пишет свободолюбивые стихи, пропагандирует нидерландский язык.
Рано ушедший из жизни, А. Роденбах оставил большое поэтическое наследие. Сборник «Первые стихотворения» вышел в свет в 1878 году, когда его автор был студентом юридического факультета. К лучшим произведениям Роденбаха принадлежит стихотворная драма в духе Вагнера «Гудрун», опубликованная после смерти поэта.
МЕЧТА.
Плывут седые облака
В лазури высоты.
Глядит ребенок, погружен
В мечты.
И, изменяясь на лету,
Уходят облака в мечту,
Они плывут, как сны точь-в-точь,
Прочь, прочь,
Прочь.
Плывут седые паруса,
Торжественны, чисты.
Глядит ребенок, погружен
В мечты.
И, уменьшаясь на лету,
Плывут кораблики в мечту,
Не в силах ветра превозмочь,
Прочь, прочь,
Прочь.
Плывут миражи вдалеке,
Плывут из темноты.
Глядит ребенок, погружен
В мечты.
И нагоняет на лету
Мечта — мечту, мечта — мечту,
Чтоб кануть в Лету, кануть в ночь,
Прочь, прочь,
Прочь.
ЛЕБЕДЬ.
Прохладно; первая звезда
В просторах замерцала;
И в девственный глядится пруд
Небесное зерцало.
В объятьях ночи и луны,
Сияние струящей,
Прекрасный лебедь на воде
Лежит, как будто спящий.
Он гладь невинную крылом
Восторженно тревожит,
И пьет, и грезит, как поэт,
И прочь уплыть не может.
Ему ответит на любовь
Печаль воды озерной
И образ отразит его,
Хрустальный, иллюзорный.
И лебедь в озеро влюблен,
Безмолвствуя во благе,—
Но не бесчестит никогда
Его невинной влаги.
(Дитя, вот так и я творю,
Когда закат увянет,
Когда невинный голос твой
В мое сознанье канет.)
ОРЕЛ.
Вершину как престол избрав,
Торжественная птица
Взирала в небо, чтоб затем
В просторы устремиться.
Но ядовитая змея
Всползла к нему на кручи,
И, лишь собрался царь высот
Уйти в полет могучий,
Змея вокруг его груди,
Предательски и злобно,
Блеснув на солнце, обвилась,
Стальной петле подобна.
Летит орел, а с ним — змея,
Что меж камней лежала —
И в грудь орлу сочится яд
Отравленного жала.
О честолюбец, возлети
В простор, в пучину света —
И не ропщи, что смерть близка:
Таков удел поэта!
МИР.
Был зимний вечер. Темнота окутала алтарь.
Ко входу в церковь брел монах, держа в руке фонарь.
Как пилигрим, свершивший путь, усталый, изможденный,
Остановился и застыл у каменной колонны.
И долго около дверей ключами он бренчал,
Но сам, казалось, ничего кругом не различал,
Как призрак. Наконец вошел, ступая еле-еле,
Трикраты грудь перекрестил, смочил персты в купели,
Фонарь немного приподнял, увидел в тот же миг:
Стоит вблизи от алтаря еще один старик,—
Как Голод, худ, как Смерть, согбен, — но все же был высок он,
В седой копне его волос светился каждый локон;
Исполнен вдохновенных дум, сиял во мраке он,
Как алебастровый сосуд, в котором огнь зажжен.
Сурово инок вопросил, едва его заметил:
«Что ищешь?» — «Мира!» — в тишине чужак ему ответил,
Вздохнул и в нишу отступил, к колонне, где темно.
Монах, взглянув на чужака, молиться начал, но,
Постигнув истину, шагнул назад, к церковной двери:
Пришлец, искавший мира здесь, был Данте Алигьери.
MACTE ANIMO[52].
[52].
Я ничего не должен знать о женщинах на юге,
Что полны гибельной тоски, когда, томясь в недуге,
Несут безлистым деревам в безвыходной мольбе
Плач о возлюбленных своих, о листьях, о себе.
Ты ль это, — слышу каждый час в груди твой хрип свистящий,—
Ты ль это, червь, грызущий плоть, — смертельный рок, висящий
Над светлой юностью моей? — Я все отдам навек,
Но не тебя, моя душа, орешины побег!
Тяжелый, низкий небосвод вдруг посветлел сегодня,—
О радость, о тепло, о свет, о благодать господня,—
Моя страна… моя любовь… жизнь, юность, счастье… Брат,
Не рассуждать… Бери клинок, погибни, как солдат!
АРНОЛД САУВЕН. Перевод с нидерландского Н. Мальцевой.
Арнолд Саувен (1857–1938). — Фламандский поэт, писал на нидерландском языке. Принадлежал к поэтам позднего импрессионизма, для которых город, бурно развивающаяся промышленность, индустриализация общества были олицетворением гибели всего прекрасного. Поэты этого поколения (Саувен, Лангендонк, несколько позднее — Карел ван де Вустейне) находили приют и уединение вдали от шумных городов. Лучшие стихи Саувена написаны под впечатлением природы провинции Лимбург, полны свежести и чистоты восприятия, неподдельной простоты.
ЖУРАВЛИ.
Высоко над хуторами,
Над просторами полей
Пролетают вечерами
Стаи диких журавлей.
Рассекут крыла, блистая,
Хрупкий воздух октября,—
Мчат на юг за стаей стая,
За далекие моря.
Над пустынной, нежилою,
Опочившей до весны,
Над осеннею землею,
Над землею тишины,
Где паучьи паутинки
Серебрятся у леска,—
Журавлиные поминки,
Их прощальная тоска.
И среди равнин безлесных
Пастухи у пестрых стад
Ввысь, на странников небесных,
Долго с жалостью глядят.
В их глазах — печаль, тревога
И еще вопрос немой:
«Далеко ль лежит дорога,
Скоро ль будете домой?»
А они, как пилигримы,
Исчезают в полумгле.
Их пути непостигаемы
Умирающей земле.
ТРАКТИР.
Уж целый век стоишь ты, старожил,
Среди путей торговых, на развилке.
Сколь многим ты радушно предложил
Свой кров и стол, бочонки и бутылки.
Тому, кто вечером бредет без сил
И чувствует усталость в каждой жилке,
Призывный свет твоих окошек мил,
Как свет далекой дружеской ухмылки.
Сколь счастлив тот, кто на своем пути
В дом собственных желаний мог войти,—
Где слышит слово ласки и привета,
Где ждет его Любовь, где стол накрыт,
Огонь в камине весело горит,
Постель свежа и загодя нагрета.
ДАЛЕКОЕ.
Я вижу вновь высокий дом, фронтон,
Зеленый ставень, шторы в мелких сборках,
Две тачки и повозку на задворках,
Над красной черепицей — трепет крон.
То, что погибло в глубине времен,
Живет во мне, как в детстве — сумрак в норках,
Сарай на крепких струганых подпорках,
Столбы ворот, конюшня и загон.
О дом, о мир, исчезнувший давно,
Ты будешь жить со мною заодно,
Тоску и нежность в сердце насаждая.
Мне не забыть, как с твоего крыльца
Звала меня, тогда еще мальца,
Перед закатом женщина седая.
ПОЛ ДЕ МОНТ.
Пол де Монт (полное имя — Карел Мария Полидор де Монт) (1857–1931). — Фламандский поэт, писал на нидерландском языке. Вместе с Албрехтом Роденбахом был одним из руководителей национального студенческого движения. С 1904 по 1918 год был хранителем Королевского музея изящных искусств в Антверпене.
Пол де Монт был поэтическим наставником фламандского поколения литераторов — «восьмидесятников», уделял внимание взаимосвязям различных литератур, что внесло большой вклад в дело сближения литератур Нидерландов и Бельгии. Пол де Монт разделял взгляды сторонников «искусства для искусства», но его стихи трогают читателя чистотой и живостью интонации. Среди поэтических сборников Пола де Монта — «Весенние шутливые представления» (1881), «Идиллии» (1882), «Порхание бабочки» (1885) и др. Ему принадлежат также прозаические произведения, пьесы и ряд работ по фламандскому фольклору и истории искусства.
ЖАВОРОНКУ В КЛЕТКЕ. Перевод с нидерландского Н. Мальцевой.
Пускай от кисти до плеча
Отсохнут руки палача,
Пусть не уйдет он от бича,
Ему готова плаха —
До старости и до седин
Да будет ввергнут в равелин
Тот, кто посмел на миг один
Лишить тебя родных долин,
О жаворонок, благостная птаха…
Я молча слушаю певца,
Его напевам нет конца,
Они очаровать ловца
Пытались без успеха —
Но равных им на свете нет.
О жаворонок, ты поэт!
Ты в клетке, но тебе в ответ
Долин зеленых вторит эхо.
Я под чужим окном стою
И слезы горестные лью,
Переживая скорбь твою,—
Увы, в каморке тесной
Ни веточки, ни стебелька…
О, как неволя нелегка!
Пусть клетка тесная крепка —
Необоримая тоска
Влечет тебя в простор небесный.
Тоска, великая тоска,
Как исполинская рука,
Тебя возносит в облака
Из этой клетки душной,—
Тоска по ветру в вышине,
По неземной голубизне
В горячем солнечном огне,
Но жизни в пропасти воздушной.
Тоска — и смысла нет в борьбе,
Но утром, будто по волшбе,
Бурлит поэзия в тебе,
Зовет в просторы воли —
Ты к богу путь направил свой,
Но горе! Ты, поэт живой,
О прутья бьешься головой
И замолкаешь от безумной боли.
Но ты молчишь всего лишь миг,
Но снова слышен звонкий клик,
Но вновь глаголет твой язык,
Чтоб знали все, повсюду:
Не сломлены твои крыла,
И сколь темница ни мала,
Но песнь чиста и весела:
«Я должен петь… Я должен петь — и буду!»
О жаворонок, бедный брат,
Как был бы я безмерно рад,
Когда бы смог от всех преград
Тебя избавить…
ИВАН ЖИЛЬКЕН. Перевод с французского.
Иван Жилькен (1858–1924). — Франкоязычный поэт. Учился в Лувенском университете; в 90-е годы руководил журналом «Молодая Бельгия». И. Жилькен был сторонником поэзии «чистого искусства»; однако его поэзия во многом отразила реальные социальные противоречия эпохи. Поэмы Жилькена «Осуждение художника» (1890) и «Сумерки» (1892), поэтический сборник «Ночь» (1897) исполнены мотивов неприятия буржуазной морали.
ПРИЗЫВ. Перевод М. Квятковской.
Из бездны мерзостной к тебе взываю я,
О Муза страждущих, царица непокорных,
Мать прихотливых скук и упоений черных,
В обиженных сердцах клокочет злость твоя;
Любовница богатств, алмазов и тряпья,
Ты — опиумный бред эдемов иллюзорных,
Владычица стихов, печальных и тлетворных,—
Приди! Здесь, в липкой тьме, хрипит душа моя.
Твой мрачный фейерверк — одна моя отрада;
На пастбищах твоих пасти я буду стадо
Невиданных безумств, неслыханных страстей.
Целуй меня хмельней! Пригубить дай отравы!
И в грозную лазурь, куда мне нет путей,
Мой разум вознеси, как солнце в блеске славы!
СЕГОДНЯ. Перевод М. Квятковской.
Роза льет аромат несравненный,
Расцветает и вянет она.
Плесни мне, дружище, вина,
И выпьем за тленность вселенной.
Словно бабочка, льнет красота
То к одной, то к другой светлокудрой.
Все сущее — видимость. Мудрый
Следит, как играет мечта.
РАЗРЫВ. Перевод М. Квятковской.
Как хорошо нарушить клятвы гнет,
Как тяжело докучный долг нести!
Поверь, что сердце, обещая, лжет,—
Оно не в силах клятву соблюсти.
Не прибегай к старинным волхвованьям,
Не оживляй угаснувшее пламя,
Не тронь души неправым притязаньем,
Не уловляй знакомыми силками!
Да, я тебя оставил, разлюбя,
И так же умерла любовь твоя!
Ты — знала. Нет, я не виню тебя,
Но наше счастье погубил не я.
Я лишь исполнил долг, порвав с тобою.
Иди вперед, не плача по утратам,
Своим путем, указанным судьбою,
И зла не помни, расставаясь с братом.
МУДРЫЕ. Перевод М. Квятковской.
Куртины цветов белоснежных
Ароматами сердце пьянят,
И мудрость голов белоснежных
Мне тончайший дарит аромат.
Цветы пред очами мудрых
Облетают с уходом весны;
Но кроткие речи мудрых
Далеко сквозь вечность слышны.
В ВАГОНЕ. Перевод Ю. Денисова.
Ребенку жить в изгнанье суждено,
И он в вагоне гаснет от печали.
Неудержимо ускользают дали,
А он глядит в вечернее окно.
Загадочным желанием томим,
Он чувствует Эдем, скользящий мимо…
Эдем исчез!.. Восторг — воздушней дыма,
Развеялись надежды вместе с ним.
Смиритесь иль судьбу на бой зовите —
Неумолим извечный ход событий,
И что нас ждет, еще никто не знал.
О, как горька недостижимость рая!
Он близко, за окном, но, как Тантал,
Стремлюсь к нему, его не достигая.
МОРИС МЕТЕРЛИНК. Перевод с французского.
Морис Метерлинк (1862–1949). — Выдающийся драматург, эссеист, поэт; писал на французском языке (о его творчестве см. том БВЛ «Эмиль Верхарн. Стихотворения. Зори. Морис Метерлинк. Пьесы»), В 1889 году Метерлинк выпустил сборник стихов «Теплицы», а в 1896 году — сборник «Двенадцать песен», дополненный впоследствии еще тремя стихотворениями («Пятнадцать песен», 1900); этим исчерпывается наследие Метерлинка-поэта. Символистские мотивы стихов Метерлинка, его романтическое обращение к темам народных легенд были своеобразным протестом против мещанской бескрылости натуралистического искусства конца века. Душа лирического героя тяготится неподвижностью и духотой «теплиц». Однако мы не найдем здесь ни сильных страстей, ни подлинного трагизма, присущих драматургии Метерлинка.
ОРАНЖЕРЕЯ СКУКИ. Перевод М. Квятковской.
О, синей скуки в сердце тленье,
Когда в рыданиях луны
Мои мечты просветлены
Прозрачной синевой томленья!
Той синей скуки гладь светла,
Как мир оранжереи сонной,
Где в глубине темно-зеленой
В квадратах света и стекла
Видны огромные растенья,
Чьи тени, странно продлены,
Оцепенели, словно сны,
На розах страстного смятенья,
И волны, полнясь в тишине,
Слились с луною в небе млечном
В одном рыданье — синем, вечном
И монотонном, как во сне.
ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО. Перевод Э. Шапиро.
Гляжу на прошлые часы
Сквозь жгучее стекло печали,
И с голубого дна предстали
Цветы невиданной красы.
Стекло над сумраком желаний!
Желанья, что таит душа!
И мертвая трава, шурша,
Горит в плену воспоминаний!
Приближу я к мечте своей
Стекло, и в зыбкости кристалла
Раскроются цветы устало
Давно умолкнувших скорбей!
Пока их память не одела
В привычный саван гробовой,
Пусть этот креп смутит покой
Иных надежд в душе незрелой.
РАСТЕНИЯ СЕРДЦА. Перевод Ю. Денисова.
Уйдя под голубой хрусталь
Мечты прозрачной и усталой,
Стихает боль моя помалу
И стынет давняя печаль.
Растений символичных чары,
Желаний охладевших мхи,
Лианы — прошлые грехи,
Услад отцветших ненюфары.
И только лилия одна,
Возвысясь над больной листвою,
Молчит средь мертвого покоя,
Недвижна, холодна, бледна.
И, белизны своей истому
Рассеяв, словно лунный свет,
Она мистический обет
Несет кристаллу голубому.
* * *
«От слез мои губы завяли…». Перевод Ю. Денисова.
От слез мои губы завяли,
Лобзания не родились…
Несжатое поле печали,
Желаний забытая высь!
Все время то скука дождей,
То снежная гладь на полянах.
Из воспоминаний туманных,
В душе притаившись моей,
Два волка глаза устремили
На жертвы и молча глядят
На кровь убиенных ягнят,
Схороненных в снежной могиле.
И светится только луна
В печали своей монотонной,
И в холоде осени сонной
Спит страсть, голодна и больна.
* * *
«Она любви искала…». Перевод М. Квятковской.
Она любви искала
В неведомых краях,
По всей земле искала,
В пустынях и в морях,
В нехоженых лесах.
Три пастуха, три града
Дарили ласки ей.
Жена трех королей,
Она любви искала,
Но не встречалась с ней.
Она домой вернулась.
Перед ее дворцом
Старик стучался в двери.
И золотым кольцом
Насквозь пробил он двери.
— Что надо вам у нас?
— Прошло уж тридцать лет
С тех пор, как я вас знаю.
— И я узнала вас.
— Я жду вас каждый час.
— Теперь ваш волос сед!
— Я жду вас тридцать лет.
Дадите ли мне руку?
— На ваших — крови след!
— Стучусь я тридцать лет.
* * *
«Трижды в рог я протрубил…». Перевод М. Квятковской.
Трижды в рог я протрубил,
Что ж она нейдет?
— С башни вниз она сошла,
У окна не ждет.
Мы в тот вечер, в горький час
Плакали вдвоем.
— Плакала она семь лет
И забылась сном.
С ней ли перстень золотой?
Мой пропал с тех нор.
— Даже взгляда не пошлет
Вам она в укор.
Знаю, грешен я пред ней,
Бог один лишь свят.
— Вас простила бы она,
Но уста молчат.
Словно мальчик, я рыдал
У ее дверей.
— Знайте, вот уже три дня,
Как не больно ей.
ПЕСНЯ. «Семь лет, как взаперти…». Перевод В. Васильева.
Семь лет, как взаперти
Томится королева,
Семь лет, как не найти
Ключа от этой башни.
А за мостом вода
Течет туда, где море.
Вот с золотым ключом
Король стучится к ней,
Стучится много дней.
Но не подходит ключ.
— А где искать другой?
— Ищи на дне морском.
К ней праведник пришел
С серебряным ключом,
Стучится день за днем.
Но не подходит ключ.
— А где искать другой?
— Ищи на горных кручах.
Стучится к ней бедняк.
Он медный ключ принес,
Но повернуть никак
Не удается ключ.
— А где искать другой?
— Ищи за черной тучей.
Явилось к ней дитя.
Без стука в дверь вошло.
При нем железный ключ.
— Ты где нашел его?
— Его увидел я,
На лестницу всходя.
ПЕСНЯ. «Мне успели шепнуть…». Перевод Э. Шапиро.
Мне успели шепнуть
(О, как страшно, дитя),
Мне успели шепнуть,
Что собрался он в путь…
Лампа здесь зажжена
(О, как страшно, дитя),
Лампа здесь зажжена,
У дверей я одна…
Вот вошла в первый зал
(О, как страшно, дитя),
Вот вошла в первый зал:
Грустно пламя дрожало…
Во второй вошла зал
(О, как страшно, дитя),
Во второй вошла зал:
Грустно пламя шептало…
Вот вошла в третий зал
(О, как страшно, дитя),
Вот вошла в третий зал:
Там огонь умирал.
ПЕСНЯ. «Тридцать лет искал я, сёстры…». Перевод В. Васильева.
Тридцать лет искал я, сестры,
Истекает жизни срок.
Тридцать лет искал я, сестры,
Разыскать его не смог.
Тридцать лет блуждал я, сестры,
По земле и по воде.
Раньше был он всюду, сестры,
Нынче нет его нигде.
Час печали близок, сестры.
Снять сандалии пора.
Умирает вечер, сестры,
В сердце — холод и хандра.
Отдаю вам посох, сестры,
Отдаю с моей сумой.
По шестнадцать лет вам, сестры.
Продолжайте поиск мой.
ПРОСПЕР ВАН ЛАНГЕНДОНК. Перевод с нидерландского Н. Мальцевой.
Проспер ван Лангендонк (1862–1920). — Фламандский поэт, писал на нидерландском языке. Один из основателей литературного фламандского журнала «Сейчас и скоро»; одним из первых в Бельгии начал борьбу с поэтами романтико-классического направления.
Поэтическое творчество Лангендонка развивалось очень неравномерно, подъемы активности перемежались периодами спада и глубокой меланхолии. Его поэтическое наследие невелико — это сборник «Строфы» (1900). Многое из более поздних стихотворений поэта не публиковалось и было утеряно.
ГВИДО ГЕЗЕЛЛЕ.
Глава мыслителя, по смерти миром
Помазанная, в ореоле лет,
Согбенная над одиноким миром,
Над бедными слезами наших бед;
Свободна лжи, чужда людским кумирам,—
Любви и человечности завет,—
Что, жизнь утратив, разлилась эфиром
И возжигает вечной жизни свет.
Из тьмы идут на этот свет сердца
К Вам, кто тысячекратно, до конца
Прочувствовал их горести и муки,
Их униженье, гнет и злобу скуки,—
Чей скорбный взгляд, причастный временам,
Прощает нас и сострадает нам.
ПОДНИМАЯСЬ К ХРАМУ СВЯТЫХ ДАРОВ.
О грозный темный исполни,
Пропахший мрачной стариной,—
О чем я только не молил,
Сокрыт твоею глубиной!
О существо из камня! Здесь
Надеждой пьян, убит виной,—
По лабиринту сердца я
Бежал вослед за тишиной.
Ни трепет тела, ни слеза,
Ни вздох души во мгле ночной —
Ничто не скрылось от тебя,
Не проходило стороной.
Все — горе первое мое
И стон последний потайной —
В тебя врастает и живет
За этой каменной стеной.
Болит ли сердце или плоть —
Душе не справиться одной.
Я против рока восстаю,
И горе следует за мной!
ПЕСНЯ ШАРМАНЩИКА.
По улицам таскаю
Шарманку круглый год,
С печалью воспеваю
Свой собственный приход.
О «сердце, что разбито»,
«Тоске в чужом краю»,
О том, что «все забыто»,
Я без конца пою.
Те песенки знакомы
Народу с давних лет.
Кто хлеб, кто грош из дому
Мне вынесет в ответ.
Докучливы, как вьюга,
Напевы бедняка.
Но можно ли друг друга
Понять наверняка?
Меня с шарманкой вместе
Несет людской поток,
Но в каждом новом месте
Я стар и одинок.
БОЛГАРИЯ.
ДОБРИ ЧИНТУЛОВ.
Добри Чинтулов (1822–1886). — Родился в семье ремесленника; учился в России (окончил Одесскую семинарию). Учительствовал в Сливене и Ямболе. Выступал за национальную независимость Болгарии. Автор революционно-романтических стихов (созданы в 1849 — начале 60-х годов), проникнутых идеями патриотизма и свободолюбия. Стихи Д. Чинтулова мелодичны, написаны живым народным языком; некоторые из них стали народными песнями (в частности, стихотворение «Восстань, восстань, юнак балканский!», публикуемое в настоящем томе).
ВОССТАНЬ, ВОССТАНЬ, ЮНАК БАЛКАНСКИЙ! Перевод М. Зенкевича.
Восстань, восстань, юнак балканский!
От сна глубокого буди
И против власти оттоманской
На битву всех болгар веди!
Кровавые льет слезы в муке
Под игом рабства наш народ,
Он к небу простирает руки,
Да бог спасенья не дает.
Итак, терпели мы немало,
Доколе ж будем мы терпеть,—
Такими станем, как бывало,
Иль лучше всем нам умереть!
Доколе будем мы рабами
Иль сил своих не соберем,
Иль мы себя погубим сами
И вымрем в рабстве под ярмом.
Смотрите, как живут народы,
И с них пример возьмем себе,—
Как добиваются свободы
И прославляются в борьбе.
Вставайте, братья, все к оружью,
И смело двинемся вперед,
Готовьте к бою сабли, ружья!
Ведь скоро помощь к нам придет.
Поднявшись, сербы, черногорцы
Помогут нам сражаться тут,
И с севера на помощь скоро
Герои русские придут.
Змею раздавим мы ногами,
Пока она еще мала,
И смело вступим в бой с врагами,
Чтоб вновь свобода ожила.
Пускай восстанет лев балканский,
Повеяв бурей, грозен, смел,
Чтоб полумесяц оттоманский
За темной тучей потускнел!
Поднимем знамя боевое,
Свободной будет вся страна!
Пускай прославятся герои!
Да сгинут вражьи племена!
ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ. Перевод М. Зенкевича.
Петко Рачев Славейков (1827–1895). — Первый крупный поэт Болгарии, видный просветитель и известный общественный деятель. Родился Славейков в городе Тырнове в семье ремесленника-медника. Учился в церковной школе, с шестнадцати лет сам стал сельским учителем. За патриотические выступления не раз подвергался преследованиям со стороны турецких властей и греческого духовенства. Издавал в Константинополе газеты «Гайда» (1863–1867) и «Македония» (1866–1872), которые пользовались большой популярностью. После национального освобождения П. Славейков стал одним из лидеров либеральной партии, был министром и председателем Народного собрания. Как общественный деятель П. Славейков боролся за утверждение демократических норм общественной жизни, выступал против реакции, буржуазной диктатуры. Всегда проявлял живой интерес к России, популяризировал русскую литературу, выступал против антирусской политики правящих кругов в болгарском княжестве.
Литературной деятельностью Славейков начал заниматься с конца 40-х годов. Он собирал народные песни, пословицы и поговорки, переводил русских, украинских, сербских и греческих поэтов. От вольных переработок он шел к созданию художественных переводов, закладывая основы переводческого искусства в Болгарии. В 1852 году в Бухаресте вышли его первые поэтические сборники — «Пестрый букет», «Песенник» и «Басенник», в которые вошли переводные и оригинальные произведения поэта. Эти сборники выполняли также роль учебных пособий в болгарских школах. В историю болгарской литературы Славейков вошел как один из родоначальников болгарской реалистической поэзии. Его басни, сатирические стихи, патриотическая и интимная лирика, его поэмы проникнуты народным духом и идеями национальной независимости.
КАНУН.
Вставай! Пришел к тебе я с песней,
Чтоб пробудить тебя от сна.
Вставай! Встречай восход чудесный.
Вставай, гляди, как даль ясна.
Уж птички певчие на воле
В лесу зеленом гомонят,
Ржет жеребец в широком поле —
Пойми, чему он тоже рад!
Вставай! Проснуться не пора ли?
Иль будет спать и тот, кто юн?
Иль долгим сном мы все не спали?
Вставайте! Праздника канун!
ЖЕСТОКОСЕРДИЕ МОЕ СЛОМИЛОСЬ.
Я говорил: «Не буду, возмущенный,
Оплакивать злосчастный наш народ».
Я укорял его ожесточенно:
«Страдай, коль сносишь ты покорно гнет!»
Такой народ судьбы своей достоин,
Достоин тяжких мук, нужды и зла,
Как раб бессмысленный и спящий воин,
Что может ждать он за свои дела?
Ведь жизнь такую в жалком прозябанье,
Что наш народ влачит день изо дня,
Не искупают все его страданья,
Сочувствия к нему нет у меня!
Но вспомнил, мама, как ты умирала
И как от юности и до седин,
Гонимая, ты мучилась, страдала,
И все из-за того, что я твой сын!
Жену свою я вспомнил молодую:
Не покидая двух моих детей,
Невольница злосчастная, кочуя,
В нужде скиталась средь чужих людей!
Чрез смерть твою и чрез ее мученья
Страдания народа я постиг,
И вскрылось старых ран кровотеченье,
И головой я в горести попик…
Мое жестокосердие сломилось,
И я в слезах проклятие изрек
За то, что гордостью душа затмилась
И что я был несправедлив, жесток.
Я проклял всех, кто заслужил проклятье,
Всех, кто живет в позоре, честь губя,
Виновников всех проклял без изъятья
И вместе с ними самого себя…
И я прислушался… И вдруг услышал
Призыв: «Ах, кто поможет нам в защите?»
И я, вздохнув, в ответ промолвил тише:
«О, спит ли бог? Иль ничего не видит?»
ХРИСТО БОТЕВ.
Христо Ботев (1848–1876). — Занимает особое место в общественном сознании и литературе Болгарии. С его именем связан высший этап национально-освободительной борьбы болгарского народа 60–70-х годов XIX века, а в его творчестве воплощены самые светлые национальные идеалы. После своей трагической гибели поэт стал национальным героем.
Христо Ботев родился в семье учителя. Непродолжительное время он жил в Одессе и учился в гимназии (1863–1865), где увлекся русской литературой и революционной мыслью. Возвратившись в родной город, юноша замещал отца в местной школе и завоевал репутацию непримиримого противника турецких властей и болгарских богачей. Под давлением местной знати осенью 1867 года ему пришлось эмигрировать в Румынию, где он провел почти девять лет. Здесь он близко сошелся с болгарской революционной эмиграцией и такими выдающимися ее деятелями, как Любен Каравелов и Васил Левский. Социалист-утопист и революционный демократ, он проповедовал свои идеи в эмигрантской печати. Ярким свидетельством его смелых воззрений стал «Символ веры болгарской коммуны» (1871), в котором писатель говорил, что ждет «пробуждения народов и будущего коммунистического строя во всем мире». Вскоре X. Ботев оказался в центре борющейся эмиграции, а когда погиб В. Левский, возглавил Болгарский Центральный революционный комитет, готовивший всенародное восстание. Стремясь поддержать соотечественников, поднявшихся против чужеземного ига, X. Ботев сформировал отряд и в мае 1876 года переправился с ним через Дунай, чтобы вступить в открытую борьбу против регулярных турецких частей за свободу своей родины. В неравном бою он погиб в горах, недалеко от города Враца. По сложившейся традиции болгарский народ ежегодно отмечает 2 июня как день памяти Христо Ботева и всех патриотов, отдавших жизнь за свободу и независимость Болгарии.
Небольшое поэтическое наследие X. Ботева (немногим более двадцати стихотворений) разнообразно в идейном и жанровом отношении. Это вдохновенная гражданская лирика; это разящая сатира на чужеземных поработителей и благодушных болгарских либералов; это и искренняя исповедь человека любимого и любящего, который, подавляя в себе все личное, идет на суровую борьбу «за правду, за правду и за свободу». При жизни поэта часть его стихотворений была издана в 1875 году совместно с произведениями С. Стамболова в сборнике «Песни и стихотворения». Впервые все они были собраны лишь после смерти автора.
Христо Ботев оказал огромное влияние на все развитие болгарской поэзии; некоторые его стихи стали народными песнями.
ЭЛЕГИЯ. «Народ мой бедный, скажи хоть слово…». Перевод А. Гатова.
Народ мой бедный, скажи хоть слово,
Кто в рабской зыбке тебя качает?
Тот ли, кто в тело вонзил Христово
Свой меч со злобой и наслажденьем?
Иль тот, кто песню одну лишь знает:
«Свою ты душу спасешь терпеньем»?
Тот ли, другой ли — его наместник
Иль брат Иуды и сын Лойолы,—
Подлец-предатель, живой предвестник
Грядущих тягот, нужды проклятой,
Разбойник новый, в безумье новом
Отца убивший, предавший брата?
Кто он? Скажи мне. Народ — ни слова,
Молчит Свобода. Но час за часом
Так страшно, глухо гремят оковы.
Народ на стадо скотов кивает —
На сброд, одетый в сюртук и рясу,
На всех, кто, видя, в слепца играет.
Народ кивает, а пот кровавый
С чела струится на камень хладный.
К кресту прибит он, распят. И ржавый
Гвоздь разъедает народу кости.
Народу в сердце змей впился жадно,
Его и наши сосут и гости.
А раб все терпит. И мы годами
Бесстыдно молча считаем время,
Как долго стонем под хомутами,
А кровь струится из ран народа.
Мы ждем, поверив в скотское племя,
Что срок настанет — придет Свобода.
ХАДЖИ ДИМИТР[53]. Перевод А. Суркова.
[53].
Жив еще, жив он. Там, на Балканах,
Лежит и стонет в крови горючей
Юнак отважный в глубоких ранах,
В расцвете силы юнак могучий.
Обломок сабли он бросил вправо,
Отбросил влево мушкет свой грубый,
В очах клубится туман кровавый,
Мир проклинают сухие губы.
Лежит отважный. В выси небесной
Исходит зноем круг солнца рдяный.
Жнея по полю проходит с песней.
Сильнее кровью сочатся раны.
В разгаре жатва… Пойте, рабыни,
Напев неволи! Встань, солнце, выше
Над краем рабства! И пусть он сгинет,
Юнак сраженный… Но, сердце, тише!
Кто в грозной битве пал за свободу,
Тот не погибнет: по нем рыдают
Земля и небо, зверь и природа,
И люди песни о нем слагают…
Днем осеняет крылом орлица,
Волк ночью кротко залижет раны;
И спутник смелого — сокол-птица —
О нем печется, как брат названый.
Настанет вечер — при лунном свете
Усеют звезды весь свод небесный.
В дубравах темных повеет ветер —
Гремят Балканы гайдуцкой песней!
И самодивы в одеждах белых,
Светлы, прекрасны, встают из мрака,
По мягким травам подходят смело,
Садятся с песней вокруг юнака.
Травою раны одна врачует,
Водой студеной кропит другая,
А третья в губы его целует
С улыбкой милой — сестра родная.
«Где Караджа[54], расскажи, сестрица,
Найди, сестрица, мою дружину.
Душа юнака — моя расплата,—
Пусть, бездыханный, я здесь остыну».
Сплели объятья, всплеснув руками,
И льются песни, и крылья свищут,
Поют, летая под облаками,
Дух Караджи до рассвета ищут…
Но ночь уходит… И на Балканах
Лежит отважный, кровь бьет потоком,
Волк наклонился и лижет раны,
А солнце с неба палит жестоко.
МОЯ МОЛИТВА. Перевод А. Суркова.
О мой боже, правый боже,
Ты не тот — не небожитель,
А надежда сердца, боже,
Чья в душе моей обитель.
Ты не тот, пред кем ночами
Поп с монахом ломят спины
И кого коптит свечами
Православная скотина.
Ты не тот, кто, взявши глину,
Сотворил жену и мужа,
Но сынов земли покинул
В рабстве, голоде и стуже.
Ты не тот господь, чьей властью
Правят поп, и царь, и папа,
Кто неволе и несчастью
Бедных братьев отдал в лапы.
Ты не тот, кто бедных учит
Лишь молитвам да терпенью
И до самой смерти мучит
Лишь надежд пустых гореньем.
Ты не бог тиранов злобных
И бесчестных лицемеров,
Бог глупцов скотоподобных,
Кровопийц и изуверов.
Ты, мой боже, — разум ясный,
Бедняков-рабов опора,
Чьей победы день прекрасный
Все народы встретят скоро.
В сердце каждому, о боже,
Ты вдохни огонь свободы,
Чтобы в битву шли без дрожи
На душителей народа.
Укрепи мне, боже, руку,
Чтоб, когда народ восстанет,
Я пошел на смерть и муку
В боевом народном стане.
Не позволь, чтобы остыло
Это сердце на чужбине,
Чтобы голос мой уныло
Замирал, как крик в пустыне!..
КАЗНЬ ВАСИЛА ЛЕВСКОГО[55]. Перевод Л. Мартынова.
[55].
О мать родная, родина милая,
О чем ты плачешь так жалобно, слезно?
Ворон! А ты, проклятая птица,
Над чьею могилой каркаешь грозно?
О, знаю, знаю, плачешь, родная,
Потому, что черная ты рабыня.
Знаю, родная, твой голос священный —
Голос беспомощный, голос в пустыне.
О мать-Болгария! Мертвое тело
В граде Софии, на самой окраине,
Тяжестью страшной в петле тяготело…
Сын твой казнен был. Рыдай в отчаянье!
Каркает ворон зловеще, грозно,
Псы и волки воют в поле…
Детские стоны, женские слезы,
Старцев горячее богомолье.
Зима поет свою злую песню,
Тернии ветер по полю гоняет,
Мороз, и стужа, и плач безнадежный
Скорбь на сердце твое навевают!
ИВАН ВАЗОВ.
Иван Вазов (1850–1921) — поэт, прозаик и драматург. На разнообразном наследии писателя, составившем целую библиотеку, воспитывалось несколько поколений болгарских читателей. Народным поэтом и патриархом болгарской литературы назвала Вазова передовая общественность Болгарии.
Иван Вазов родился в семье торговца. Детские и юношеские годы будущего поэта совпали со временем подъема национально-освободительного движения в стране, что отразилось на его интересах и взглядах. Получив скромное образование (местная школа и год учебы в гимназии), Вазов целиком отдается литературе и проявляет живой интерес к общественным событиям. В 1876 году, спасаясь от преследования турецких властей, он эмигрирует в Румынию, и вскоре в Бухаресте выходят первые сборники его стихов — «Знамя и гусла» и «Печали Болгарии». В них запечатлено воодушевление болгар в канун знаменитого Апрельского восстания 1876 года и передана глубокая драма народа в дни его кровавого подавления. После освобождения Болгарии Иван Вазов посвящает борцам за свободу цикл лиро-эпических поэм «Эпопея забытых»; высокие нравственные принципы, мужество и героизм болгар он прославляет в поэмах «Громада» и «Загорка». Событиям национально-освободительной борьбы в Болгарии посвящено и наиболее известное произведение Вазова — роман «Под игом», написанный в конце 80-х годов в России (см. 70-й том БВЛ).
В 80-е годы Иван Вазов выступает с рядом новых поэтических сборников — «Гусла», «Поля и леса», «Сливница», где воспоминания о прошлом перемежаются со скорбными размышлениями о настоящем. Лирического героя отталкивает та новая буржуазная действительность, в которой «звон металла» начинает играть определяющую роль. В сборниках «Песни скитальца» (1899), «Под нашим небом» (1900) с большой силой звучит тема закрепощения труда и социального угнетения. Реалистическая поэзия Вазова наполняется идеями гуманизма, чувством глубокого уважения к простым труженикам, в ней усиливаются сатирические мотивы, осуждение реакции.
В поисках светлого начала поэт нередко обращается к изображению природы родной страны — таковы циклы «На Коме», «Родопы», «Горизонты Пловдива». Стихотворения последних сборников поэта «Июльский букет» (1917), «Заблагоухала моя сирень» (1919) — это элегические воспоминания о любви, которая облагораживает и очищает человека. Поэт достигает необыкновенной простоты, легкости и прозрачности стиха, живости и выразительности поэтического языка.
Поэт глубоко национальный по своему духовному складу, по выразительным средствам, Вазов вместе с тем широко использовал опыт русской поэзии — Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Через всю жизнь он пронес глубокую любовь к русской культуре и литературе, а в своих произведениях передал сокровенные чувства любви болгар к русскому народу.
Демократическое и патриотическое наследие Ивана Вазова стало неотъемлемой частью национальной культуры Болгарии.
РОССИЯ! (Отрывок). Перевод Н. Тихонова.
…Повсюду там, где вздох суровый,
Где неутешно плачут вдовы,
Где цепи тяжкие влекут,
Ручьи кровавые текут,
И узник-мученик томится,
И обесчещены девицы,
И рубища сирот сквозят,
И старики в крови лежат,
И в прахе церкви, села в ранах
И кости тлеют на полянах,
У Тунджи, Тимока и Вита,
Где смотрит жалкий раб забитый
На север, среди темных бед,—
По всей Болгарии сейчас
Одно лишь слово есть у нас,
И стон один, и клич: Россия!
Россия! Свято нам оно,
То имя милое, родное.
Оно, во мраке огневое,
Для нас надеждою полно.
Напоминает нам, скорбящим,
Что, всем забыты миром, мы
Любовью сладостной, хранящей
Озарены средь нашей тьмы.
Земля великая, Россия,
Всей ширью, светом, мощью ты
С небесной только схожа синью,
С душою русской широты.
Там все моленья наши слышат,
И в нынешний печальный час
Восьмидесяти мильонов дышат
Сердца, волнуяся за нас.
О, скоро нам свою протянет
Могучую десницу брат,
И кровь поганых литься станет,
Балканы старые взгремят.
И вот Камчатки ветер дикий
И гневной Балтики ветра
Сошлись в единый шквал — и крики
Слились в единое — «ура!».
О, здравствуй, Русь, в красе и мощи,
Мир вздрогнет, услыхав тебя;
Приди, царица полуночи,
Зовем тебя, зовем любя.
Народ зовет единокровный,
И час настал — к своим приди,
Что предназначено, исполни,
Завет великий воплоти!
Ведь ты для нас славнее славных,
Тебе на свете нету равных,
Вместила в ширь границ своих
Народы, царства, океаны,
Не обозреть пространства их.
Сам бог хранил от силы вражьей
Тебя, стоящую на страже,
Тебя, восставшую крушить
Мамая орды, Бонапарта;
Умеешь ты врага страшить,
Лишь на твою он взглянет карту.
И мы тебя зовем святой,
И, как сыны, тебя мы любим,
И ждем тебя мы, как Мессию,—
Ждем, потому что ты Россия!
22 Ноября 1876 Г.
НЕ ПОГАСИТЬ ТОГО, ЧТО НЕ ГАСНЕТ. Перевод М. Зенкевича.
Нам солнце светит благодатней,
Когда ненастье прояснится,
Но луч его еще приятней,
Когда проникнет в щель темницы.
Путь кораблю найти поможет
И звездочка средь ночи темной,
А искра маленькая может
Порой разжечь пожар огромный.
Гус на костре сожжен, но пламя
Ночь мировую осветило,
И ярче темными ночами
Сверкает грозных молний сила.
Того, что никогда не гаснет,
Не погасить вам, о тираны!
Гонимый вами свет ужасней
Вас поразит огнем вулкана!
Здесь все мгновенно, скоротечно —
Те, что живут, и те, что жили.
Престолы, царства, вы — не вечны,
И черви вас съедят в могиле.
Лишь вечен свет один нетленный
В огромной мировой пустыне.
Наш мир возник с ним во вселенной
И с ним не пропадет, не сгинет.
Во мраке он горит светлее,—
Его не погасить могилой,
И свет, убитый в Прометее,
Горит в Вольтере с новой силой.
И если солнце вдруг сегодня
Исчезнет и светить не будет,
То кто-нибудь из преисподней
Огонь для света нам добудет!
ДВА БУКА. Перевод М. Павловой.
Я видел в лесу два обнявшихся бука.
Казалось, их сблизил желания жар,—
Как двое влюбленных, без слова, без звука,
Веками вкушают любовный нектар.
«О буки! — решился деревьям сказать я.—
Вы делите радость и тяжесть невзгод.
Гроза не расторгнет такого объятья,
И смерть поцелуев таких не прервет.
Завидная доля любви бесконечной,
Скрепленной всей силою дружеских уз…
Но что ее сделало верной и вечной
И что укрепило ваш прочный союз?
Что тут помогло: колдовство, иль венчанье,
Иль страстные клятвы? Ответьте же мне!»
Презрительно буки хранили молчанье,
Лишь ветви теснее сплелись в вышине.
ВЫ БЫ ПОГЛЯДЕЛИ! Перевод В. Луговского.
Всюду я встречаюсь с неизбывным криком,
Он мутит мне душу, в плоть мою проник он.
Всюду — на дороге, в хижине, в корчме ли —
Беспросветность горя тлеет в стоне диком:
«Вы бы поглядели!»
В хатах дым и копоть. Облик невеселый.
Воздух, как в темнице, — смрадный и тяжелый…
Здесь в лохмотьях грязных на немытом теле
Спят вповалку люди на земле на голой:
«Вы бы поглядели!»
Здесь царят неволя, горе, бедность злая,
В очаге лепешка корчится ржаная;
Здесь в морщинах лица, души отупели;
Дети с колыбели чахнут, увядая…
«Вы бы поглядели!»
Безысходность рабства, мерзость запустенья,
Вкруг навозной кучи сорные растенья;
Радости витают далеко отселе,
Вместо них недугов смертных наважденье…
«Вы бы поглядели!»
Бедность вековая, тяжкая работа,
Вечная работа — до седьмого пота;
Радостные песни нынче онемели,
Нищета заела — горе и забота:
«Вы бы поглядели!»
Здесь под бедным кровом меркнет луч сознанья,
Здесь затменье мысли, жизни угасанье;
Люди здесь поникли, волей оскудели,
Всюду воцарилось злое прозябанье…
«Вы бы поглядели!»
«Вы бы к нам, несчастным, заглянули, может,
Вскормленные нами мудрые вельможи!
Ваши пересуды вам не надоели?
Вас дурные мысли ночью не тревожат?
Вы бы поглядели!»
«Мы зовем к нам в гости сытых и богатых,
Весело живущих в расписных палатах.
Вот когда бы к нам вы заглянуть посмели,
Страшно б испугались вы за свой достаток!
Вы бы поглядели!»
«Вспомнив о мужицкой горестной судьбине,
Вы бы позабыли о своей гордыне
И сердца бы ваши вправду заболели,
Хоть такого в жизни не было поныне…
Вы бы поглядели!»
МОИ ПЕСНИ. Перевод М. Зенкевича.
И я уйду, когда мой час настанет,
И надо мною вырастет трава,
И кто добром, кто злом меня помянет,—
Но песнь моя останется жива.
Имен немало с легкою их славой
Безжалостные годы в прах сотрут,
Их заглушат забвеньем плесень, травы,—
Мои ж стихи и песни не умрут.
Призыв в них слышен к правде и свободе,
В них чувства добрые, любовь и труд,
И отражен в них светлый лик природы,—
Мои стихи и песни не умрут.
В них дуновение Балканских кряжей,
Напевы гор гармонией живут,
В них слышен гром народной славы нашей,
Мои стихи и песни не умрут.
Ведь в них всю душу я излил всецело,
С ее цветами, жемчугом, до дна,
И в них живет все, чем она горела,
И в них трепещет и звенит она.
Меня не тронет злобный вой нестройный
И зависти и ненависти гнев,
И в будущее я гляжу спокойно,—
К нему дойдет моих стихов напев.
В них отражен болгарский дух народный,
А он бессмертен так же, как народ,
И будет жить в веках наш край свободный,—
И песнь моя в народе не умрет!
СТОЯН МИХАЙЛОВСКИЙ.
Стоян Михайловский (1856–1927). — Родился в семье видного болгарского просветителя и педагога. Среднее образование он получил в константинопольском лицее, а высшее — юридическое — во Франции. Был адвокатом, судьей, преподавателем Высшей школы (университета); активно участвовал в общественной жизни как публицист и редактор газет. Идеологические позиции С. Михайловского не отличались устойчивостью; в первый период деятельности он был ближе к демократическим и прогрессивным кругам, а перед Балканскими войнами и в 20-е годы он смыкается с реакцией и впадает в религиозный мистицизм.
В литературе для С. Михайловского наиболее плодотворными были 90-е и начало 900-х годов. Характерные жанры, в которых выступает поэт, — басня, философские и сатирические сонеты, сатирическая поэма. Реалистической поэзии Михайловского присущи строгость формы, афористичность выражения мысли, ритмическая четкость стиха. Широкую известность приобрели его басни, в которых осмеиваются самодовольство обывателя, тщеславие, кичливость и беспринципность. Разящей сатирой на деспотический режим буржуазной Болгарии явилась поэма Михайловского «Книга о болгарском народе» (1897). В цикле стихотворений «Пролог к книге рабов» (1900) и в драматической поэме «Точильщик» (1902) поэт обращается к «невольным беднякам», призывая их разрушить мир насилия и тирании во имя светлого будущего. Написанный С. Михайловским в 1892 году «школьный гимн» «Кирилл и Мефодий», посвященный создателям славянской письменности, приобрел широчайшую популярность и поныне исполняется в качестве гимна 24 мая — в День славянской письменности и культуры, который отмечается в Болгарии как национальный праздник.
ЛЕОКРОКОТ. Перевод В. Корчагина.
Я был мальчишкою тогда. И наш учитель школьный
О чудище поведал нам, о злом Леокрокоте:
Мол, в душу каждого сей зверь вселил бы страх невольный,
Но он — за тридевять земель, лишь там его найдете;
Леокрокот есть помесь льва с шакалом иль с гиеной,
На белом свете твари нет отвратней и опасней…
Однако то, что нам внушал чудак наш вдохновенный,
Мне показалось им самим придуманною басней.
…Я вырос. Я в краю родном встречал мужей державных —
Тех проходимцев, тех дельцов, столь злых, сколь и могучих
Что падки до расправ, до зверств — как тайных, так и явных,
Что, власть и роскошь раздобыв из слез людских горючих
Свой окровавленный топор отождествляют с властью…
И понял я: Леокрокот — не выдумка, к несчастью!
ФИЛИН И СВЕТЛЯЧОК. Перевод С. Михалкова.
В глухой ночи, как яркий ночничок,
Меж трав и меж цветов светился Светлячок.
(Печальный же удел ему достался!)
Заметил Филин Светлячка, за ним погнался
Н в когти хищные схватил.
«Что сделал я тебе?» — «А ты не догадался?
Ты мне мешал!» — «Да чем же?» — «Ты светил!..»
Был ясен приговор, и суд недолго длился.
Наш Светлячок угас, в потусторонний мир переселился…
Точнее говоря, чтоб завершить рассказ,
Он в брюхе Филина, бедняжка, очутился!
ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ.
Пенчо Славейков (1866–1912). — Один из крупнейших писателей Болгарии конца XIX — начала XX века. Талантливый поэт и переводчик, взыскательный критик и тонкий ценитель народного творчества — таким он остался в сознании нескольких поколений болгарских читателей.
Родился Славейков в семье видного общественного деятеля и поэта Петко Славейкова. Гуманизм и демократические убеждения были основой мировоззрения будущего поэта. Когда юноше шел восемнадцатый год, он тяжело заболел: сильная простуда вызвала паралич, и Славейков оказался прикованным к постели на несколько лет. В домашних условиях он завершил гимназическое образование, много лет занимался литературой. По собственному признанию писателя, Тургенев и Короленко помогли ему преодолеть духовный кризис, вызванный недугом.
В 1892 году Славейков как государственный стипендиат уезжает в Лейпциг, где занимается философией, литературой и изучает западные языки. В Германии он провел шесть лет, и здесь окончательно сложились его литературные взгляды. В нем причудливо уживались противоречивые тенденции: он увлекался философией Ницше и отдал явную дань эстетству; вместе с тем он прокладывал новые пути в реалистическом искусстве и был непримиримым врагом всякой литературной посредственности и официоза.
После возвращения на родину Славейков издавал литературный журнал «Мысль», работал в Народной библиотеке, был директором Народного театра в Софии (1908–1909). За публичное выступление против реакционного славянского съезда в 1910 году он был уволен с должности директора Народной библиотеки и, преследуемый властями, вынужден был уехать в Италию. Там, на чужбине, поэт и скончался.
Богато и разнообразно литературное наследие П. Славейкова. К числу значительных его произведений относятся сборники стихотворений и поэм — «Эпические песни» (1896), «Мечты» (1898), «Сон о счастье» (1907), «На острове блаженных» (1910). Незавершенным осталось эпическое произведение о национально-освободительной борьбе — «Кровавая песня», над которым поэт работал около двух десятилетий. В ряде произведений он поэтизирует жизнь болгарских тружеников и сурово осуждает сильных мира сего.
«Желтые, сухие листья…». Перевод М. Петровых.
Желтые, сухие листья
Сбросил наземь вихрь осенний.
По сухой листве брожу
Средь лесов, лишенных тени.
Шепот облетевших листьев
Средь лесов, лишенных тени,
Я пойму, когда меня
Сбросит наземь вихрь осенний.
CIS MOLL. Перевод А. Ахматовой.
So pocht das Schicksal an die Pforte.
Beethoven[57].
Он занавеску отстранил рукой
И тихо стал перед окном раскрытым.
Ночь летняя таинственна была
И веяла дыханием усталым,
А рой мерцающих на небе звезд
Сиянье проливал над миром сонным
И вел какой-то разговор невнятный
С разбуженными ветками в саду.
Ночь ясною была, но мрак зловещий
Сгущался у Бетховена в душе —
Сквозь этот мрак он ничего не видел.
Он тихо отвернулся от окна,
В раздумии по комнате прошелся
И у открытого рояля сел.
Мелодия взлетела бурным вихрем
И, дрогнув, оборвалась. Руки он
Вдруг опустил и побледнел смертельно.
Зловещие, безрадостные мысли
Вспорхнули на мгновенье черным роем,
Как вспархивают искры из-под пепла,
Когда разрыта груда жарких углей.
«Все для меня окончено навек!
Ослепший не увидит света солнца,
И лишь затем блуждает он во тьме,
Чтоб каждый миг испытывать весь ужас
При мысли о потерянных мирах.
Слепой! Отныне для меня погасли
Лучи светила вместе со звучаньем
Музыки… А всегда они одни
И жизнь давали духу моему,
И свет высокий чувствам горделивым.
Я жил один — и вот себя я вижу
При жизни мертвецом. Другие люди
Живут гармонией моих творений,
А я по их вине навеки глух.
И призрак участи моей жестокой
Преследует меня неумолимо
Своим холодным и зловещим смехом:
„Творец гармонии — ты сам глухой!“
И сердце просит мира и покоя,
Покоя под землей. У двери гроба
Судьба не будет ни стучать, ни звать».
Тень смерти над художником витала,
И холодом пахнуло на него,
Но гений и души его хранитель
Отвел удар… И вот Бетховен встал,
И поднял голову, и хмуро глянул
Через окно на звездный небосвод.
«Так близок мой покой! Но сердце жаждет
Такого ли покоя? Избавленья?
Покоя в смерти? Или малодушье
О нем мне шепчет льстивым голоском?
Где ж гордое сознание, что есть
Величье в человеческом несчастье?!
Да, ты слепой! Гомер был тоже слеп,
Но в слепоте своей яснее зрячих
Он все, что было тайным, увидал.
Так, значит, не в зрачках таится зренье,
А в сокровеннейшей святыне сердца.
И я оттуда слышу отзвук чудный,—
Быть может, стонет так душевный хаос?
Рыданье ли то сердца моего
Иль первый трепет мыслей неизвестных,
Но гордых, зародившихся во мраке,
Которым бог назначил новый путь?..
Нет! Нет! Он жив, тот всемогущий дух,
А с ним и я в искусстве существую…
Утрата одного лишь только слуха
Не может уничтожить идеал,
Поддержанный тем Слухом Высочайшим.
Через него я ощущаю пульс
Всей буйной жизни естества земного.
Не он ли в сердце у меня трепещет?
Не оттого ль оно страдает так?
Вся жизнь его в мучениях тяжелых…
Лишь в тайном этом слухе обрету
Для новых чувств неслыханные звуки,
Чтобы искусство ими обновить…»
Так вот какой достигла высоты
Великая душа в великой скорби!
И, унесен взлелеянной мечтой
В ее полет, он за свое творенье
Заброшенное снова принялся.
И все забыл, и всех забыл на свете.
В гармонии, и дивной и могучей,
Столкнулись звуки стройно и слились
В мятежный рой, летящий с новым роем,
Как языки пожара. И от них
Горячим вновь повеяло дыханьем…
А смертные оковы, что душа
Отбросила так гордо, чуть звенели
Мучительно, как отзвук дальней бури,
И где-то замирали вдалеке…
В могучем хоре молодого гимна
Дыхание высокого покоя
Затрепетало — гордый дух воскрес.
И в забытьи Бетховен не заметил,
Как в комнату его вошел неслышно
Один из молодых учеников
И, пораженный звуками рояля,
Остановился. Страшные сомненья
В его уме смущенном зароились:
«Я слышу, как рычит голодный лев!
Откуда эти звуки? Как возникли?
Не в приступе ли мрачного безумья?
А может быть, забыв звучанье мира,
Он потерял и память стройных форм?
Безумец, уж не думает ли он
Мир заглушить рычаньем громовым
И дать музыке новые законы?»
А тайное сознание шептало
Бетховену: «Не проклинай судьбу,
Тебе особый дан удел… Ты взял
С небес огонь страдальца Прометея,
Чтобы его возжечь в сердцах людей
И этим их, горящие, возвысить.
Ты не исчезнешь — ты в людских сердцах
Бессмертие познаешь в смертном мире».
ПОЭТ[58]. Перевод В. Луговского.
[58].
В последний день с оружием в руках
Взят на Балканах, — пред судом суровым
Предстал боец, испытанный в боях,
И обратился он с последним словом:
«Хотите знать вы, кто я? Что ж, опять
Посмею я назвать себя поэтом.
Да, я восстал, — не мог я не восстать,
Готов я вновь сказать суду об этом!
Люблю родных полей услады все,
Земных плодов, земных цветов дыханье;
Люблю листву в предутренней росе,
Вечернее люблю благоуханье.
Гляжу и наглядеться но могу
На наши нивы после зимней дремы:
Внимаю певчим птицам на лугу,
Их голоса мне с детских лет знакомы!
Как я внимал свободным песням их,
Как сладостно весной они певали!
Ни от меня, ни от друзей моих
Вы этих песен счастья не слыхали!
Согрел их луч небесного тепла,
В их сердце дал он вызреть песням новым.
И каждая созрела и взошла,
Как зреют зерна под земным покровом!
Но солнце не сияло для меня,
Во мраке жили все мои собратья…
И я к щеке прижал приклад ружья,
Для сердца свет хотел отвоевать я,
Чтоб песнь, что солнце в сердце породит,
Могла бы, радость сея, разноситься;
Чтоб пел поэт — как небо нам велит —
Свободно, как поют на воле птицы…»
Был вынесен короткий приговор,
И на заре повстанец был повешен,
Холодный ветер крылья распростер
Над полем — и метался, безутешен.
Захлестнута безжалостной петлей,
Ветвь скрипнула — и листья онемели…
Не шелохнется липа над рекой,
На ней давно умолкли птичьи трели.
НЕРАЗЛУЧНЫЕ. Перевод М. Павловой.
На холме Калина гнется то налево, то направо,
С ее ветками сплетает свои ветки Клен кудрявый.
Я свернул с дороги пыльной, чтоб в тени набраться силы,
И тогда-то мне Калина тайну горькую открыла.
И печальный шепот листьев долго слушал, замирая:
«Ах, на этом свете лживом юной девушкой была я!
Как теперь, мне это солнце с неба ласково сияло,
Но еще другое солнце мою душу согревало.
Не на дальнем небосклоне для меня оно всходило,—
Из соседского оконца улыбалось то светило:
Днем и вечером оттуда на меня глядел мой Иво.
Он мне пел, и эти песни до сих пор я помню живо:
„Моя любушка-голубка, не горюй, что нет нам счастья,
Что родители суровы, не хотят давать согласья.
Сердце верное не дрогнет, — что ему тоска и мука?
Коль сердца так крепко любят, то и смерть им не разлука!“
Было сладко слушать речи, горько слезы лить над ними…
Видно, нам соединиться не судил господь живыми!
Как-то матушка к колодцу меня по воду послала.
Возвращаюсь я и вижу: вся деревня прибежала.
Люди хмурые стояли у ворот, где жил мой Иво.
Вдруг я слышу: „Вот бедняга! Как он кончил несчастливо!
Прямо в сердце нож вонзился… Голова на грудь повисла…“
Тут я вздрогнула и наземь уронила коромысло.
Сквозь толпу рванулась с криком и на миг окаменела:
Весь в крови лежал мой Иво, страшный нож торчал из тела…
Вырвала я нож из сердца, молча в грудь свою вонзила,
На него упала мертвой и руками обхватила!
Пусть отец и мать узнают, пусть узнает вся округа,
Что и мертвые, как прежде, крепко любим мы друг друга.
И недаром нас, прохожий, не на кладбище зарыли,—
Только те, кто мертв, как камень, спят в кладбищенской могиле.
На холме нас схоронили, там стоим мы над долиной:
Иво стал кудрявым Кленом, я зеленою Калиной.
Он меня ветвями обнял, — наши ветви, словно руки…
Для сердец, что верно любят, даже в смерти нет разлуки!..»
Долго я сидел и слушал, грустной повестью задетый,
И все то, что я услышал, рассказал вам в песне этой.
КИРИЛЛ ХРИСТОВ.
Кирилл Христов (1875–1944). — Видный поэт, очень противоречивый и неровный в своем творчестве.
Родился в городе Старой Загоре, учился в гимназии, непродолжительное время был в морской школе в Триесте, затем изучал юриспруденцию в Брюсселе, занимался литературой в Неаполе, Берлине, Париже. В Болгарии был учителем, чиновником в Народной библиотеке, профессором литературы в Софийском университете. С 1923 по 1930 год К. Христов преподавал болгарский язык и литературу в Лейпцигском университете, а затем и Карловом университете в Праге. В 1938 году он возвратился на родину.
В печати поэт выступил в начале 90-х годов. В юности испытал влияние социалистических идей. Переводил с увлечением Надсона и Плещеева. Первые сборники стихов «Песни и вздохи» (1896) и «Трепеты» (1897) принесли молодому поэту широкую известность. За ними последовали новые издания — «Вечерние тени», «На перекрестке», а в 1903 году уже выходят «Избранные стихотворения» К. Христова с предисловием самого авторитетного в то время писателя — И. Вазова. И. Вазов отмечал изящество образов и ритмов у молодого поэта, его умение передать сильные чувства и страсти. К этому периоду относится все наиболее денное, созданное К. Христовым в болгарской литературе. Дальше творческий путь его идет по нисходящей линии. Утратив связь с прогрессивными силами, поэт пережил идейно-художественный кризис, испытал влияние модернизма, а в годы первой мировой воины стал певцом националистических интересов правящих кругов.
СОНЕТ. «Блажен, кто и по смерти жив для мира…». Перевод А. Тарковского.
Блажен, кто и по смерти жив для мира,
Чья память в землю с прахом не сошла,
Кто завещал бессмертные дела,
Уйдя в разгаре жизненного пира.
Блажен, кого по смерти славит лира
Народная, кто сжег себя дотла,
Чья воля всем соблазнам предпочла
Служенье правде и отчизне сирой.
Смерть тяжела тому, кто, не любя
Земли родной, жил только для себя:
О мертвом слова доброго не скажем.
В последний миг поймет он, что его
Навеки смерть оставит одного
Не под холмом — под целым горным кряжем.
УТРО НА БЕРЕГУ МОРЯ. Перевод П. Семынина.
Погасли звезды в брызгах изумрудных,
Встает светило где-то далеко,
И паруса рыбачьих лодок утлых
В лучах, как бабочки, скользят легко.
Лежащий навзничь, показался день,—
Он словно борется еще с дремотой…
Про путь ночной рассказывает что-то
Волна скале, со лба отершей тень.
ЭЙ, К НАМ ВЕСНА ИДЕТ! Перевод А. Тарковского.
Эй, к нам весна идет! Туманы вьются…
Куда их, к черту, тащит вихрь шальной!
Глянь: на горах уже рубашки рвутся.
Эй, к нам весна идет, в наш край родной!
Снег прободали стрелки листьев нежных.
Спеши, гонец весны, не то другой
Тебя еще опередит подснежник.
Эй, к нам весна идет, в наш край родной!
Весна идет! Хэш[59] распрямляет спину
И говорит: «Куда, корчмарь? Постой!
А ну, попотчуй, висельник, дружину!..»
Эй, к нам весна идет, в наш край родной!
Отряд бредет… Еще речные воды
Черны и лес не приодет весной.
Что за беда! Вперед, гонцы свободы!
Эй, к нам весна идет, в наш край родной!
ПЕЙО ЯВОРОВ.
Пейо Яворов (1878–1914). — Выдающийся поэт, творчество которого отличается большой психологической глубиной и острой драматичностью.
Яворов (его настоящая фамилия Крачолов) родился в семье мелкого торговца. Из-за материальных трудностей вынужден был оставить учебу, работал телеграфистом. С середины 90-х годов стал печататься в разных литературных изданиях и вскоре обратил на себя внимание многих крупных писателей и критиков. В 1900 году П. Яворов переезжает в Софию и целиком отдается литературной и общественной деятельности. Он редактировал революционные газеты «Дело», «Свобода или смерть», сблизился с руководителями национально-освободительного движения в Македонии и сам принял непосредственное участие в этом движении. На основе этих впечатлений возникли его воспоминания «Гайдуцкие мечты», биографический очерк «Гоце Делчев», публицистические статьи. Подавление Илинденского восстания 1903 года вызвало у поэта глубокий духовный и творческий кризис.
Лирика П. Яворова конца 90-х годов и начала 900-х годов — это высшее достижение болгарской социальной поэзии на рубеже веков. В ней воплощена трагическая участь болгарских крестьян, преклонение перед титанической силой народа, боль и сострадание к униженным и угнетенным. Вместе с тем Яворов создал замечательные образцы интимной лирики. Поэт широко использует народно-песенные национальные мотивы, достигает виртуозности формы, а стих его приобретает музыкальное звучание. Иван Вазов назвал Яворова «певцом откровений человеческой души» и «вдохновенным художником-ваятелем болгарской поэтической речи». Его первый сборник «Стихотворения» выдержал два издания — в 1901 и 1904 годах.
После подавления национально-освободительного движения в Македонии П. Яворов работал в Народной библиотеке, в софийском Народном театре. Второй сборник поэта, «Бессонница» (1907), передает идейное и творческое смятение Яворова. Сам сборник знаменует собой начало символизма в болгарской литературе. Однако поэт не порывает полностью с реалистическими традициями. Мотив сострадания и любви к человеку, протест против засилья реакции, облеченные в иные формы, и теперь звучат в его стихах. Трагическая судьба личности, жаждущей добра и света, нашла воплощение и в драме Яворова «У подножия Витоши» (1911) — одном из наиболее значительных произведений болгарской драматургии. В эти годы поэт пережил и личную трагедию — покончила с собой его жена. Оказавшись в непримиримом конфликте со средой, П. Яворов кончает жизнь самоубийством.
АРМЯНЕ[60]. Перевод М. Зенкевича.
[60].
Изгнанники, жалкий обломок ничтожный
Народа, который все муки постиг,
И дети отчизны, рабыни тревожной,
Чей жертвенный подвиг безмерно велик,—
В краю, им чужом, от родного далеко,
В землянке, худые и бледные, пьют,
А сердце у каждого ноет жестоко;
Поют они хором, сквозь слезы поют.
И пьют они, чтобы забыть в опьяненье
О прошлом, о том, что их ждет впереди,—
Вино им дает хоть на время забвенье,
И боль утихает в разбитой груди.
Шумит в голове, все покрылось туманом,
Исчезнул отчизны страдальческий лик;
К ее сыновьям, в омрачении пьяном,
Уже не доходит о помощи крик.
Как зверем голодным гонимое стадо,
Рассеялись всюду в краю, им чужом,—
Тиран-кровопийца, разя без пощады,
Им всем угрожает кровавым мечом.
Родимый их край превратился в пустыню,
Сожжен и разрушен отеческий кров,
И, беженцы, бродят они по чужбине,—
Один лишь кабак приютить их готов!
Поют они… Льется их буйная песня,
Как будто бы кровью исходят сердца,
И давит их ярость, им душно и тесно,
В душе у них — горе и гнев без конца.
Сердца угнетенных наполнены гневом,
В огне их рассудок, а взоры в слезах,
И льется их песня широким напевом,
И молнии мести сверкают в глазах.
И зимняя буря, их пению вторя,
Бушует, и воет, и дико ревет,
И вихрем бунтарскую песню в просторе
Далеко по белому свету несет.
Зловещее небо насупилось мглистей,
И все холоднее студеная ночь,
А песня все пламенней, все голосистей.
И буря ревет, голосит во всю мочь…
И пьют… и поют… То обломок ничтожный
Народа, который все муки постиг,
То дети отчизны, рабыни тревожной,
Чей жертвенный подвиг безмерно велик.
Босые и рваные, в тяжкой разлуке
С отчизной далекой, вино они пьют,
Стремясь позабыть все несчастья и муки,—
Поют они хором, сквозь слезы поют!
ГАЙДУЦКИЕ ПЕСНИ. Перевод М. Павловой.
I.
День я днюю по местам укромным,
Ночь ночую по дорогам темным.
Нету батьки, нету мамки,—
Батьки, чтоб наставить,
Мамки — в путь отправить…
Гой вы, горы,
Ты, Пирин-планина!
Гой вы, черны
Цареградски вина!
С кем враждую — меру дам за меру,
С кем дружу я — веру дам за веру.
Нету ни сестры, ни брата —
Брата, чтоб гордиться,
Сестры, чтоб проститься…
Гой ты, сабля
Вострая, лихая!
Гой ты, водка
Лютая, хмельная!
Бог на небе — пусть себе богует.
Царь на троне — век ли пролютует?
Нету милой, нету любы,—
Чтоб ждала-скучала,
Обо мне рыдала…
Гей, винтовка
Моя, огнеметка!
Гей, подружка,
Солуньска молодка!
II.
Ой, кабы, люба, да были
Червонным золотом чистым
Твои ли русые косы…
Их на коня бы, любушка, право,
Тотчас сменял я;
С ним бы ораву
Турок проклятых прогнал я!
Ой, кабы, люба, да были
Двумя алмазами, люба,
Твои ли черные очи…
Их на ружье бы, любушка, право,
Тотчас сменял я;
С ним бы на славу
Турок стрелял я!
Ой, кабы, люба, да были
Жемчужным чудным монистом
Твои ли белые зубки…
Их на саблю, любушка, право,
Тотчас сменял я,
Ею б на славу
Турок сражал я!
III.
Темный наш лес — засада,
Гей ты, ружье-кремневка,
Люди идут с базара,
Едет надутый Лазо;
Дерево лист уронит,
Пуля Лазо догонит,
Воевода.
«Люди идут с базара,
Едет надутый Лазо;
Дерево лист уронит —
Плохая примета.
Пуля Лазо догонит,
Сживет со света…
Огонь чело мне сжигает,
Мука мне душу терзает,
Дружина».
Зуб за зуб, око за око,
Эх, верная клятва гайдука.
Знают Лазо повсюду,
Кровавого ката, иуду;
Зуб за зуб, мука за муку —
Таков обычай гайдука,
Воевода.
«Знают Лазо повсюду,
Кровавого ката, иуду,
Зуб за зуб, мука за муку,
За смерти!
Таков обычай гайдука
Навеки…
Да жаль мне бедную пташку,
Лазову дочку, бедняжку,
Дружина».
IV.
Сон мне снился, ой, не радость,
Проклятая младость,
Холм могильный, холм песчаный
Под листвой увялой.
На могиле, ой, не радость,
Проклятая младость,
Крест юнацкий деревянный,
На нем птенчик малый.
Рано утром, ой, не радость,
Проклятая младость,
Он поет, как в жизни трудной
Сирота скитался.
А под вечер, ой, не радость,
Проклятая младость,
Он поет, как воин юный
С жизнью расставался.
Сон мне снился, ой, не радость,
Проклятая младость,
Сон зловещий, сон нелживый —
Мой холм сиротливый…
ВОЛШЕБНИЦА. Перевод В. Соколова.
Душа моя — смиренная рабыня,
Твоей душой плененная. Отныне
Душа моя в твои глаза глядит,
Она тебя смиренно заклинает
И молит, молит. Год за годом тает…
Твоя душа-волшебница молчит.
Моя душа томится жгучей жаждой,
Но все молчит в ответ на зов мой каждый
Твоя душа, дитя и божество…
Твои глаза молчат…
Не отвечает
Душа твоя.
Ужель ее смущает
Волшебное свое же торжество?
ВЕНГРИЯ.
МИХАЙ ВИТЕЗ ЧОКОНАИ. Перевод Н. Чуковского.
Михай Витез Чоконаи (1773–1805). — Один из крупнейших и разностороннейших венгерских поэтов. Автор лирических стихов, ирони-комических и эпических поэм, антидворянских сатирических комедий, трактатов по стихосложению. Поклонник Гольбаха, Руссо, Вольтера, он сочинял стихотворения любовно-анакреонтические и философские, навеянные идеями о естественном равенстве людей. Стилевые традиции рококо, сентиментализма, петраркизма сплавлялись у него со школярско-плебейскими и фольклорными мотивами. Вынужденный вести полунищую скитальческую жизнь, он отлично знал народную поэзию и стал одним из первых писать стихи в народно-песенном духе.
ВЕЧЕР.
Уходит солнца шар средь блеска и сиянья
В распахнутую дверь ущерба, увяданья;
Горячие лучи бледнеют, умирая,
Свой жар за горизонт багряный погружая,
И гаснут в вышине на золоченых тучах.
И вечер на крылах прохладных и могучих
Летит с улыбкою, летит, роняя росы,
Как сладостный бальзам, в раскрывшиеся розы.
Пичуги малые, в остывших сидя гнездах,
Печальной жалобой тревожат сонный воздух,
И плачет соловей, и плачет, и рыдает,
И жаворонка трель все выше улетает.
В пору забрался волк и дремлет, а в берлоге
Испуганный медведь ревет, рычит в тревоге.
Придите, вечера, дохнув очарованьем,
Наполните, летя, мой слух своим звучаньем,
Пусть душу скорбную ваш тихий ветер тронет,
Утешит нежностью и горечи схоронит.
Зефиры легкие, летите, вейте, вейте,
Веселье, радость, жизнь мне в душу щедро лейте!
И вот уж окружен я ветерком крылатым,
Он дышит мне в лицо небесным ароматом,
На радость грациям, широкий, шелестящий,
Какие игры он устраивает в чаще,
Как он колеблет гор далеких очертанья,
Едва заметные сквозь лунное сиянье,
Как, сумрак шевеля, он открывает дали
Для грусти сладостной, для радостной печали!
Не торопись, о ночь, с угрюмыми часами
И радость не гони холодными крылами,
Мне отдыха не даст безмолвие ночное,
Ничто моей душе не принесет покоя.
Наш мир, он для меня, признаться, слишком шумен,
Крик чванных и скупых неистов и безумен,
Все люди вкруг меня от злобы и испуга
Вопят, как пьяные, галдят, давя друг друга.
Род человеческий, безумный, бестолковый,
Зачем ты сам себе, скажи, надел оковы?
Земля-кормилица, она была твоею,
А ныне лишь скупец, гордец владеет ею.
Зачем, разгородив простор полей межами,
Посеял ты раздор, разлад меж сыновьями?
Везде «твое», «мое». Насколько было краше,
Когда про все кругом могли сказать мы: «наше».
Был век, когда земля для всех плодоносила,
Принадлежала всем и щедро всех кормила,
И войны хищные в безумном исступленье
Народы не влекли на смерть, на истребленье.
Законом бедняки тогда не презирались,
Все были равными, все в равенстве рождались,
И пограничный столб, и веха межевая,
Твердящая нам всем, что здесь земля — чужая,
Не нарушали встарь ни дружества, ни братства,
Людей не гнали прочь от общего богатства.
И баре чванные, украсив дом гербами,
Не правили еще безгласными рабами
И не лишали их последней корки малой,
Чтобы паштетами наесться до отвала.
Не правили цари десятками мильонов,
Не драли шкуру с них при помощи законов,
Не разоряли их во имя самовластья,
Лишая их гнезда, уюта, жизни, счастья.
Скупец тогда еще не прятался от взора,
Не избегал людей, чтоб деньги скрыть от вора,
Который воровать у них же научился,
Ибо никто на свет воришкой не родился.
Чему дивиться тут, когда в полях зеленых,
Куда ни глянь — межа, столбы границ на склонах,
И даже вольный лес весь окружен оградой,
Чтоб дикий зверь, и тот был барскою усладой,
Когда заборами обнесены и реки,
Чтоб их от бедняков отгородить навеки!
О зарево зари, о ясное сиянье!
Лишь ты одно пока ничье не достоянье.
О ветер сладостный, о воздух животворный!
Лишь ты один ничей, привольный и просторный.
Заката музыка, греми! Твоим фанфарам
Все сыновья земли еще внимают даром.
Шуми, широкий лес! В зеленые чертоги
И свинопас придет, и землекоп убогий,
И праздник радостный, услады даровые
Для них устроят мир и все его стихии.
Природа милая, тебе одной я внемлю,
Ты подарила мне и небеса и землю,
И их помощником я буду век за веком
Лишь оттого, что я родился человеком.
ЛЮБОВНАЯ ПЕСНЬ К ФЛЯЖКЕ В ЖЕРЕБЯЧЬЕЙ ШКУРЕ.
Я с тобою всех богаче,
Фляжка в шкуре жеребячьей!
Я тебя всю жизнь ласкаю,
На красавиц не меняю.
Созданный для поцелуя,
Ротик твой к губам прижму я
Много крепче, много туже,
Чем румяный ротик Жужи.
Грудь твоя бурлит, клокочет,
С грудью друга слиться хочет.
Шейка, выгнутая стройно,
Ожерелия достойна.
Плечи широки, здоровы,
Им не нужен ус китовый,
Как иным плечам… Немею,
Никого назвать не смею.
Волосы! Как каждый тонок!
Пусть носил их жеребенок,
Трези в локонах крученых
Носит волосы казненных.
Вместо пения нередко
Ты кудахчешь, как наседка,
Но кудахтанье прелестней
Для моих ушей, чем песня.
В час печали горе злое
Позабуду я с тобою,
В час веселья я с тобою
Веселее стану вдвое.
Ты в морозы согреваешь,
Яд у стужи отнимаешь,
Знойным летом ты в награду
Навеваешь мне прохладу.
Если я с тобой в разлуке,
Я в тоске ломаю руки,
Если я с тобой встречаюсь,—
Веселюсь и восхищаюсь.
Я беру тебя в дорогу,
Сплю с тобой, забыв тревогу,
Выспавшись, не оставляю,
А люблю и прославляю.
Сколько раз мы вместе спали,
Хоть нас в церкви не венчали.
И опять, скажу по чести,
Нынче спать мы будем вместе.
Вдруг у нас родятся дети?
Милые ребята эти
Сели б рядом, не скучая,
Полные вином до края.
Если б ты женой мне стала,
Для меня бы ты рожала
Не мальчишек, не девчонок —
Фляжек маленьких, смышленых.
А жена пусть будет флягой,
Шкуру ей наполнят влагой.
Знаю я — в ее утробу
Ведер пять вина вошло бы.
Протяну я скоро ноги.
Лягу в траурные дроги.
Сгубишь ты меня любовью
И познаешь участь вдовью.
Близок мой конец печальный!
Так устроим поминальный
Пир заране, чтоб в чужую
Пасть не лить струю хмельную.
Я берёг на саван эту
Драгоценную монету,
Но кто смерти не боится,
Может в саван не рядиться.
Деньги все ушли бесследно.
Вот последний грошик медный,
Но я рад и с ним расстаться,
Чтоб с тобой поцеловаться.
Я тебе до гроба верен,
Взять тебя и в гроб намерен.
Пусть со мной положат флягу,
А к столбу прибьют бумагу:
«Выпей за меня, прохожий!
Я лежу на смертном ложе,
На груди подружку пряча —
Фляжку в шкуре жеребячьей».
БЕДНАЯ ЖУЖИ НА ПРИВАЛЕ.
Принесли приказ весною
Под печатью голубою,
Постучали заодно
К Янчи милому в окно.
Он как раз со мной расстался,
На постели разметался,
Спал и грезил обо мне,
Обнимал меня во сне.
Звонок зов трубы печальный.
Янчи в край уедет дальный
Против турок воевать.
Нам друг друга не видать.
Меж деревьями блуждая,
В лагерь я пришла, рыдая,
Неутешно слезы лью
И, как горлица, пою.
Облила слезами каску,
Черную дала повязку,
Десять роз ему дала,
Ноги крепко обняла.
А когда прощаться стала,
Вся душа моя рыдала.
«Бог с тобою», — он сказал
И меня поцеловал.
КЛЯТВА.
Я клянусь тебе, о Лила,
Что с тех пор, как покорила
Красота меня твоя,
Перед девою иною,
Пред огнем и пред стрелою
Не раскрою сердца я.
Я клянусь тебе! Священной,
Нерушимой, неизменной
Клятвой связан я с тобой.
Так ответь такой же точно
Клятвой твердой, клятвой прочной
Мне на клятву, ангел мой.
Я клянусь твоей рукою,
Ртом румяным, что с тобою
Не расстанусь ни за что,
Я клянусь: пока живу я,
На другую не взгляну я,
Или Лила, иль — никто.
ШАНДОР КИШФАЛУДИ. Перевод Н. Чуковского.
Шандор Кишфалуди (1772–1844). — Лирик и драматург. Представитель сентименталистского и раннеромантического стиля в венгерской поэзии начала XIX века. В 1792–1799 и 1809 годах Ш. Кишфалуди служил в австрийской армии, участвовал в войнах с Наполеоном I. Цикл «Горестная любовь Химфи» (1801), содержащий более двухсот песен, писался во французском плену, на «звучащих песнями Петрарки полях» Прованса.
ИЗ ЦИКЛА «ГОРЕСТНАЯ ЛЮБОВЬ ХИМФИ».
76-Я ПЕСНЯ.
Ласточки нас покидают,
И убор дерев исчез,
Песни звонкие смолкают,
Опечален старый лес,
В голом поле ветра стоны,
Шелестенье блеклых трав,
Громко каркают вороны
Посреди пустых дубрав.
О, какое время года!
Умирает вся природа,
И надежда с ней моя,
И с моей надеждой — я.
90-Я ПЕСНЯ.
Ясно речь твоя звенела,
Серебристая, как ключ.
Ах, и голос Филомелы
Далеко не так певуч.
Вся вселенная внимала
Трепетанью слов твоих,
Даже речка замолчала,
Даже шум вершин затих.
Смолкли в роще птичьи трели,
Все зефиры присмирели,
И сквозь слез горючих соль
Улыбнулась даже боль.
126-Я ПЕСНЯ.
Дни проходят, дни уходят,
Но печаль всегда со мной.
Все поток времен уводит,—
Неизменен жребий мой.
Огнедышащие горы
Отдыхают, — но не я.
Сохнут реки и озера,—
Только не слеза моя.
Лес цветет и отцветает,
Звезд полет свой путь меняет,
Я ж не жду счастливых дней,—
Вечен мир моих скорбей.
ИЗ ЦИКЛА «СЧАСТЛИВАЯ ЛЮБОВЬ ХИМФИ».
* * *
И последняя отава
Под косой легла легко,
Тени длинные направо
Протянулись далеко.
Тихо по лугу мы бродим
И в густой траве сидим,
А порой к реке подходим,
В воду с мостика глядим.
Речка сжата берегами,
А под нами и над нами,
В нас и всюду — небеса,
В сердце — пламя и краса.
ДАНИЭЛЬ ВЕРЖЕНИ.
Даниэль Вержени (1776–1836). — Известный в свое время поэт-классицист. Автор историко-патриотических од, идиллий о сельской поместной жизни, медитативных и любовных элегий, в которые проникала уже и романтическая неудовлетворенность.
ОТРЫВОК ИЗ ПИСЬМА МОЕЙ ПОДРУГЕ. Перевод Н. Чуковского.
Не вопрошай же, моя дорогая,
Как веселюсь я один, без тебя.
Здесь, в одиночестве изнемогая,
Я погибаю, тоскуя, любя.
Сбор винограда веселым пожаром
Шумно кипит у подножия гор,
Я же один под орешником старым
Свой раздуваю печальный костер.
В плащ завернувшись, я долго в молчанье
Лежа гляжу на мерцанье костра,
И начинаются воспоминанья,
Ширится воображенья игра.
Жук прожужжит заунывно осенний,
И уж толпою несутся ко мне
Прошлого благословенные тени
И обступают меня в тишине.
Так я живу, темнотой окруженный.
Что же осталось мне? Двое друзей,
Ночи со мной проводящих бессонно:
Искра любви моей неразделенной,
Песня угрюмой печали моей.
ФЕРЕНЦ КАЗИНЦИ. Перевод Н. Чуковского.
Ференц Казинци (1759–1838). — Поэт, переводчик античных авторов, Шекспира, Руссо, Лессинга, Гето, Виланда, Стерна, Оссиана; стоял по главе патриотического движения за «обновление» венгерского языка, за освобождение его от иноязычных влияний и заимствований, за усовершенствование литературного стиля. В поэтическом творчестве Казинци сильна «ученая», медитативно-эпиграмматическая струя.
ПОЭТ.
Зверь о добре и зле нам не расскажет,
Но люди говорят о злом и добром.
Поэт о злом и добром распевает,
И чувствует он пламенно и бурно,
Совсем не так, как человек обычный,
Который даже в горе вял и скучен.
Насколько человек обычный выше
Животного, настолько ж песнопевец
Людей неодаренных благородней.
ТЕМ, КТО КАЛЕЧИТ ЯЗЫК.
Строил Палладий, не портил, ты ж, дикое время,
Видело в нем нарушителя правил.
Много сильнее художник, чем время, — он молвит:
«Я тебе ставлю закон, а не ты мне».
Высится гордый дворец, подтверждая, что выше
Смелый художник, чем рабский обычай.
ФЕРЕНЦ КЁЛЬЧЕИ. Перевод Л. Мартынова.
Ференц Кёльчеи (1790–1838). — Первый крупный венгерский поэт-романтик, видный участник антигабсбургской либерально-дворянской политической оппозиции 20–30-х годов. Лирика Кёльчеи проникнута чувством разлада между национально-освободительными мечтами и отсталой консервативной общественной действительностью. Ноты, созвучные своей патриотической скорби, он искал, в частности, в немецком романтизме.
ЛОДКА.
В лодочке плыву я,
Волна кипит,
В небе надо мною
Журавль трубит.
О небесный странник,
Мчись над землей!
Как бы мне хотелось
Лететь с тобой!
Радостную землю
Ты там найдешь,
Где цветы прекрасны
И плод хорош.
Эх, с тобою вместе
Летел бы я
Вольные такие
Искать края!
Там, где хмурых зимних
Нет облаков,
Может быть, найдется
Надежный кров,
Чтобы беспечально
Шел день за днем,
Радужной надежды
Горя огнем!
Там вечерний ветер
К листве приник
И вблизи порога
Звенит родник!
Бог с тобою, лодка!
Кто там во тьме
Трепетные руки
Простер ко мне?
ГЛУХО.
О, плакать, плакать бы и плакать,
Как никогда нигде никто;
Рыдать о счастье утонувшем,
Как не рыдал еще никто.
Там, где-то на вершинах боли,
Кто это мог бы, кто бы, кто?
Ах, эта боль,
Нет боли горше,
Мятежнее и горячей.
Что ж из груди кровавой лавой
Не льется сердце;
Что же слезы
Не выкипают из очей!
ГЕРГЕЙ ЦУЦОР.
Гергей Цуцор (1800–1866). — Поэт и языковед, один из основоположников эпического романтико-патриотического жанра. Писал отмеченные живой наблюдательностью и юмором стихи, баллады и песни.
ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВОЧКА В ПЕШТЕ. Перевод В. Левина.
Ну и Пешт — какой красавец, боже мой!
А народ здесь — обходительный какой!
Я по городу ходила три часа,
Тут везде, куда ни глянешь, чудеса.
Выше нашей колокольни есть дома,—
Я своим глазам не верила сама.
А людей, людей-то сколько — просто страх!
Ходят в золоте и в бархате, в шелках,
Будто все они большие господа
Или съехались на ярмарку сюда.
Но всего мне показалося чудней,
Что и баре тут не чванятся, — ей-ей!
В город яблоки пошла я продавать.
На крыльце одном уселась торговать.
Вижу, смотрит на меня прохожий люд,
Все мужчины обернутся, как пройдут,
А какой-нибудь еще и подмигнет,
Вдруг подходят трое молодых господ.
Первый молвил: «Как тебя, голубка, звать?»
А второй мне: «Где изволишь проживать?»
Третий молвил: «Дай мне рученьку твою».
Испугалась я и чуть жива стою.
Бормочу сама не знаю что в ответ,
А до яблок, вижу, им и дела нет.
И не спросят ведь, почем их продаю,—
Всю корзиночку купили бы мою.
А какой у них красивый разговор!
Только все перезабыла я с тех пор.
По сто раз меня спросили: «А когда
Ты опять придешь с корзинкой и куда?»
Ну и Пешт — какой красавец, боже мой!
А народ здесь — обходительный какой!
У пекарни я стояла, вдруг один
Подошел ко мне высокий господин.
Серебром расшиты шляпа и штаны,
А усы блестят и будто смоль черны.
Видно, барин был он знатный, не солдат.
На запятках — вот такие же стоят.
«Эй, мадьярочка, жемчужина моя! —
Говорил он мне. — Я так люблю тебя!
Полюби меня, пройдись со мной часок!»
Где ж со мною познакомиться он мог?
«Нет», — сказала я, а он мне: «Почему?»
«Мне мамаша не велит, вот почему!
Наказала мне: „С чужими никогда
Не ходи, моя дочурка, никуда“».
«Ах, голубушка, так не пойдешь со мной?» —
Грустно молвил он и ждет, — такой смешной!
Он ушел, а я осталась там стоять.
Как пойдешь, коль не приказывала мать!
Но боюсь, что рассердиться может он,—
Как тогда? Ведь он, наверное, силен.
Нет, уж если в Пешт когда-нибудь опять
Мама яблоки пошлет меня продать,
Попрошу, чтоб разрешила мне разок
Погулять с тем господином хоть часок.
Самых лучших яблочек ему я дам,
Пусть не сердится и ласков будет к нам.
Поклянусь ему послушной быть вперед,
Не солдат он и меня ведь не убьет.
МИХАЙ ВЁРЕШМАРТИ.
Михай Вёрешмарти (1800–1855). — Выдающийся венгерский романтик. От дворянско-патриотических иллюзий (эпическая поэма «Бегство Задана», 1825) он прошел путь до демократически и фольклорно окрашенного жизнеутверждения (в философской поэме-сказке «Чонгор и Тюнде», 1830, о человеческом влечении к любви и счастью, которое торжествует над силами зла), до гуманистических утопистско-социалнстических идей, которые отозвались в его статьях и философских стихотворениях 40-х годов. А в драме «Циллеи и Хуняди» (1844) у Вёрешмарти проступают начатки реализма. На стороне Кошута поэт участвовал в политической жизни и в революции 1848 года, помог Шандору Петефи издать первый сборник стихов.
ПРИЗЫВ[62]. Перевод Н. Чуковского.
[62].
Мадьяр, за родину свою
Неколебимо стой,
Ты здесь родился, здесь умрешь,
Она всегда с тобой.
Другой отчизны не ищи
И смертный час тут встреть —
В беде иль в счастье должен ты
Здесь жить иль умереть.
По этим нивам столько раз
Струилась кровь отцов.
Земля хранит их имена
В течение веков.
Здесь за отчизну в славный бой
Арпад[63] войска водил,
И рабства гнусное ярмо
Здесь Хуняди[64] разбил.
Свобода! Здесь носили твой
Окровавленный стяг
И пали лучшие из нас
За родину в боях.
Средь стольких мук, средь стольких
Несчастий и невзгод,
Хоть поредев, но не сломясь,
Живет здесь наш народ.
Народам мира мы кричим,
Столпившимся вокруг:
«Мы заслужили право жить
Тысячелетьем мук».
Не может быть, чтоб крови зря
Так много пролилось,
Чтоб столько преданных сердец
В тоске разорвалось.
Не может быть, чтоб сила, ум
И воля навсегда,
Не одолев проклятий груз,
Иссякли без следа.
То время, славное вовек,
Должно прийти, придет,
Когда исполнится все то,
О чем молил народ.
Или прекрасно умереть
Решится в битве он,
И будет вся страна в крови
Во время похорон.
Могилу Венгрии твоей
Народы окружат
И, над умершею скорбя,
Слезами оросят.
Мадьяр, за родину свою
Неколебимо стой,
Ты ею жив, и будешь ты
Укрыт ее землей.
Другой отчизны не ищи
И смертный час тут встреть —
В беде иль в счастье должен ты
Здесь жить иль умереть.
ДА, Я СЕРЖУСЬ… (Лауре)[65]. Перевод Н. Чуковского.
[65].
Да, я сержусь — на черноту кудрей,
На синь очей, на их лукавый взгляд,
Меня связавший крепче всех цепей,
И на уста, что так меня язвят.
Сержусь на то, что сгинул мой покой,
Что сердце добродетельно твое,
Что пленена твоею красотой
Душа моя и не вернуть ее.
ГОРЬКАЯ ЧАША. Перевод Л. Мартынова.
Коль женщине во власть
Ты предался душой,
Знай: суждено пропасть
Душе твоей большой.
Улыбки лгут, беду сулят
Прекрасные глаза,
Улыбки жажду утолят,
Но все сожжет слеза.
Пей! Краток жизни пир,
Не вечен даже мир.
Он лопнет, как пузырь пустой,
И все сольется с пустотой.
А если всей душой
Ты другу предан был,
Дары страны родной
И тайны с ним делил,
И вдруг ты видишь блеск клинка
И понимаешь вдруг,
Чья это скользкая рука,—
Стал недругом твой друг! —
Пей! Краток жизни пир,
Не вечен даже мир,
Он лопнет, как пузырь пустой,
И все сольется с пустотой.
Коль родине своей
Ты отдал все сполна —
И кровь ты отдал ей
И душу, а она
Тебя же низвергает в прах,
Поносит, гонит с глаз
И бьется жертвою в руках
Глупцов, дельцов, пролаз,—
Пей! Краток жизни пир,
Не вечен даже мир,
Он лопнет, как пузырь пустой,
И все сольется с пустотой!
И если даже в грудь
Всосался червь забот,
И твой безверный путь
По пустырям ведет,
И все отравлено сейчас,
И радость и мечта,
И все надежды скрылись с глаз,
Все поздно, все тщета,—
Пей! Краток жизни пир,
Не вечен даже мир,
Он лопнет, как пузырь пустой,
И все сольется с пустотой.
И если скорбь с вином,
Вдруг заключив союз,
Поведают о том,
Как мир тосклив и пуст,
То ты не медли! Подымись,
Творец великих дел,
И, не жалея сил, борись!
Тот победит, кто смел.
Знай: краток жизни пир,
Пускай не вечен мир,
Но в этом мире счастлив тот,
Кто, разрушая, создает!
ПРОКЛЯТИЕ[66]. Перевод Н. Чуковского.
[66].
Зовется Гёргеем[67] тот негодяй позорный,
Кто предал родину, свой долг презрев.
Так пусть всегда, везде, до гроба и за гробом,
Его преследует господень гнев.
Ста тысяч храбрых вождь, вождь пламенных героев
В победе славен и в беде велик!
А он отбросил честь, отверг он путь к величью,
Подножный корм найдя, к нему приник.
Ему вручен был меч карающий народа,
Народа сердце было вручено.
Он предал их врагу, как шалопай побитый,—
За плату, даром ли, не все ль равно.
Умолк орудий гром, умолкли наши ружья,
Зловещая настала тишина,
Гайдук не мчится в бой, висит гусара сабля,
Не кровью, а слезой окроплена.
Пасть, не изведав битв, все сдать врагу без боя!
Переглянувшись, шлют ему вослед
Его соратники суровое проклятье,—
Тому проклятью вечно смерти нет.
«Кто создал Гёргея, бог иль коварный дьявол?» —
Так спрашивают воины с тоской.
Нет, если б создал бог ничтожество такое,
Отрекся бы от бога род людской.
Пусть высохнет трава, где отдохнуть он сядет,
Пусть, ветку увидав, на ней повиснет он,
Пусть терпит голод он, пусть корчится от жажды,
Вовек людским презреньем заклеймен.
Пусть гонятся за ним повсюду беды, словно
Озлобленные псы, пусть он живет
До гроба в нищете, в терзаниях и в сраме,
А после гроба муки обретет.
ПРЕДИСЛОВИЕ[68]. Перевод Л. Мартынова.
[68].
В те дни, когда я взялся за перо,
Безоблачным казалось это небо,
И на земных высотах зеленела
Листва… И люди, точно муравьи,
Трудились — бодро подымались руки,
Был тверд расчет, надеялись сердца,
Ум пламенел, и замыслы рождались.
Мир отирал испарину со лба,
Готовясь получить вознагражденье —
Блаженство завершенного труда,
И к празднику приблизилась природа,—
Все лучшее, что было в ней, цвело!
И, как от счастья, воздух трепетал,
Священное воззвание рождая,
Чтоб славным голосом творимой нови
Приветствовать вселенную. И мы
Услышали! Глубины и высоты
Откликнулись. Казалось, в этот миг
Вселенная застыла без движенья.
Но перед бурей эта тишь настала.
И разразилась буря. Как мячи,
Она отрубленные головы бросала
Под небеса кровавою рукой.
Она неслась, топча сердца людские,
Жизнь увядала от ее дыханья.
Мир разума погас. И на щеках
Небес, от этой бури потемневших,
Разрисовали молний диким светом
Великий гнев враждебные нам боги.
И завывала буря непрестанно,
И где бы, как чудовище, она
Ни проносилась в бешенстве, — повсюду
Проклятия раздробленных народов,
Как вздох, неслись из кучи черепов,
И опускала голову нужда
На обессиленные города.
И вот теперь зима, и снег, и смерть.
Земля моя как будто поседела,
Но не слегка, как человек счастливый,
А поседела сразу, как господь,
Когда, создавши мир и человека,
Создавши полубога, полузверя,
Он содрогнулся, увидав воочью
Такое кровожадное творенье,
И стал от горя дряхлым и седым!
Она придет, цирюльница-весна,
Земля-старушка паричок напялит
И бархатное платье из цветов,
И глаз своих стекляшки разморозит,
И на лице, сокрытом в ароматах,
Налжет веселье юности… Тогда
Спросите эту старую кокетку —
Что сделала с детьми она своими,
Куда девала бедных сыновей?
СТАРЫЙ ЦЫГАН. Перевод Л. Мартынова.
Играй, цыган! Вина мы поднесли,
Чего ж дремать? Утешь! Развесели!
Что стоит скорбь, водой разведена?
В холодный кубок подливай вина.
Такой закон установила жизнь,
Чтоб мерзли мы, а после обожглись,
Играй! Всему приходит скорбный срок,
Негодной палкой станет и смычок.
Стакан и сердце наполняй вином
И не заботься ни о чем ином!
Пусть мозг дрожит под теменем твоим,
Пусть кровь вскипает в жилах у тебя!
Глаза горят, как головы комет,
И струны стонут, будто, все губя,
Несется вихрь и скачет град такой,
Который выбьет весь посев людской.
Играй! Всему приходит скорбный срок,—
Негодной палкой станет и смычок.
Стакан и сердце наполняй вином
И не заботься ни о чем ином!
У звонкой бури песням ты учись,
Когда она бушует и ревет,
Корчует лес и топит корабли,
За глотку все живущее берет.
Повсюду бой! Трепещет в буре той
Сам гроб господень на земле святой.
Играй! Всему приходит скорбный срок,—
Негодной палкой станет и смычок.
Стакан и сердце наполняй вином
И не заботься ни о чем ином!
Чей это слышен затаенный стон?
Кто, дико мчась, и плачет и ревет?
Что там гудит, как мельница в аду?
Там кто это стучится в небосвод?
Кто? Падший ангел? Воин весь в крови?
Безумец? Раб надежды и любви?
Играй! Всему приходит скорбный срок,—
Негодной палкой станет и смычок.
Стакан и сердце наполняй вином
И не заботься ни о чем ином!
И кажется: восставший средь пустынь,
Неистово горюет человек,
И палкой брата убивает брат,
Сироты плачут, слышен вопль калек,
И коршун бьет крылами, и орлы
Терзают Прометея у скалы…
Играй! Всему приходит скорбный срок,—
Негодной палкой станет и смычок.
Стакан и сердце наполняй вином
И не заботься ни о чем ином!
Звезда слепая, скорбный шар земной
Вращается в отчаянном чаду.
От грязи, скорби и преступных дел
Отмой, потоп, несчастную звезду!
И пусть привозит к Арарату Ной
В ковчеге новом новый мир иной.
Играй! Всему приходит скорбный срок,—
Негодной палкой станет и смычок.
Стакан и сердце наполняй вином
И не заботься ни о чем ином!
Играй! Но нет! Дай струнам ты покой.
Настанет праздник. Срок еще не скор,
Но час придет — смирится ярость бурь,
И кровью в битвах изойдет раздор.
К такой ты песне будь, цыган, готов,
Чтоб разутешить даже и богов,
Чтоб, за смычок когда возьмешься ты,
Разгладились бы хмурые черты!
Играй, упившись радости вином,
И не заботься ни о чем ином!
ЙОЖЕФ БАЙЗА. Перевод Н. Чуковского.
Йожеф Байза (1804–1858). — Поэт и известный критик радикально-демократического направления; в 1831–1837 годах редактор литературно-художественного альманаха «Аурора» (1822–1837), который стал первым печатным органом венгерских романтиков.
ВЕЧЕРНЯЯ ЗАРЯ.
Свет золотистый,
Кротко сияя,
Спит на озерной
Зыбкой волне.
Ветер взлетает
С роз наклоненных,
Веет печально
Нам в тишине.
Лес утихает.
Голос свирели
В воздухе чистом
Тонет нежней.
В роще, расшитой
Ярко цветами,
Щелкает, свищет,
Бьет соловей.
Милая! Ныне
Я, головою
Прячась в колени,
Сладко дремлю.
Может быть, завтра
Пурпур вечерний
Тихо могилу
Тронет мою.
Будет ли сердце,
То, что сегодня
Так под вуалью
Бьется твоей,
Будет ли завтра
Плакать, страдая,
Плакать, стеная,
Ветра нежней?
МОЛЬБА.
Все ты знал и видел,
Все ты ведал, бог!
Отчего же правде
В битве не помог?
Алтари и храмы
До сих пор стоят,
Иль уже кромешный
Поглотил их ад?
Всюду миллионы
Молятся тебе.
Тщетно! Равнодушен
Ты к людской мольбе.
Пламенную веру
Сам ты погасил
Тем, что дело правды
Ты не защитил.
Кто любил отчизну,
Почитал закон,
Как злодей, на плахе
Палачом казнен,
А убийца гнусный,
Святотатец, вор,
Убивать и грабить
Может до сих пор.
От небес свобода
Помощи ждала,
Но лишь тюрьмы, казни,
Цепи обрела.
Ты тысячелетья
Кровью истекал,
Но народ свой храбрый
Уничтожить дал.
Кротких ты заставил
Жить в беде, в нужде,
А клятвопреступник
В почестях везде.
Змеи преисподней
Выползли на свет,
И преграды больше
Злодеяньям нет.
Молнией, громами
Разрази того,
Кто в людских страданьях
Видит торжество.
Вспомни: добродетель
Надо награждать!
Дай же ты народу
Восторжествовать…
Если ж мир дорогу
Всю прошел свою
И уже стремится
Он к небытию,—
Ты ему скорее
Сгинуть помогай,
А когда он сгинет,
Новый мир создай.
Но не дай ты новым
Людям образ свой,
Не закинь им в души
Искры ни одной,
Пусть они плодятся,—
Каменные лбы,
Глупые машины,
Верные рабы.
Ты им вместо сердца
Льда кусочек дай,
К красоте и славе
Их не приучай.
Право и свобода
Будут им смешны,
Им не станут сниться
О грядущем сны.
Не взлетит их разум
К звездам в небосвод,
И в низкопоклонстве
Вся их жизнь пройдет.
И никто не станет
Плакать в тишине,—
Будут все народы
Счастливы вполне.
МИХАЙ ТОМПА.
Михай Томпа (1817–1866). — Друг Шандора Петефи, участник революции 1848 года, автор элегических и аллегорических стихов, отличающихся мягким лиризмом и фольклорной простотой формы. Стихотворение «К аисту» написано в годы австрийского террора после поражения революции.
К АИСТУ. Перевод В. Левика.
Растаял снег, повеяло весной.
Ты вновь хлопочешь, аист, надо мной.
Ты обновляешь дом свой для птенцов,
Пушистым детям ты готовишь кров.
Назад, назад! О, верь, все это лжет —
И солнца свет, и плеск оживших вод.
Назад, назад! В отверженной стране
Замерзла жизнь, и места нет весне!
На луг пойдешь ты — он могилой стал.
На озеро — в нем крови плещет вал.
На башню сесть захочешь? Но и тут
Зубцы, как уголь раскаленный, жгут.
Оставь мой дом и старое жилье,—
Но где гнездо построишь ты свое,
Куда бы стон с земли не долетал,
Где в небе молний ты бы не видал?
Назад, назад! Лети на теплый юг!
Счастливей нас ты, мой хороший друг:
Тебе судьбой две родины даны,
У нас одна — и той мы лишены.
Лети, лети! И, встретив там, вдали,
Изгнанников своей родной земли,
Скажи, что в пропасть нация идет,
Как в поле сноп, рассыпался народ.
Один в тюрьме, другой похоронен,
А третий жив, но лучше б умер он.
Четвертый бродит, кинув отчий дом,
Чтоб новый дом найти в краю чужом.
Бесплодною невеста хочет стать,
Над мертвым сыном не рыдает мать,
И только старцу радостно порой
Лишь потому, что смерть не за горой.
Не тем, скажи им, страшен наш позор,
Что, как деревья, рубит нас топор,
Но тем, что черви павший дуб сверлят,
Что брата оговаривает брат,
Сыны — отцов, отцы — своих детей…
Но нет, пред этим лучше онемей,
Чтобы не проклял рода своего,
Кто издали оплакивал его!
ЯНОШ АРАНЬ.
Янош Арань (1817–1882). — Выдающийся поэт-реалист, близкий друг Ш. Петефи. Превосходный переводчик Шекспира, гоголевской «Шинели»; автор мастерских стихотворных сценок сельской жизни с ироническим подтекстом, а также поэмы-трилогии о народном герое, крестьянском сыне («Толди», 1846–1878). Опираясь на европейские образцы и особенно на фольклор, Арань насытил социальным драматизмом и до высокого совершенства поднял в венгерской поэзии жанр исторической и народной баллады.
СОЛОВЕЙ. Перевод М. Исаковского.
Венгры верили когда-то:
«Суд рассудит —
Ясно будет;
У судьи — ума палата,
Он решит — и дело свято…»
В те года, за Тисой где-то,
Жили-были два соседа:
Пал и Петер. Жили рядом:
Дом за домом, сад за садом.
Пал и Петер — в святцах тоже
Оба рядом поместились.
И лишь там они, быть может,
Меж собою не бранились.
А у наших Петер — Пала
Шум и гам, лишь солнце встало:
Брань такая — уши вянут.
А как сумерки настанут —
Начиналось все сначала…
Если печь затопит Пал,
Из трубы дымком потянет,
Петер скажет: «Так и знал!»
И чихать от дыма станет.
Если ж к Палу в сад, случится,
Куры Петера зайдут,
Пал, как бешеный, стучится
В дом к соседу: «Эй вы, тут!»
Словно хочет — сам не свой —
Стенку вышибить ногой.
Так и жили Пал и Петер,—
Крики, гвалт, угрозы, ругань.
Даже жены их и дети
Поцарапались друг с другом,
Словно псы, что целый день
С двух сторон грызут плетень.
Это, впрочем, лишь началом
Было в их вражде жестокой…
Украшал усадьбу Пала
Куст орешника высокий.
Рос он, рос, и ветка скоро —
И с плодами, и с листвою —
Очутилась за забором:
Над соседскою землею.
(Петер видел, только все же
Не обрезал потому,
Что с нее орехи тоже,
Тоже падали к нему.)
И случилось, в воскресенье
Появился соловей,
Чтоб на ветке той весенней
Петь о радости своей.
Солнцу, что в росе сверкало,
Рощам, травам и ручью,
Ветерку, чем грудь дышала,
Он воздал хвалу свою.
Он воспел прозрачный воздух,
Он любовь свою воспел
И ореховый отросток,
На котором он сидел.
Так он пел на ветке скромной
Песню сердца своего,
Словно этот мир огромный
Создан был лишь для него.
С изумленьем, с восхищеньем
Пал прислушивался к пенью
И гордился песней той:
«Как красиво —
Просто диво! —
Соловейка свищет мой».
«Ваш?! Пустые разговоры!
Ваша только тень его»,—
Слышит Пал из-за забора
От соседа своего.
«Чей же? — Пал кричит и злится.
Чей он? Ветка ведь моя».
«Ветка ваша. Только птица
Мне свистела, у меня.
Значит, здесь резон прямой:
Птичий свист — не ваш, а мой!..»
Началось опять такое,
Что уж ругань — пустяки:
В ход пошли лопаты, колья
И, конечно, кулаки.
Бился Петер, дрался Пал —
Прав своих не уступал.
Нос в крови, в грязи рубашка
И синяк промеж бровей…
Вот что сделала ты, пташка,—
Неразумный соловей!
Отвечая на расспросы,
С синяком, с разбитым носом,
Пал стоял перед судьей:
«Свист был мой и только мой!
И ни свиста, ни полсвиста
Я ему не уступлю!
Я пожалуюсь министру,
Я отправлюсь к королю!»
Чтоб слова весомей стали,
Чтоб скорей нашлись концы,
Пал выкладывает талер
Правосудью на весы.
Увидал судья премудрый —
Отвести не может глаз.
И в карман его нагрудный
Талер сам вскочил тотчас.
Петер тоже к правосудью
Шел — решительный и злой:
«Видит бог и знают люди —
Свист был мой и только мой!
И таких законов нету,
Чтоб глумиться надо мною!..—
Талер новенький при этом
Он кладет перед судьею.—
Не пойду я, ваша милость,
На уступки разной дряни!..»
И монета очутилась
У судьи в другом кармане.
Суд настал. Все ждут решенья,
Всякий хочет знать скорей —
Для кого же в воскресенье
Пел на ветке соловей?
Нетерпенье нарастает,
Но судья молчит пока —
То ли сам еще не знает,
То ль лишился языка.
Все законы,
Все каноны
Пораскрыли адвокаты,
Все параграфы прочли,
Но о свисте о проклятом
Указаний не нашли.
И, разгневанный, суровый,
Встал судья, заговорил.
И такое — слово в слово —
Он решенье объявил:
«Говоришь, тебе свистала?
(Он взглянул при том на Пала.)
Говоришь, что свист был твой?
(Ткнул он в Петера рукой.)
Нет! Свистала эта птица
Ни тебе и ни ему!
Мне свистала эта птица,
Мне свистала одному!
(И по правому карману
Хлопнул правою рукою,
И по левому карману
Хлопнул левою рукою.)
Мне свистала, а не вам!..
Суд окончен. По домам!»
Хорошо, что в наши годы
Нет к судам такой охоты.
Все живут теперь спокойно
И ведут себя достойно.
Не дерутся, как обычно,
Ни родные, ни соседи:
Все решается отлично
В мирной дружеской беседе.
Люди сделались, как люди,—
Ни дубин, ни зуботычин…
Даже вывелись и судьи
По делам о свисте птичьем.
УЭЛЬСКИЕ БАРДЫ[69]. Перевод Л. Мартынова.
[69].
Король английский Эдуард
Мчит на гнедом коне.
«Вот мой Уэльс! Он чем богат?
Узнать угодно мне!
Здесь много ль гор, лесов, озер,
Богата ли земля?
И щедро ль кровь бунтовщиков
Удобрила поля?
И так ли счастлив нынче здесь
Мне богом данный люд,
Как этот вот рогатый скот,
Что пастухи пасут?»
«Не сомневайся, о король!
В короне не найдешь
Алмаза краше, чем Уэльс,—
Так этот край хорош!
А этот богоданный люд
Так счастлив, так он рад,
Что немы, как могилы, тут
Все хижины стоят».
И по владениям немым,
При мертвой тишине
Король английский Эдуард
Мчит на гнедом коне.
Монтгомери звать замок тот…
Гостей созвать веля,
Его хозяин нынче ждет
На ужин короля.
Дичь, рыбу, много всяких блюд
На ужин подают,
Все, что прельстит глаза и рот,
Найдется нынче тут.
Все для гостей припасено,
Что Альбион родит,
И драгоценное вино,
Что за морем кипит.
«Что ж, господа, за короля
Никто не поднял тост?
О псы уэльские! Видать,
Вы не поджали хвост!
Я вижу рыбу, вижу дичь
И вас, о бунтари!
В любом из вас сидит сейчас
По дьяволу внутри!
Так не „да здравствует король“?
Не мил вам Эдуард?
Где тот, кто здравицу споет?
Сюда, уэльский бард!»
И друг на друга не глядят
Все гости, побледнев,
Их лица исказил не страх,
Но величайший гнев.
Что отвечать? Кому начать?
Молчат… И наконец,
Как белый голубь, поднялся
Седой старик-певец.
«Спою я о тебе, король! —
Бард старый говорит.—
Струна гудит. Так сталь звенит,
Так раненый хрипит.
Так раненый хрипит… В крови
Здесь солнечный закат.
Летит на кровь ночная дичь,
Кто в этом виноват?
И много тысяч мертвых тел
Здесь как снопы лежат,
И нищи те, кто уцелел,—
Ты в этом виноват!»
«Прочь! На костер иди, старик!
Воскликнул Эдуард.—
Я песню нежную хочу!..»
…И входит новый бард.
«Вечерний нежный ветерок
С залива Мильфорд мчит,
Печальный голос дев и вдов
В том ветерке звучит…
Не хочет мать рабов рожать…»
Знак подал Эдуард —
И старца у костра догнать
Успел сей юный бард.
Но тут, не прошен и не ждан,
Вдруг третий бард вошел.
По струнам ударяет он,
Такой звучит глагол:
«Товарищ честно пал в бою!
Послушай, Эдуард,
Споет вот так, как я пою,
Любой уэльский бард.
Погиб певец, но песнь живет!
Так знай же, Эдуард,
Проклятие тебе споет
Любой уэльский бард!»
«Посмотрим! — закричал король
И страшный дал приказ: —
Коль здесь таков певец любой,
Всех на костер тотчас!
Вас нужно, господа певцы,
Всех сжечь до одного!»
Такой в Монтгомери конец
Имело торжество.
Король английский Эдуард
Мчит на гнедом коне.
Вокруг него горит земля
И небеса в огне.
Пятьсот певцов пошли в огонь,
Но ни единый бард
Того не спел, что столь хотел
Услышать Эдуард.
«Ах, так! И в Лондоне поют?!
Им петь пришло на ум!
Лорд-майор, я повешу вас,
Коль будет ночью шум!»
Немая тишь. Шум крыльев глух,
Кто зашумит — в петлю!
И вот все затаили дух:
«Не спится королю!»
«Нет! Музыки давайте мне,
Флейт, барабанов! Ах,
Певцов уэльских голоса
Звучат в моих ушах».
Но через рокот бубенцов,
Сквозь визг рожков и флейт
Пятьсот певцов, презревших смерть,
Гремели песню жертв!
ОТКРЫТИЕ МОСТА[70]. Перевод Д. Самойлова.
[70].
Чело испариной покрыто.
«На двойку ставлю. Так верней!»
Он кинул… Поздно… Карта бита.
Погибла ставка, вместе с ней —
«Надежда юности моей».
От рук его бежит удача,
Пот как жемчужины на лбу.
Конец… Могло ли быть иначе?
«Так нечего пытать судьбу!»
Он вышел, закусив губу.
Пред ним был мост, высокий, новый.
Полощутся ряды знамен.
Сегодня в шуме славословий
Тот мост открыт и освящен
И в честь Маргиты наречен.
И бедный юноша, стеная,
Вступил на мост; со всех сторон
Четыре берега Дуная
Струили колокольный звон.
Внизу был Млечный отражен.
Звенели полночь колокольни,
То отдаленны, то близки.
А он стоял, глядел на волны
И видел призраки реки.
Там были дети, старики…
Чуть вынырнув до подбородка,
Потом вставали в полный рост,
И вырисовывались четко,
И звали при сиянье звезд:
«Сюда! Святите новый мост!»
«Кто первый? Голубь с голубицей!»
И двое встали у перил.
«С тобой навек!» — самоубийца,
Обняв подругу, говорил.
И пенный вал обоих скрыл.
Им рукоплещут. «Ну-ка, скряга!
Смелей, мильонщик! Твой черед!»
«Я разорен вконец, бедняга!
Удрал должник, а я — банкрот!»
И он исчез в пучине вод.
Приходят третий и четвертый,
Хоть их никто не пригласил.
«Сегодня все спустил я к черту!»
«Я имя честное носил…
Я обесчещен, нету сил…»
Вода расходится кругами.
Приходит юноша: «Беда!
Я изгнан. Тяжело с деньгами.
Как жаль бесплодного труда.
Прощай, наука, навсегда!»
Почтенный старец с бородою
На мост восходит, чуть бредет.
«Весь век боролся я с нуждою,
Теперь уж счастье не придет!
Прими меня, водоворот!»
Вот размалеванная дама
Всплыла, ей скучно, гложет лень.
«Ах, жизнь? Мучительная драма…
Менять наряды трижды в день…»
И волны скрыли эту тень.
Тут с грохотом разверзлось лоно,—
Скелет воздвигся над волной:
«Я победил Наполеона,
И вот он, жезл победный мой!»
А тени шепчут: «Он шальной!»
Мальчишка, весь обросший тиной,
Со смехом обхватил скелет
И с ним взметнулся над пучиной.
«Меня лупили столько лет,
Теперь уже не тронут, нет!»
«Я был богат, самоуверен,
Мне надоел бесплодный свет!»
«Я был моей невесте верен,
Но ей понравился Альфред!..»
Мгновение — и этих нет!
«Была дуэль. Я жертва мести.
Я пал от пули роковой!»
«Бедняжка, я лишилась чести,
И, отягченная виной,
Дунаю стала я женой».
И вот уже не единицы,
А толпы посреди реки,
Как стаи перелетной птицы
Или как рыбьи косяки,
Летят, свиваются в клубки.
Они как ливень, — мгла клубится,
Взбухает пузырями плёс.
И кружатся самоубийцы
Подобьем мельничных колес
И падают за водосброс.
И юноша в остолбененье
Глядит… А волны все бегут.
И все речные привиденья,
Мелькающие там и тут,
К себе, к себе его зовут.
И он противиться не в силах,
Его к себе влечет волна,
Руками призраков унылых
К нему простерлась глубина…
И мост пустеет. Тишина.
ДО КОНЦА. Перевод Л. Мартынова.
Ты лиру к груди
Прижимай до кончины,
Покуда касаешься пальцами струн.
От этого легкого прикосновенья,
От тягостных дум обретет утешенье
Печальный твой ум.
Любовь и вино
Не кипят в твоих жилах
Давным уж давно. Но ведь лира с тобой!
И разве сейчас за твоими плечами
Нет радостей этих и этих печалей,
Даримых судьбой?
Ведь жизнь до конца
Обольстительна, если
Сберег, что осталось, и этим богат.
Но только во дни своего листопада
При солнцевороте осеннем не надо
Звать лето назад.
Хотя и надежды Твои улетели,
И полдня тебе не вернуть своего,
Но ясность вечерняя — вот твое счастье,
И будь веселей и не бойся ненастья —
Разгонишь его!
Не думай, что сил
Не хватает у лиры.
Неправда, а только круг звуков не тот;
Коль сможешь ты этим доволен остаться,
То будет веселье к тебе возвращаться
И песня придет.
Ты в мире живешь,
И живут в тебе чувства,
И сердце еще не остыло в груди,
И если какая идея взыграла
И лира зовет, не позевывай вяло —
Зовет, так иди!
Не внемлют тебе?
Ну, а все ж говори ты,
Как бог тебе даст, сколько сил в тебе есть,
Хоть песня твоя и теряется ныне,
Как будто бы летом на голой равнине
Кузнечика песнь.
ЯНОШ ВАЙДА. Перевод В. Левика.
Янош Вайда (1827–1897). — Поздний романтик. В мрачно-величественном фатализме Вайды, в молодости республиканца, соратника Петефи, отозвалось глубокое разочарование в буржуазном строе в эпоху безвременья, после соглашения 1867 года с Австрией.
ФРАНЦИИ.
О ты, страна заката! Как ты быстро
Пережила свой блеск и торжество!
С глубокой грустью мир предвидит гибель
Недавнего кумира своего.
Ты славу больше вольности любила,
И вот — бесславны все твои дела.
Тебя богиня грозная свободы
За преступленья смерти обрекла.
Взгляни на нас: надменна и тщеславна,
Не замечала ты моей страны.
Но твой орел едва дерзает ныне
В цветущий дол спускаться с вышины.
Взгляни на нас: одни мы за свободу
Сражаемся! Гляди же и красней!
Пускай умрем, зато достойной смертью,
Не смертью унизительной твоей.
О шутовские воины свободы,
О лицедеи вольности святой!
Боренья человечества святые
Вы сделали забавою пустой.
Так смейтесь над собой! Одну лишь внешность,
Лишь моду легковесную любя,
Не смейте хвастать доблестью пред миром
И называть республикой себя!
Ты власть и славу ищешь, но забыла,
Великолепный празднуя позор,
Что лишь свобода — это власть и слава,
Не в этом ли твой смертный приговор!
Свободной будешь ты, но в наказанье —
Свободною бесславно, и народ,
Доселе незаметный и безвестный,
Тебе свободу прежнюю вернет.
О мой народ! Надейся и сражайся!
О Венгрия! Я слезы лить готов:
Когда в твое грядущее гляжу я —
Не нахожу от изумленья слов.
Ты, Франция! Тебе предназначалось
Грядущее, — оплачем твой удел!
А ты, народ мой, если ты страдаешь,
О том забудь — так бог твой повелел.
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ.
Как на Монблане вечный снег.
Не тающий и в летний зной,
Я охладел, застыл навек,
И страсти не владеют мной.
Мильоны звезд вокруг меня
Свершают огненный свой путь,
Зовут, сверкая и дразня,
Но не оттаивает грудь.
Лишь иногда в ночи моей
На зов сердечный в полусне
Блеснет на зыби прошлых дней
Твой лебединый образ мне.
И сердце вновь горит огнем,
Как на Монблане снег зимой,
Когда, рассеяв ночь кругом,
Восходит солнце над землей.
КОМЕТА.
Летит комета по небу, блистая,
Полнеба хвост прорезал огневой.
Ей не вернуться: это та, «большая»,
Чей путь — в неизмеримость по прямой.
Сквозь табор звездный, к западу с востока,
Перегоняя в беге Млечный Путь,
Несчастна вечно, вечно одинока,
Не хочет и не может отдохнуть!
Одним звезда неверная милее,
Другие томной молятся луне,
Но я взываю к скорбной Ниобее,
Что, развеваясь, мчится в вышние.
Звезда печали, ты мой горький жребий!
Кисть из лучей! Что чертит пламень твой?
Где б ни был я в неизмеримом небе,
Я всюду — одинокий и чужой.
НА ОЗЕРЕ В КАМЫШАХ.
Вверху лазурь без дна, без края,
Река сверкает голубая,
Мой легкий челн едва качая.
Он тенью зыбкой вдаль стремится,
И жаждет вся душа раскрыться,
Невыразимый сон ей снится.
Бор задремал в истоме лени.
Двустволку уперев в колени,
Качаюсь я в самозабвенье.
Завороженный красотою,
Внимаю тайн созвучных строю.
Он и во мне и предо мною.
Два солнца вижу, ослепленный:
Вверху — за тучкой озаренной,
Внизу — в лазури волн бездонной.
Земли коснулся свод небесный,
Как уст любовницы прелестной.
День несказанный, день чудесный!
Плыву, иль облако несется,
Иль над рекой лишь ветер вьется,
В лицо мне дышит и смеется.
Блуждают мысли, утопая
В пространстве, где ни дна, ни края…
Куда плывешь ты, жизнь земная?
Камыш возникнет силуэтом,
Растает вновь, облитый светом…
Так всё в неверном мире этом!
Но вот в зенит вошло светило,
Роскошный бег остановило
И, лучезарное, застыло.
И всё — в немом оцепененье.
Иль это с прошлым на мгновенье
Слилось грядущего стремленье?
Мир спит в изнеможенье полном.
Душа, качаясь вместе с челном,
Все шепчет, шепчет зыбким волнам:
Ужель и красота вселенной,
И смерть, и счастье жизни бренной —
Обман, виденье, сон мгновенный?
СМЯТЕНИЕ.
Снаружи ветер буйно в окна рвется,
Деревья хлещет, — стон, и свист, и вой,
А здесь, в простенке, мерно раздается
Тысячелетий однозвучный бой.
Налево шаг, направо шаг — и дале
Отсчитывает стрелка бег минут.
Круг завершен, удары отзвучали,
И вновь часы, где кончили, начнут.
Снаружи ночь, и стоны ветра тяжки,
И так назойлив стук дождя в стекло!
Несутся тучи в небе, как барашки,
Когда овчарка гонит их в село.
Столпились, разбежались, — то виденья
Моей души. Себя в них узнаю.
А маятник стучит, летят мгновенья,—
Откроет ли он тайну мне свою?
Порхают листья. Жизнь и увяданье.
Настанет смерть, и будет вновь расцвет.
И в этом бесконечность мирозданья,
И двух былинок сходных в мире нет.
Иль мы одни конечны во вселенной?
Часы бегут, но ни на шаг вперед.
И движет время стрелку жизни бренной,
Само ж вовеки с места не сойдет.
То меркнет лес, то синих молний сполох
Над ним блеснет — и сорван тьмы покров.
Скрежещет ветер в дебрях сучьев голых,
И стон его подобен крику сов.
Здесь, на земле, одно лишь то нетленно,
Бессмертно то, что не жило вовек.
А все живое хрупко и мгновенно —
Цветок, трава, и лист, и человек.
Снаружи ветер буйно в окна рвется,
Деревья хлещет, — стон, и свист, и вой,
А здесь, в простенке, мерно раздается
Тысячелетий однозвучный бой.
Налево шаг, направо шаг — и дале
Отсчитывает стрелка бег минут.
Круг завершен, удары отзвучали.
И вновь часы, где кончили, начнут.
ЙОЖЕФ КИШ.
Йожеф Киш (1843–1921). — Поэт-лирик импрессионистического склада, издатель журнала «Ахет» (1890–1921), сыгравшего известную роль в проникновении в литературу демократических тем. В стихотворении «Огни» (1896) брезжит предчувствие нового — революционно-пролетарского — общественного подъема в Венгрии.
ОГНИ. Перевод Н. Чуковского.
Знаком ли вам трескучий, жаркий, зыбкий
Огонь в печи, углей горячих блеск,
Открытых лиц веселые улыбки,
Нежданных шуток звонкий переплеск?
Потрескиванью хвороста внимая,
Подслушал я однажды песни ритм…
Где тот огонь, пылавший, завывая?
Он для меня погас. Для вас горит?
Где девочка в передничке цветистом,
Что дула в печку, полную углей?
Где юноша с тоской во взоре чистом,
Что помогал с таким усердьем ей?
Мы с ней вдвоем бросали сучья в пламя,
И, капли на коре заметив вдруг,
Гадали мы, охвачены мечтами,
О чем рыдает старый мокрый сук.
Песок шуршащий рассыпает время.
К чему тревожить то, что он занес?
Огнями новыми, уже не теми
Душе моей с тех пор гореть пришлось.
Я пламенел — о, глупость! — жаждой славы,
За истиной я гнался — о, тщета!
Пока я пил, спеша, страстей отраву,
Виски седели, старилась мечта.
Я не колосья собирал на ниве,
Мой урожай — горсть вянущих цветов,
Любил мечты, в мечтах был всех счастливей
И прожил жизнь в туманном мире снов.
Зола огней погасших погребает
Огонь душевный, приближая ночь,
Она мечты, боюсь, перепугает,
Они вспорхнут и унесутся прочь.
Мне зябко… Что ж, угля в огонь! Пусть чаще
И громче фыркает он, словно кот,
Нечаянно вспугнувший птицу в чаще
И мчащийся за ней вперед, вперед.
Вот наконец огонь! Не то что раньше!
Из недр земли он вышел, он рожден
Кипящей лавой — славной великаншей;
Отцом восстаний, знаю, будет он.
Гудит, бушует, буйствует, стучится,
Ворча и воя, мчится в дымоход,
Как будто демон рвется из темницы,
Шатает стены, двери с петель рвет.
О, гневный бог! Что будет со вселенной,
Коль уголь каменный в глубинах гор
Прозреет, вспыхнет вдруг и дерзновенно
Из темных недр рванется на простор?
Коль рухнет все, что гнило и трухляво?
Коль миллионы выползут из нор
И уничтожат идол тот кровавый,
Что нас терзал и мучил с давних пор?
Уже я вижу, как они шагают,
Как с новой «Марсельезой» громовой,
Бросая факел, крыши поджигают,—
Бежит по крышам пламень золотой.
Пока в душе живет воображенье,
Меня влекут небесные огни,
Когда-нибудь, покинув сфер круженье,
К моей могиле спустятся они…
Так я сижу, окутанный мечтами,
У времени пощады не прошу,
Дремлю один и гаснущее пламя
В почти остывшей печке ворошу.
ГЕРМАНИЯ.
ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЕТЕ.
Иоганн Вольфганг Гёте (1749–1832). — Величайший немецкий национальный художественный гений, пролагавший своим творчеством новые и плодотворные пути в развитии прозы, драмы, поэзии и эстетической мысли. Поэзия Гете необычайно многогранна; уходя от влияний классицизма и рококо, она уже с начала 1770-х годов становится провозвестницей тех новых качеств, которыми во многом и был обусловлен расцвет немецкой поэзии в XIX веке. Непосредственность и глубина лирического чувства, восприятие природы в органическом единстве с духовным миром человека, раскованная полнота мировосприятия и необычная для XVIII века простота выражения отличают уже «Зезенгеймские песни» (1770–1771) Гете, ставшие одной из вершин немецкой поэзии. В эти же годы Гете обратился и к народной песне, записывая подлинные тексты и мелодии и создавая оригинальные стихотворения, ставшие затем народными песнями. «Фульский король» Гете был любимым стихотворением Брентано; Уланд в своем творчестве постоянно ориентировался на Гете, особенно на его народно-песенные стихи и баллады. Перекличку с лирикой Гете мы найдем у В. Мюллера и у Гейне, у молодого Веерта и у Мёрике. Одной из важных черт поэзии Гете, также проявившейся уже в 70-е годы, является ее философская и эмоциональная насыщенность, идущая нередко рука об руку с лаконичной простотой и рациональной завершенностью формы, за что поэта иногда упрекают в «холодности». Поражает широта поэтического диапазона Гете: непритязательные, на первый взгляд, пейзажные зарисовки соседствуют в ней с взволнованными философскими монологами, строгие сонеты и чеканно-утонченные строфы с нерифмованными и почти прозаически звучащими стихами. Расцвету немецкой лирики в XIX веке во многом способствовал также универсализм поэтических интересов Гете; что касается, например, народной песни, то он обращался не только к германским и романским песням, но интересовался также сербской, литовской, итальянской, бразильской и восточной народной поэзией, и в этом предвосхищая широту поэтических интересов многих романтиков, да и не только их.
«Фаусту», величайшему творению Гете, посвящен отдельный том БВЛ. Помещаемая в настоящем томе подборка стихотворений Гете, разумеется, раскрывает только некоторые стороны его поэзии.
«Скоро встречу Рику снова…»[71]. Перевод А. Ночеткова.
[71].
Скоро встречу Рику снова,
Скоро, скоро обниму.
Песня вновь плясать готова,
Вторя сердцу самому.
Ах, как песня та звучала
Из ее желанных уст!
Как надолго замолчала!
Долго, долго мир был пуст.
Мучусь скорбью бесконечной,
Если милой нет со мной,
И глубокий мрак сердечный
Не ложится в песен строй.
Только ныне чистым, старым
Счастьем сердце вновь полно.
Не сравнится с этим даром
Монастырское вино!
ПРОМЕТЕЙ[72]. Перевод В. Левика.
[72].
Ты можешь, Зевс, громадой тяжких туч
Накрыть весь мир,
Ты можешь, как мальчишка,
Сбивающий репьи,
Крушить дубы и скалы,
Но ни земли моей
Ты не разрушишь,
Ни хижины, которую не ты построил,
Ни очага,
Чей животворный пламень
Тебе внушает зависть.
Нет никого под солнцем
Ничтожней вас, богов!
Дыханием молитв
И дымом жертвоприношений
Вы кормите свое
Убогое величье,
И вы погибли б все, не будь на свете
Глупцов, питающих надежды,
Доверчивых детей
И нищих.
Когда ребенком был я и ни в чем
Мой слабый ум еще не разбирался,
Я в заблужденье к солнцу устремлял
Свои глаза, как будто там, на небе,
Есть уши, чтоб мольбе моей внимать,
И сердце есть, как у меня,
Чтоб сжалиться над угнетенным.
Кто мне помог
Смирить высокомерие титанов?
Кто спас меня от смерти
И от рабства?
Не ты ль само,
Святым огнем пылающее сердце?
И что ж, не ты ль само благодарило,
По-юношески горячо и щедро,
Того, кто спал беспечно в вышине!
Мне — чтить тебя? За что?
Рассеял ты когда-нибудь печаль
Скорбящего?
Отер ли ты когда-нибудь слезу
В глазах страдальца?
А из меня не вечная ль судьба,
Не всемогущее ли время
С годами выковали мужа?
Быть может, ты хотел,
Чтоб я возненавидел жизнь,
Бежал в пустыню оттого лишь,
Что воплотил
Не все свои мечты?
Вот я — гляди! Я создаю людей,
Леплю их
По своему подобью,
Чтобы они, как я, умели
Страдать, и плакать,
И радоваться, наслаждаясь жизнью,
И презирать ничтожество твое,
Подобно мне!
ГАНИМЕД[73]. Перевод В. Левика.
[73].
Словно блеском утра
Меня озарил ты,
Май, любимый!
Тысячеликим любовным счастьем
В сердце мне льется
Тепла твоего
Священное чувство,
Бессмертная Красота!
О, если б я мог
Его заключить
В объятья!
На лоне твоем
Лежу я в томленье,
Прижавшись сердцем
К твоим цветам и траве.
Ты охлаждаешь палящую
Жажду в груди моей,
Ласковый утренний ветер!
И кличут меня соловьи
В росистые темные рощи свои.
Иду, поднимаюсь!
Куда? О, куда?
К вершине, к небу!
И вот облака мне
Навстречу плывут, облака
Спускаются к страстной
Зовущей любви.
Ко мне, ко мне!
И в лоне вашем —
Туда, в вышину!
Объятый — объемлю!
Все выше! К твоей груди,
Отец Вседержитель!
ВЕЧЕРНЯЯ ПЕСНЬ ХУДОЖНИКА. Перевод Н. Вильмонта.
Когда бы клад высоких сил
В груди, звеня, открылся!
И мир, что в сердце зрел и жил,
Из недр к перстам пролился!
Бросает в дрожь, терзает боль,
Но не могу смириться,
Всем одарив меня, изволь,
Природа, покориться!
Могу ль забыть, как глаз обрел
Нежданное прозренье?
Как дух в глухих песках нашел
Источник вдохновенья.
Как ты дивишь, томишь меня
То радостью, то гнетом!
Струями тонкими звеня,
Вздымаясь водометом.
Ты дар дремавший, знаю я,
В моей груди омыла
И узкий жребий для меня
В безбрежность обратила!
ЗНАТОК И ЭНТУЗИАСТ. Перевод Н. Вильмонта.
К девчонке моей я свел дружка,
Хотел угодить дружищу;
В ней любо все, с ней жизнь легка —
Теплей, свежей не сыщешь.
Она на кушетке в углу сидит,
Головки своей не воротит;
Он чинно ее комплиментом дарит,
Присев у окна, напротив.
Он нос свой морщил, он взор вперял
В нее — с головы до пяток,
А я взглянул… и потерял
Ума моего остаток.
Но друг мой, трезв, как никогда,
Меня отводит в угол:
«Смотри, она в боках худа
И лоб безбожно смугл».
Сказал я девушке «прости» —
И молвил, прежде чем идти:
«О боже мой, о боже мой,
Будь грешнику судьей!»
Он в галерее был со мной,
Где дух костром пылает;
И вот уже я сам не свой —
Так за сердце хватает.
«О мастер! мастер! — вскрикнул я.—
Дай ему счастья, боже!
Пускай вознаградит тебя
Невеста, всех пригожей».
Но критик брел, учен и строг,
И, в зубе ковыряя,
Сынов небесных в каталог
Вносил, не унывая.
Сжималась в сладком страхе грудь,
Вновь тяжела мирами;
Ему ж — то криво, то чуть-чуть
Не уместилось в раме.
Вот в кресла я свалился вдруг,
Все недра во мне пылали!
А люди, в тесный сомкнувшись круг,
Его знатоком величали.
ФИАЛКА. Перевод Н. Вильмонта.
Фиалка на лугу одна
Росла, невзрачна и скромна,
То был цветочек кроткий.
Пастушка по тропинке шла,
Стройна, легка, лицом бела,
Шажком, лужком
С веселой песней шла.
«Ах! — вздумал цветик наш мечтать,
Когда бы мне всех краше стать
Хотя б на срок короткий!
Тогда она меня сорвет
И к сердцу невзначай прижмет!
На миг, на миг,
Хоть на единый миг».
Но девушка цветка — увы! —
Не углядела средь травы,
Поник наш цветик кроткий.
Но, увядая, все твердил:
«Как счастлив я, что смерть испил
У ног, у ног,
У милых ног ее».
ФУЛЬСКИЙ КОРОЛЬ[74]. Перевод Б. Пастернака.
[74].
Король жил в Фуле дальной,
И кубок золотой
Хранил он, дар прощальный
Возлюбленной одной.
Когда он пил из кубка,
Оглядывая зал,
Он вспоминал голубку
И слезы утирал.
И в смертный час тяжелый
Он роздал княжеств тьму
И всё, вплоть до престола,
А кубок — никому.
Со свитой в полном сборе
Он у прибрежных скал
В своем дворце у моря
Прощальный пир давал.
И кубок свой червонный,
Осушенный до дна,
Он бросил вниз, с балкона,
Где выла глубина.
В тот миг, когда пучиной
Был кубок поглощен,
Пришла ему кончина,
И больше не пил он.
ПРИВЕТСТВИЕ ДУХА. Перевод Ф. Тютчева.
На старой башне, у реки,
Дух рыцаря стоит
И, лишь завидит челноки,
Приветом их дарит:
«Кипела кровь и в сей груди,
Кулак был из свинца,
И богатырский мозг в кости,
И кубок до конца!
Пробушевал полжизни я,
Другую проволок:
А ты плыви, плыви, ладья,
Куда несет поток!»
ПЕРЕД СУДОМ. Перевод Л. Гинзбурга.
«А кто он, я вам все равно не скажу,
Хоть я от него понесла».
«Тьфу, грязная шлюха!..» — «А вот и не так
Я честно всю жизнь жила.
Я вам не скажу, кто возлюбленный мой,
Но знайте: он добр был и мил,
Сверкал ли цепью он золотой
Иль в шляпе дырявой ходил.
И поношения и позор
Приму на себя сейчас.
Я знаю его, он знает меня,
А бог все знает про нас.
Послушай, священник, и ты, судья,
Вины никакой за мной нет.
Мое дитя — есть мое дитя!
Вот вам и весь мой ответ».
К ЛИЛИ ШЁНЕМАН[75]. Перевод М. Лозинского.
[75].
В тени долин, на оснеженных кручах
Меня твой образ звал:
Вокруг меня он веял в светлых тучах,
В моей душе вставал.
Пойми и ты, как сердце к сердцу властно
Влечет огонь в крови
И что любовь напрасно
Бежит любви.
ЛЕСНОЙ ЦАРЬ. Перевод В. Жуковского.
Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?
Ездок запоздалый, с ним сын молодой.
К отцу, весь издрогнув, малютка приник;
Обняв, его держит и греет старик.
«Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?»
«Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул:
Он в темной короне, с густой бородой».
«О нет, то белеет туман над водой».
«Дитя, оглянися, младенец, ко мне;
Веселого много в моей стороне:
Цветы бирюзовы, жемчужны струи;
Из золота слиты чертоги мои».
«Родимый, лесной царь со мной говорит:
Он золото, перлы и радость сулит».
«О нет, мой младенец, ослышался ты:
То ветер, проснувшись, колыхнул листы».
«Ко мне, мой младенец! В дуброве моей
Узнаешь прекрасных моих дочерей;
При месяце будут играть и летать,
Играя, летая, тебя усыплять».
«Родимый, лесной царь созвал дочерей:
Мне, вижу, кивают из темных ветвей».
«О нет, все спокойно в ночной глубине:
То ветлы седые стоят в стороне».
«Дитя, я пленился твоей красотой:
Неволей иль волей, а будешь ты мой».
«Родимый, лесной царь нас хочет догнать;
Уж вот он: мне душно, мне тяжко дышать».
Ездок оробелый не скачет, летит;
Младенец тоскует, младенец кричит;
Ездок погоняет, ездок доскакал…
В руках его мертвый младенец лежал.
* * *
«Ты знаешь край лимонных рощ в цвету…»[76]. Перевод Б. Пастернака.
[76].
Ты знаешь край лимонных рощ в цвету,
Где пурпур королька прильнул к листу,
Где негой Юга дышит небосклон,
Где дремлет мирт, где лавр заворожен?
Ты там бывал?
Туда, туда,
Возлюбленный, нам скрыться б навсегда.
Ты видел дом? Великолепный фриз
С высот колонн у входа смотрит вниз,
И изваянья задают вопрос:
Кто эту боль, дитя, тебе нанес?
Ты там бывал?
Туда, туда
Уйти б, мой покровитель, навсегда.
Ты с гор на облака у ног взглянул?
Взбирается сквозь них с усильем мул,
Драконы в глубине пещер шипят,
Гремит обвал, и плещет водопад.
Ты там бывал?
Туда, туда
Давай уйдем, отец мой, навсегда!
У РАЙСКИХ ВРАТ. Перевод В. Левика.
ГУРИЯ.
На пороге райских кущей
Я поставлена как страж.
Отвечай, сюда идущий:
Ты, мне кажется, не наш!
Вправду ль ты Корана воин
И пророка верный друг?
Вправду ль рая удостоен
По достоинству заслуг?
Если ты герой по праву,
Смело раны мне открой,
И твою признаю славу,
И впущу тебя, герой.
ПОЭТ.
Распахни врата мне шире,
Не глумись над пришлецом!
Человеком был я в мире,
Это значит — был борцом!
Посмотри на эти раны,—
Взором светлым в них прочтешь
И любовных снов обманы,
И вседневной жизни ложь.
Но я пел, что мир невечный
Вечно добр и справедлив,
Пел о верности сердечной,
Верой песню окрылив.
И, хотя платил я кровью,—
Был средь лучших до конца,
Чтоб зажглись ко мне любовью
Все прекрасные сердца.
Мне ль не место в райском чине!
Руку дай — и день за днем
По твоим перстам отныне
Счет бессмертью поведем.
ФРИДРИХ ГЁЛЬДЕРЛИН.
Фридрих Гёльдерлин (1770–1843). — Великий немецкий поэт, соединивший в своем творчестве тяготение к античной (особенно греческой) стихотворной традиции с гражданскими идеалами революционного классицизма и прогрессивно-романтическим мироощущением. Активная гражданственность и романтический пафос его стихов оттолкнули от них поздних Гете и Шиллера; для немецких романтиков, переориентировавшихся к началу XIX века на национальное средневековье, Гельдерлин представлялся уже своего рода анахронизмом, хотя некоторые из них (А. Шлегель, Клеменс и Беттина Брентано, Уланд) высоко оценивали его поэтический талант. Массовому немецкому читателю поэзия Гельдерлина открылась лишь в XX веке. В Советском Союзе одним из первых пропагандистов творчества Гельдерлина был А. В. Луначарский. В 1969 году издательство «Художественная литература» выпустило однотомник Гельдерлина.
Судьба поэта сложилась трагически: глубоко пережив поражение Великой французской революции 1789–1794 годов, не понятый и не признанный современниками, не нашедший и в личной жизни ни счастья, ни надежного пристанища, Гельдерлин в 1803–1806 годах постепенно сходит с ума.
ЮНОСТЬ. Перевод Г. Ратгауза.
Когда я отроком был,
Некий дух избавил меня
От людского крика и розги.
Я спокойно и славно играл
С лесными цветами,
А небесные ветры
Играли со мной.
И как ты, мое сердце,
Радовалось побегам,
Тянувшим навстречу тебе
Свои нежные руки,
Так ты радовал сердце мое,
Отец Гелиос! И, как карийского отрока,
Меня любила
Царица ночи!
О мои верные,
Дружелюбные боги!
Если бы вы знали,
Как возлюбил я вас!
Я не знал еще ваших имен,
И я не звал вас по имени,
(Как люди, возомнившие,
Будто знают друг друга).
Но знал я вас лучше,
Чем знал даже близких людей.
Мне ясна была тишь эфира,
Непонятна людская речь.
Я рос под шепот
И шелест рощ.
Меня цветы
Любить учили,
Боги взрастили меня.
ПЕСНЬ СУДЬБЫ. Перевод Г. Ратгауза.
Вы бродите там, в лучах,
По тропам зыбким, ясные гении!
Вас тихо нежит
Сияющий воздух богов,—
Так касаются вещих струи
Пальцы арфистки.
Рок незнаком небожителям.
Как младенческий сон, их дыхание.
Свеж и юн,
Как в нетронутой почке,
Чистый дух
Будет вечно цвести.
И блаженные очи
Тихо сияют
Ясностью вечной.
Но нам в этом мире
Покоя не будет нигде.
Нерадостный род,
Мы проходим и гибнем.
Слепо стремимся
К часу от часа,
Как воды с обрыва
К обрыву стремятся
И в неизвестность вечно спешат.
БУОНАПАРТЕ[77]. Перевод Н. Вольпин.
[77].
Поэты — те священные сосуды,
Которые жизни вино —
Дух героев — хранят исстари.
Но этого юноши дух
Стремительный — как его примет,
Не разорвавшись в куски, сосуд?
Не тронь же его, поэт: он — дух природы.
Трудясь над ним, созреет в мастера мальчик.
Не может он жить, хранимый в стихе,—
Нетленный, он в Мире живет.
К ПРИРОДЕ. Перевод П. Гурова.
Я тогда играл еще безбрежным
Покрывалом тайн твоих, как друг,
В каждом тихом звуке сердцем нежным
Твоего я сердца слышал стук.
Светлый образ твой впивая с жаждой,
В те года, как ты, богат я был,
Место для своей слезинки каждой,
Для любви весь мир я находил.
Солнце отвечало мне порою,
Сердца моего услышав зов.
В те года я звал звезду сестрою
И весну — мелодией богов.
Как по роще ветры шаловливы
Пробегают в полудневный зной,
Так по сердцу радости приливы
Проплывали медленной волной.
И когда у родника в долине,
Там, где зелень юная кустов
Поднималась к каменной вершине
И лазурь сияла средь листов,
Я стоял, осыпанный цветами,
Их дыханье пил, а в вышине
Плыло осиянными путями
Золотое облако ко мне.
И когда в пустынях одиноко
Я блуждал, и в черных замках скал
Мне звучал могучий глас потока,
Мрак меня завесой облекал
И, бушуя ночью над горами,
Буря слала ветры с высоты,
Там, где молний вспыхивало пламя,
Дух Природы, мне являлся ты!
Мир благой! Стократ в слезах счастливых,
Как бурливые потоки те,
Что в морских сливаются заливах,
Я в твоей терялся полноте!
Я рвался из Времени пустыни,
Радостно везде искал пути,
Как паломник, ищущий святыни,
Чтобы в Бесконечность перейти.
Святы вы, златые детства грезы!
Вы добро взрастили в тишине,
Вы скрывали жизни скорбь и слезы,
То, что не сбылось, дарили мне.
О Природа! Той порою ясной
В мирном свете прелести твоей
Возросли плоды любви прекрасной,
Как аркадских урожай полей.
Все мертво, что прежде было мило,
Умер мир моих былых чудес.
Как жнивье, пустынна и уныла
Грудь, вмещавшая весь круг небес.
Если б вновь участья песню спела
Та весна моих скитаний мне!
Утро жизни миновать успело,
В сердце снова не расцвесть весне.
Вечны подлинной любви страданья,
Только тень — все то, что любим мы.
Умерли, увы, мои мечтанья,
Дух Природы скрыт покровом тьмы.
Где твоя отчизна, ты не знало,
Сердце, средь веселья юных дней.
Коль тебе о ней лишь грезить — мало,
Лучше не расспрашивай о ней.
* * *
«Зайди, о солнце!..»[78]. Перевод Г. Ратгауза.
[78].
Зайди, о солнце! Скройся, мой ясный свет!
Кто зрел тебя, кто чтил божество твое?
Доступен ли сердцам мятежным
Свет безмятежный в высоком небе?
Но я дружу с тобою, светило дня.
Я помню час, когда я узнал тебя,
Когда божественным покоем
Мне Диотима целила душу,
О гостья с неба! Как я внимал тебе!
О Диотима, милая! Как потом
Сияющий и благодарный
Взор мой купался в лучах полудня!
Ручьи мне звонче пели, и нежностью
Дышал росток, из темной земли взойдя,
И в небе, в тучах серебристых
Мне улыбался Эфир приветный.
К СОЛНЦЕБОГУ. Перевод Г. Ратгауза.
Где ты? Блаженство полнит всю душу мне,
Пьянит меня: мне все еще видится,
Как, утомлен дневной дорогой,
Бог-светоносец, клонясь к закату,
Купает кудри юные в золоте.
И взор мой все стремится вослед ему,
Но к мирным племенам ушел он,
Где воссылают ему молитвы.
Земля, любовь моя! Мы скорбим вдвоем
О светлом боге, что отлетел от нас.
И наша грусть, как в раннем детстве,
Клонит нас в сон. Мы — как струны арфы:
Пока рука арфиста не тронет их,
Там смутный ветер будит неверный звук,
И лишь любимого дыханье
Радость и жизнь возвратит нам снова.
ПАРКАМ. Перевод Г. Ратгауза.
Одно даруйте лето, всевластные,
Даруйте осень зрелым словам моим,
И пусть, внимая милой лире,
Сердце мое навсегда умолкнет.
Верховный долг душа не исполнила,
У вод стигийских нет ей забвения.
Высокий замысел, хранимый
В сердце моем, завершить я должен.
Тогда, о царство теней, привет тебе!
Один, без лиры, сниду я в тишь твою,
Душою тверд: я день мой краткий
Прожил, как боги; чего мне боле?
РОДИНА. Перевод Г. Ратгауза.
Под отчий кров спешит мореплаватель.
В краю чужом он жатву сбирал свою.
Я не спешу. Вдали от дома
Я пожинал только скорбь и муки.
Мой тихий берег! Ты воспитал меня,
Ты боль смиришь, утешишь любовь мою,
Лес, юности моей свидетель!
О, посули мне покой бывалый!
Ручей, манивший ясной волной меня,
Река, что вдаль свои корабли несла,—
Увижу вас! В предел заветный
Милой отчизны вступлю я снова.
Здесь ждут меня хранительных гор верхи,
Участье близких, дом моей матери,—
Все, все, о ком мечтало сердце.
Здесь заживут мои злые раны.
Друзья мои! Мне ведомо, ведомо:
Не исцелить вам боль и любовь мою,
И звуки песен колыбельных
Не успокоят больную душу.
Так! Нам даруют боги живой огонь,
И боги шлют нам скорби священные.
Я, сын Земли, приемлю твердо
Вечный мой жребий: любить и плакать.
ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ. Перевод Г. Ратгауза.
В младые дни восход меня радовал,
Закат — печалил. Ныне я старше стал;
Уже страшусь я зорь тревожных,
Вечер люблю я, святой и светлый.
СРЕДИНА ЖИЗНИ. Перевод Г. Ратгауза.
В зеркальных водах — берег,
И ветка с желтой грушей,
И диких роз кусты.
О, милые лебеди!
В поцелуе забывшись,
Вы клоните головы
В священную трезвую воду.
Горе мне! В стужу, зимой,
Где взять мне цветов и солнце, и где
Быстролетные тени?
Стоит стена
Безмолвно и холодно, флюгер
Звенит под ветром.
ВОСПОМИНАНИЕ. Перевод Г. Ратгауза.
Норд-ост воет,
Мой самый любимый ветер,
Потому что он смелый дух
И добрый путь сулит мореходам.
А теперь иди и приветствуй
Светлую Гаронну
И сады Бордо.
Здесь по острому берегу вниз
Уходит тропа, и в поток
Впадает ручей, а сверху
Благородная смотрит чета, —
Дуб с серебристым тополем.
Еще я четко помню, как
Широковершинные вязы
Над мельницей клонят листву,
А во дворе смоковница растет,
И в праздничные дни
Ходят мимо смуглые женщины
По шелковым тропам.
Все это в марте,
В дни равноденствия,
Когда над неспешной дорогой,
Налит золотыми мечтами,
Плывет усыпляющий ветер.
Но пусть протянут
Душистый кубок мне,
Сияющий темным светом,
И я усну. Отрадно
Сном меж теней забыться.
Нехорошо
Жить бездушными
Людскими мыслями, но славно —
С друзьями вести беседу
Сердечную, слушать рассказы
О днях любви
И о делах минувших.
Но где мои друзья? Где Беллармин
Со спутником? Иные
К истоку боятся подойти,
Исток же любого богатства
В море. Они,
Словно художники, копят
Красоты земли, промышляя
Крылатой войною, чтоб после
Прожить в пустыне долгие годы
Под безлиственным древом, где в ночи не сияют
Празднества городские,
И струнный звон, и туземные пляски.
А теперь в далекую Индию Ушли эти люди.
Там живут на воздушных высях.
Внизу — виноградник. С гор
Спадает Дордонь,
И, слившись с могучей Гаронной,
Широким морем
Плывет поток. В море взоры
Устремите свои. Оно отнимает
И возвращает память, любовь дарует.
А остальное создадут поэты.
ГАНИМЕД. Перевод С. Аверинцева.
Что никнешь, бедный, в зябкой дремоте, сир,
На стылом бреге смутно немотствуешь?
Иль позабыл о непостижной
Милости и о тоске бессмертных?
Ужель не видел вестников отчих ты
В воздушной глуби неуловимых игр?
Ужели не был ты окликнут
Веским глаголом из уст разумных?
Но крепнет мощно голос в груди. Из недр
Родник вскипает, словно бы в некий час,
Как отрок, спал в горах. И вот уж
Труд очищенья вершит он буйно.
Неловкий: он смеется над узами,
Срывая, мечет прочь их, осиливши,
Высоким гневом пьян, играя,
И, пробудившись на чутком бреге,
На голос чуждый всюду встают стада,
Леса шумят, и недра подземные
Внимают духу бури, внятно
Дух шевельнулся, и в бездне трепет.
Весна приходит. Все, что живет, опять
В цвету. Но он далеко: уже не здесь.
Не в меру добры боги: ныне
Глух его путь, и беседа — с небом.
АДВОКАТ ДЬЯВОЛА. Перевод В. Куприянова.
Проклято будет навек единенье святош и тиранов,
Гений будь проклят вдвойне, ищущий славы у них.
* * *
«Опять весна меня преображает…». Перевод В. Куприянова.
Опять весна меня преображает,
И в сердце юной радости приток,
Роса любви с ресницы упадает,
Опять душа полна живых тревог.
Утешиться меня блаженно просят
Зеленый луг и в небе облака,
Хмельной бокал восторга мне подносит
Природы дружелюбная рука.
Да, эта жизнь любой превыше боли,
Пока восходит солнце по утрам.
А в душах наших лучший век в неволе,
И сердце друга сострадает нам.
К РОЗЕ. Перевод В. Куприянова.
Вечно плод в своем бутоне
Роза нежная несет.
Пусть краса и жизнь на склоне,
И настанет срок невзгод,—
Роза, мы увянем тоже,
Облететь нам суждено,
Но взрастят, кто нас моложе,
Жизни свежее зерно!
МИРСКАЯ СЛАВА. Перевод В. Куприянова.
Нынче сердце мое жизни святой полно,
Счастлив я и люблю! Вы же внимали мне,
Лишь когда я гордыни,
Пустословья исполнен был.
Привлекает толпу лишь гомон рыночный,
И в чести у раба лишь сила властная.
Чтит божественность жизни,
Лишь кто богу подобен сам.
НОВАЛИС.
Новалис (литературный псевдоним; настоящее имя — Фридрих фон Гарденберг, 1772–1801). — Самый значительный поэт Иенского романтического кружка, в который, кроме него, входили Л. Тик, Ф. Шлегель и А. Шлегель, В. Вакейродер и др. Стихотворное наследие Новалиса (если не считать его юношеских стихов) невелико: шесть «Гимнов к ночи», пятнадцать «Духовных песен», несколько десятков «Смешанных стихотворений» да еще стихи, которые вошли в роман «Генрих фон Офтердинген» и повесть «Ученики в Саисе». Наиболее своеобразны по содержанию и по форме «Гимны к ночи», где ритмическая проза чередуется со стихами, написанными в свободном ритме, и с традиционным рифмованным стихом. В этих «гимнах», может быть, в наиболее поэтически сконцентрированном виде нашли свое выражение общефилософские и эстетические основы творчества Новалиса. «Духовные песни» также заключают в себе значительные эстетические достоинства; основу общечеловеческого содержания их составляет романтическая тоска по утраченному идеалу и провозглашение верности ему.
Остальная часть стихотворного наследия Новалиса далеко не столь однородна, в ней ощутимы различные влияния: Клопштока, Бюргера, Шиллера, Хёльти. В поэзии Новалиса обнаруживается не только абстрактное, философическое и морализирующее начало, но и начало конкретно-чувственное, стремящееся к выражению реального, зримого и вполне осязаемого мира. Поэт умер в возрасте двадцати девяти лет от туберкулеза, только еще входя в пору высшей творческой зрелости.
«Когда горючими слезами…». Перевод В. Микушевича.
Когда горючими слезами
Ты плачешь в комнате пустой
И у тебя перед глазами
Окрашен мир твоей тоской,
И прошлое дороже клада,
И веет боль со всех сторон
Такой томительной усладой,
Что лучше бездна, лучше сон
В той пропасти, где столько дивных
Сокровищ нам припасено,
Что в судорогах беспрерывных
К ним тянешься давным-давно,
Когда в грядущем — запустенье
И только мечешься, скорбя,
И к собственной взываешь тени,
Утратив самого себя,—
Открой ты мне свои объятья!
Как я знаком с твоей тоской!
Но пересилил я проклятье
И знаю, где найти покой.
Скорее призови с мольбою
Целителя скорбей людских,
Того, кто жертвует собою
За всех мучителей своих.
Его казнили, но поныне
Он твой последний верный друг.
Не нужно никакой твердыни
Под сенью этих нежных рук.
Он мертвых жизнью наделяет,
Даруя кровь костям сухим,
И никого не оставляет
Из тех, кто остается с Ним.
Он все дарует нашей вере.
Обрящешь у Него ты вновь
И прежние свои потери,
И вечную свою любовь.
ГИМН К НОЧИ. (Фрагмент). Перевод В. Куприянова.
Вечно ли будет сбываться свидание с утром?
Власти земного никогда не будет конца?
Суетою забот искажен
Ночи небесный приход.
Любви жертвенник потайной
Зажжется ль навеки?
Отмеряно свету
Время его;
Но вне предела и часа
Владычество ночи.
Вечно бдение сна.
Сон святой,
Не обойди своим счастьем
Посвященного в ночь
В этих буднях земных!
Лишь глупцы не видят тебя
И сна не знают иного,
Кроме этой тени,
Которую ты, сострадая,
В истинных сумерках ночи
Нам оставляешь.
Они тебя не находят
Ни в златой лозе винограда,
Ни в чудесном соке
Миндального дерева,
Ни в коричневом нектаре мака.
Они не знают,
Что это тобою
Так нежно девичья
Грудь объята
И к небу причислено лоно, —
Они не знают,
Что из древних преданий
Ты идешь, распахнувший небо,
И владеешь ключом
От обиталищ блаженных,
Ты, бесконечных тайн
Вестник безмолвный.
ЛЮДВИГ ТИК. Перевод А. Гугнина.
Людвиг Тик (1773–1853). — Один из самых плодовитых и талантливых немецких романтиков, поэт, переводчик, драматург, прозаик, литературный и театральный критик. Его лирическое наследие (свыше четырехсот стихотворений) весьма разнородно и в большинстве своем состоит из своеобразных «лирических вставок» в романы, драмы и рассказы, которые затем стали публиковаться как самостоятельные стихотворения. Тик умел живописать природу, ряд стихотворений выделяется музыкальностью звучания, романтически-торжественным настроением.
НАПУТСТВИЕ[79].
[79].
Чтобы юность не проспать
Под отцовской крышей,
Он раздольный мир узнать
В путь-дорогу вышел.
Долы безбрежны,
Лес тайной укрыт;
Девушек нежных
Блистают наряды,
Маня, как награды;
За ними он взглядом и сердцем летит.
Дивные лица
В венце красоты —
Все это снится
Или беспечная юность резвится в сиянье мечты?
Смелого слава
Ищет в пути,
Шлет ему лавры,
Громы, литавры
И обещает награды иные еще впереди.
Страха не зная,
Врагов побеждая,
Герой вырастал;
И, среди юных невест выбирая,
Девушку он увидал, о которой мечтал.
Сквозь долы и горы,
Земные просторы
Он едет назад.
Родители ждали
Но прочь все печали,
И каждый теперь после встречи желанной и счастлив и рад.
Как мчишься ты, Время!..
Уж слушает сын
О годах столь давних,
О подвигах славных —
Вот юность седин!..
И старость отступает прочь,
Как перед солнцем — ночь.
УВЕРЕННОСТЬ[80].
[80].
Вставай! Ведь солнце в путь зовет,
В просторный, вольный мир войди.
Сквозь горы и луга — вперед!
И не грусти в пути!
На месте не стоит ручей —
Бежит в полях легко;
И ветер мчится все резвей
Куда-то далеко.
Луна не дремлет никогда,
На солнце посмотри —
Оно в движении всегда
С зари и до зари.
Лишь ты один в своих стенах,
Хотя и манит даль.
Вставай! И с посохом в руках
Избудь свою печаль!
Когда судьбу свою искать
На вольный выйдешь свет,
Рассвет увидишь и закат
И вдруг отыщешь след.
Есть в жизни радость и печаль,
Заботы и труды.
Чтоб не было чего-то жаль —
Доверься счастью ты.
Везде, где неба синева,
Росток любви взойдет;
И каждый, в ком мечта жива,
Не зря свой путь пройдет.
КЛЕМЕНС БРЕНТАНО.
Клеменс Брентано (1778–1842). — Самый значительный поэт Гейдельбергского романтического кружка, в который входили также А. фон Арним, Й. Гёррес и др. Брентано выступил как один из зачинателей романтической реформы немецкой лирики на основе ее сближения с народной песней. Но для развития немецкой поэзии в XIX веке, пожалуй, гораздо более значительную роль сыграли три тома «Волшебного рога мальчика» — немецкие народные песни и стихотворения в народном духе, изданные Клеменсом Брентано и Ахимом фон Арнимом в 1805–1808 годах. Первый сборник стихотворений Брентано был издан посмертно, в 1844 году.
КОЛЫБЕЛЬНАЯ. Перевод И. Грицковой.
Эту песню напевая,
Не колебли тишины.
Так луна поет, всплывая
Из небесной глубины.
Пой, чтоб слышалось журчанье
Ручейка, невнятный ропот,
Приглушенное ворчанье,
Шорох, щебет, шум и шепот.
* * *
«Жила на Рейне фея…»[81]. Перевод В. Топорова.
[81].
Жила на Рейне фея
В селенье Баххарах,
Жила, смятенье сея
И скорбь в людских сердцах.
Сгубила, осмеяла
И взрослых и парней —
И так околдовала,
Что льнули все сильней.
Тогда епископ местный
Священный суд созвал,
Но пред красой небесной
Весь гнев его пропал.
Он вымолвил: «Бедняжка!
Бедняжка Лорелей!
Зачем казнишь так тяжко
Ты красотой своей?»
«Увы! не жду прощенья,
И жизнь постыла мне,
Хоть чары обольщенья —
Не по моей вине.
Мои глаза как пламя.
Рука — волшебный жезл.
Бросай же деву в пламя!
Ломай над нею жезл!»
«О! ты, представ пред нами,
Навет отвергла весь,
Ведь то же гложет пламя
И нашу душу днесь.
И если жезл преломим,
Назначив приговор,
То сердце мы разломим
На муку и позор!»
«Не смейся над несчастной!
Будь, отче, справедлив,
Пред гибелью ужасной
Грехи мне отпустив.
Я доле жить не смею,
Я не желаю жить!
За то, что гибель сею,
Вели меня казнить!
Увы! и я любила,
Но грянула беда:
Меня покинул милый,
Бежал невесть куда.
Прозвали всемогущей
Меня за красоту,
Но мне мой вид цветущий
Самой невмоготу!
Мой смех, сверканье взгляда
И шеи белизна —
Мне этого не надо!
Воздай за все сполна!
Я смерть приму без дрожи,
Я кончу путь земной,
И ты пребудешь, боже,
В последний миг со мной!»
Трем рыцарям владыка
Велит седлать коней:
«Не бойся, горемыка!
Бог любит Лорелей!
Став тихою черницей
В обители простой,
Ты сможешь приобщиться
К премудрости святой».
Печальной и убитой,
Прекрасна и бледна,
С торжественною свитой
Поехала она.
«О рыцари, — сказала,
Не сдерживая слез,—
Позвольте мне сначала
Подняться на утес.
На замок взор я кину,
Где милый был со мной,
И безвозвратно сгину
За мрачною стеной».
Утес, крутой и черный,
Над гладью рейнских вод.
Устало и упорно
Наверх она идет.
И рыцари, по крупам
Похлопавши коней,
По каменным уступам
Идут вослед за ней.
И сверху возгласила:
«Вон челн внизу плывет!
И в том челне мой милый
Меня, наверно, ждет.
Конечно, он за мною
Привел сюда челнок!»
Встает над крутизною
И прыгает в поток!
Три рыцаря в смятенье
С утеса не ушли.
Лежат без погребенья
Во прахе и в пыли.
Кто людям спел об этом?
Не рейнский ли рыбак?
Но над тройным скелетом
Звучит отныне так:
Лорелей!
Лорелей!
Лорелей!
Три двойника души моей[82].
* * *
«Одинокой смерти жду…». Перевод В. Топорова.
Одинокой смерти жду,
Состраданья не желая,
Потеряв свою звезду,
Ни на что не уповая,
Одинокой смерти жду,
Смерти путника в пустыне.
Одинокой смерти жду,
Смерти путника в пустыне,
Потеряв свою звезду,
Потеряв свою святыню,
Одинокой смерти жду,
Смерти нищего в несчастье.
Одинокой смерти жду,
Смерти нищего в несчастье,
Потеряв свою звезду,
Не теряя к ней пристрастья,
Одинокой смерти жду,
Смерти дня в вечерних бликах.
Одинокой смерти жду,
Смерти дня в вечерних бликах,
Потеряв свою звезду
В сонмах звезд тысячеликих,
Одинокой смерти жду,
Смерти узника в темнице.
Одинокой смерти жду,
Смерти узника в темнице,
Потеряв свою звезду,
Не престав по ней томиться,
Одинокой смерти жду,
Смерти лебедя певучей.
Одинокой смерти жду,
Смерти лебедя певучей,
Потеряв свою звезду
За могильно-черной тучей,
Одинокой смерти жду,
Смерти в море-океане.
Одинокой смерти жду,
Смерти в море-океане,
Потеряв свою звезду,
Сохранив одно страданье,
Одинокой смерти жду,
Смерти Веры в час унылый.
Одинокой смерти жду,
Смерти Веры в час унылый,
Потеряв свою звезду,
Одинокий и постылый,
Одинокой смерти жду,
Смерти сердца в сердце милой!
* * *
«Тихо-тихо тук-тук-тук…». Перевод В. Топорова.
«Тихо-тихо тук-тук-тук…
Милый друг, а ну как вдруг,
Чуть задремлют все вокруг,
Я с дверей откину крюк?
С посещеньем не тяни!
Будь как тень в ночной тени!
Но не вскрикни, не чихни:
Мать проснется — и ни-ни.
Половицы щелк да щелк.
Песик спит, но зол, как волк.
Прокрадись, — есть в этом толк,—
Как блоха в невестин шелк!
Ты, конечно, парень-хват,
Но в сенях стоит ушат,
Чуть заденешь — и назад,
Прочь, куда глаза глядят!
Лестница — твой первый враг:
Все ступеньки кое-как,
Лишь один неверный шаг,
И мгновенно — бряк во мрак!
Туфли скинь свои. Без них
Поднимись, в чулках одних.
Встретишь няньку — двинь под дых:
Нянька верит в домовых.
Главное, не спутай дверь.
Рядом спит батрак. Он зверь.
Коль не веришь, то проверь,
Но коль хочешь жить — поверь.
Не взбирайся на чердак:
Братец там. По части драк,
Как известно, не дурак.
Он сильнее, чем батрак.
Постучись ко мне, друг мой.
Постучись, шепни: „Открой!“
Не открою, дорогой!
„Караул, — вскричу, — разбой!“
Тут же мать, батрак и брат
К вертопраху поспешат.
Мне милее битый зад,
Чем крестины невпопад…»
Но иначе все пошло.
Платье сделалось мало.
Девять месяцев прошло.
Родилось дитя мало.
* * *
«Мария, куда ты вечор уходила?..». Перевод В. Топорова.
Мать.
Мария, куда ты вечор уходила?
Мария, любимая дочь!
Мария.
Я старую бабку проведать ходила.
Родная, мне тяжко дышать!
Мать.
А чем тебя бабка твоя угощала?
Мария, любимая дочь?
Мария.
Копченой селедкой она угощала.
Родная, мне тяжко дышать!
Мать.
А где же старуха селедку поймала?
Мария, любимая дочь!
Мария.
На грядке капустной в своем огороде.
Родная, мне тяжко дышать!
Мать.
А чем же она в огороде удила?
Мария, любимая дочь!
Мария.
Своими руками да ивовой веткой.
Родная, мне тяжко дышать!
Мать.
Куда же объедки потом подевались?
Мария, любимая дочь!
Мария.
Их слопала черная собачонка.
Родная, мне тяжко дышать!
Мать.
Куда ж собачонка потом подевалась?
Мария, любимая дочь!
Мария.
На тысячи мелких кусков разлетелась.
Родная, мне тяжко дышать!
Мать.
Мария, куда ж положить тебя на ночь?
Мария, любимая дочь!
Мария.
На кладбище наше, в сырую землицу.
Родная, мне тяжко дышать!
***
«Едва ты кончила дышать…». Перевод В. Топорова.
Едва ты кончила дышать,
Как начал я томиться
И дал обет: не целовать
Вовек иной девицы.
Мои желания сильны,
В них жизнь и страсть едины!
Увы!., к тебе устремлены
И потому — невинны.
О, как тебя недостает!
Зачем я пел, бахвалясь,
Тебе и миру, жалкий мот,
О том, как мы сливались.
И ласки наши, как слова,
Свое презрели право:
Речь пресыщения трезва,
А голод — хмель, отрава.
Едва ты кончила дышать,
Как начал я молиться,
Чтоб обратилось время вспять
Иль страсть — к иной девице.
Я полон сил, мой жарок пыл,
Смелы мои объятья,
Но я тебе не изменил,
Хоть женщин стал менять я.
Бредут высокою тропой
Весталок вереницы,
Но обладание тобой
Мне грезится и снится.
ПЕСНЬ РЕЙНУ. Перевод В. Микушевича.
О ветер прохладный,
О лепет волны,
О берег отрадный,
Где мы рождены!
О зелень земная
В лазури небес!
Тебя вспоминая,
Я сердцем воскрес.
Раздумья! Как лозы,
Обвейтесь вокруг!
Здесь ласковы грозы,
И ветер мне друг.
Почти неприметный,
Над сердцем моим
Лепечет, приветный,
Что здесь я любим.
Небесные дали,
Как в райском саду;
И в люльке мне дали
Оттуда звезду.
О Рейн благодатный!
Ты вечно в пути.
Покой невозвратный
Ты мне возврати.
И в смутной надежде,
Хоть мельницы нет,
Стучит, как и прежде,
Мне сердце в ответ.
Отец, как тревожно
Блуждал я вдали,
Сказать невозможно,
Но ты мне внемли.
В твоем обаянье
Я здесь наконец.
Ты в лунном сиянье
Прими мой венец.
* * *
«Соловушка, бывало…». Перевод В. Микушевича.
Соловушка, бывало,
Нам пел во тьме ночной,
Ты был тогда со мной,
И я не тосковала.
Мне слезы лить негоже.
За прялкою пою,
И месяц нить мою
С небес увидел тоже.
Соловушка, бывало,
Нам пел во тьме ночной.
Как больно мне одной!
А птице горя мало.
И светит месяц тоже
Тебе в чужом краю.
Храни любовь мою,
Соедини нас, Боже!
А птица, как бывало,
Поет во тьме ночной.
Ты прежде был со мной,
И я не тосковала.
Соедини нас, Боже,
Храни любовь мою!
За прялкою пою
И с песней плачу тоже.
СЕРЕНАДА. Перевод В. Куприянова.
Льется, плачет флейта снова,
И ручей звенит глубокий.
Причитанья золотого
Слушай чистые упреки!
Просьба, сказанная нежно,
Не останься без ответа!
Ночь вокруг меня безбрежна,
Песня в ней — как проблеск света
ВЕСЕЛЫЕ МУЗЫКАНТЫ. Перевод В. Микушевича.
В своем искусстве мы не плохи.
Обходим город по ночам,
И, как веселые сполохи,
Погудки наши здесь и там.
Рокочет, хохочет
В ночи тамбурин;
Птенцы-бубенцы —
Не молчит ни один;
Тут же цимбалы,
Как зазывалы;
Незваный звон —
Как странный сон.
Трели свирели
Сердце задели:
Радость и боль…
Слушать изволь!
Мы заиграем серенаду,
И сразу в окнах свет зажгут,
И сверху бросят нам награду
За наш ночной веселый труд.
До нашей музыки охочи
В своих покоях стар и млад:
Всех завлекает среди ночи
Наш колдовской певучий лад.
Мы ровно в полночь подоспели,
Как пробило двенадцать раз,
И вот уже, вскочив с постели,
Заслушалась девица нас.
Когда в своей укромной спальне
Вдвоем с невестою жених,
Мы ближней улице и дальней
Во мраке будем петь о них.
На свадьбах мы своим напевом
Всем угождали до сих пор.
Хмельным гостям и нежным девам
Отраден был наш звонкий хор.
Однако взгляды нестерпимы,
И не для нас горят огни,
И мы поем, пока незримы,
Как соловьи в ночной тени.
Дочь.
Мне был бы мрак милее вечный.
Утрачен друг, отец убит;
Вам сладок мой напев беспечный,—
От слез моих мой хлеб горчит.
Мать.
Что мрак, что свет — мне все едино
От слез ослепла я давно.
В поводыри взяла я сына,
В цимбалы бить мне все равно.
Оба брата.
Какие вывожу я трели,
Когда меня трясет озноб!
Так мне погудки надоели,
Что предпочел бы лечь я в гроб.
Мальчик.
Как весело! Сломал я ногу,
Несет меня моя сестра.
Бью в тамбурин я, слава богу!
Развеселиться всем пора.
Рокочет, хохочет
В ночи тамбурин;
Птенцы-бубенцы —
Не молчит ни один;
Тут же цимбалы,
Как зазывалы;
Незваный звон —
Как странный сон.
Трели свирели
Сердце задели:
Радость и боль…
Слушать изволь!
АДЕЛЬБЕРТ ШАМИССО.
Адельберт Шамиссо (1781–1833). — Один из ярких представителей прогрессивного немецкого романтизма Адельберт фон Шамиссо, сын родовитого французского графа, изгнанного революцией из своих поместий, обрел в Германии новую родину, сохранив, однако, уважение к французской демократической культуре и революционным традициям французского народа. Всемирную известность Шамиссо принесла повесть «Удивительная история Петера Шлемиля» (1813). Своеобразие места Шамиссо в немецкой поэзии 1820–1830-х годов естественнее всего объясняется его близостью как к французской (Беранже), так и к немецкой (Уланд) поэтическим традициям. Н. В. Гербель, написавший первый очерк творчества Шамиссо на русском языке, отметил, что его лирическая поэзия «отличается необыкновенной нежностью и благородством чувств, а равно простотою и свежестью форм». Многие стихи Шамиссо стали популярными песнями, лирический цикл «Любовь и жизнь женщины» был положен на музыку Р. Шуманом. На русский язык поэзию Шамиссо переводили А. Майков, В. Жуковский, М. Михайлов и др.
ВЕСНА. Перевод В. Куприянова.
Земля пробудилась, приходит весна,
Вокруг расцветают цветы.
Душа моя снова от песен тесна,
И вновь я во власти мечты.
Сияя, встает над полями рассвет,
И ветер с листвой не суров.
А мне все казалось, что волос мой сед,
Нет, это пыльца от цветов.
И птицы вовсю гомонят без конца,
Их щебет звенит надо мной.
И нет седины, это просто пыльца,
Я счастлив, как птицы весной.
Земля пробудилась, приходит весна,
Вокруг расцветают цветы.
Душа моя снова от песен тесна,
И вновь я во власти мечты.
МЕЛЬНИЧИХА. Перевод Ю. Левина.
Мельница машет крылами.
Буря свистит и ревет,
А мельничиха ручьями
Горючие слезы льет.
«Я верила буйному ветру,
Что свищет, колеса крутя;
Я верила клятвам беспечным —
Несмысленное дитя!
Лишь ветер верен остался,
А клятвы — мякина одна.
Где тот, кто мне в верности клялся?
Я брошена, разорена…
Кто клялся, того уже нету,
Безвестны его пути.
Искал его ветер по свету,
Да так и не смог найти».
ТРАГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ. Перевод М. Замаховской.
Жил человек. Он был смущен,
Что сзади косу носит он:
Другую бы прическу!
И он решил: «Сейчас рискну —
Дай поверчусь, ее стряхну…»
Болтается косичка!
Он быстро колесом кружит,
Но все по-прежнему дрожит,
Болтается косичка!
Вертится он на новый лад,
Но уверяет стар и млад:
Болтается косичка!
Он вправо, влево и кругом —
Ни в том нет толку, ни в другом:
Болтается косичка!
Он закружился, как волчок,—
Все невпопад и все не впрок:
Болтается косичка!
Так он кружится до сих пор
И думает: «Отскочит! Вздор!»
Болтается косичка!..
ЗАМОК БОНКУР[83]. Перевод Е. Витковского.
[83].
Закрою глаза и грежу,
Качая седой головой:
Откуда вы, призраки детства,
Давно позабытые мной?
Высоко над темной равниной
Замок, мерцая, встает —
Знакомые башни, бойницы
И арка высоких ворот.
Каменный лев печально
На меня устремляет взор —
Я приветствую старого друга
И спешу на замковый двор.
Там сфинкс лежит у колодца,
Растет смоковница там,
За этими окнами в детстве
Я предавался мечтам.
Вот я в часовне замка,
Где предков покоится прах, —
В сумрачном склепе доспехи
Висят на темных стенах.
Глаза туман застилает,
И не прочесть письмена,
Хоть ярко горят надо мною
Цветные стекла окна…
Мой замок, ты высечен в сердце
Пускай ты разрушен давно;
Над тобою крестьянскому плугу
Вести борозду суждено.
Благословляю пашню
И каждый зеленый всход,—
Но трижды благословляю
Того, кто за плугом идет.
А ты, моя верная лира,
Вовеки не умолкай,—
Я буду петь мои песни,
Шагая из края в край.
ДЕВУШКА ИЗ КАДИКСА. Перевод В. Топорова.
«Неужели от испанки
Ждешь вниманья безрассудно,
Серенады распевая
Под надзором у француза?
Прочь! Я знаю вас — кичливых
И трусливых андалузцев!
Нам бы шпаги, вам бы спицы —
Мы б не праздновали труса!
Если даже сами шпаги —
Предков гордое оружье —
В бок толкнут вас: „Хватит дрыхнуть!“,
Вы ответите: „Так нужно!“
Если даже чужеземный
Бич хлестнет по вашим шкурам —
Лишь попятитесь покорно,
Лишь потупитесь понуро!»
«Сеньорита, ваши речи
Прозвучали слишком круто.
Или стали чужеземцу
Вы любезною подругой?»
«Бедный! Даже предо мною
Он сробел! Какая скука!
А француза заприметит —
Тут же к мамочке под юбку!»
«Сеньорита, вы ошиблись,
Вы насмешница и злючка.
Если встречу я француза,
То убью собственноручно».
«Ты — убьешь? Вот это мило!
Но, увы, поверить трудно.
Вон француз идет! А впрочем,—
Слишком крепкий, слишком крупный!»
В тот же миг, сражен ударом,
Галльский воин наземь рухнул,
А влюбленному испанцу
Палачи связали руки.
Сеньорита засмеялась:
«Эта шутка мне по вкусу —
Я отвадила невежу,
А платить пришлось французу!»
Андалузец на прощанье
Поклонился ей угрюмо
И ушел, не обернувшись,
С чистым сердцем, с тяжкой думой.
«Не от вас, о чужеземцы,
Смерть приму я хмурым утром,
Не за то, что эту землю
Кровью я залил пурпурной.
Нет, я ранен был смертельно
Страстью к деве равнодушной —
Госпожа меня судила,
Госпоже я отдал душу».
Так твердил он по дороге
Палачам, печальный путник.
Но послышалась команда,
И его прошили пули.
ИНВАЛИД В СУМАСШЕДШЕМ ДОМЕ[84]. Перевод В. Микушевича.
[84].
Лейпциг, Лейпциг! Скверный город!
Изувечен я в бою
За свободу, за свободу!
Кровь зачем ты пил мою?
За свободу! За свободу!
Был храбрейшим я в полку.
Череп сабельным ударом
Раскроили дураку.
И валялся я, а рядом
Битва бедственная шла.
Ночь могильною плитою
Опустилась на тела.
Боль меня приводит в чувство.
Хуже нет на свете мук.
Я в смирительной рубашке,
И смотрители вокруг.
Где ты, где, моя свобода,
Кровью купленный удел?
Бьет меня кнутом смотритель,
Чтобы смирно я сидел.
ЛЮБОВЬ И ЖИЗНЬ ЖЕНЩИНЫ. (Из цикла). Перевод П. Грицковой. «Как забыть? Не знаю…».
Как забыть? Не знаю.
И в глазах черно.
Я давно страдаю,
Вижу лишь одно.
Жду его напрасно,
Но из темноты
Проступают ясно
Милые черты.
Не хочу играть я,
Белый свет поблек.
Что наряды, платья,
Если он далек?
Тихо отворяю
В сумерках окно.
Как забыть? Не знаю.
Вижу лишь одно.
* * *
«Никак не поверю в это…».
Никак не поверю в это:
За что же лишь я одна
Любовью его согрета,
Возвышена, окрылена?
Днем и глухими ночами,
Будь то во сне, наяву,
Дышу лишь его речами,
Признаньем его живу.
Я благость любви вкусила,
Прижавшись к его груди.
И мне не страшна могила
И вечная тьма впереди.
ИГРУШКА ВЕЛИКАНШИ. Перевод Л. Гинзбурга.
В Эльзасе замок Нидек был славен с давних пор
Обитель великанов, детей могучих гор.
Давно разрушен замок — не сыщешь и следа,
И сами великаны исчезли навсегда.
Однажды, — это было в забытый, давний год,—
Дочь великана вышла из крепостных ворот,
Спустилась по тропинке, увлечена игрой,
И вскоре очутилась в долине, под горой.
Сады, луга и нивы — все незнакомо ей.
Близ Гаслаха достигла она страны людей.
И города, и села, и пастбища, и лес
Предстали перед нею, как чудо из чудес.
Нагнулась великанша, и, радости полна,
Крестьянина и лошадь заметила она.
Потешное созданье возделывало луг,
Стальными лемехами сверкал на солнце плуг.
«Ах, что за человечек! И лошадь — с ноготок!»
И девочка достала свой шелковый платок.
Находку завернула и с этим узелком
Вприпрыжку побежала в свой замок прямиком.
Домой она приходит, открыла дверь и вот
С веселою улыбкой родителя зовет:
«Отец! Взгляни, какую игрушку я нашла!
О, как она забавна и до чего мила!..»
Охваченный раздумьем старик отец сидел.
Вина из кубка отпил, на дочку поглядел:
«Да что там копошится? А ну-ка, покажи,
Свой шелковый платочек скорее развяжи».
И бережно достала она из узелка
Забавную игрушку — седого мужика.
Поставила на столик коня его и плуг
И, хлопая в ладоши, забегала вокруг.
Но тут старик родитель нахмурился как ночь:
«Нет, это — не игрушка! Что сделала ты, дочь?
Не медля ни мгновенья, назад его снеси.
Крестьянин — не игрушка! Господь тебя спаси.
Когда бы не крестьянин — не труд его, заметь,—
Без хлеба нам с тобою пришлось бы умереть.
И навсегда запомни, что великанов род
В веках свое начало от мужиков берет!»
…В Эльзасе замок Нидек был славен с давних пор
Обитель великанов, детей могучих гор.
Давно разрушен замок — не сыщешь и следа,
И сами великаны исчезли навсегда.
ЛЮДВИГ УЛАНД.
Людвиг Уланд (1787–1862). — Один из самых популярных в XIX веке немецких романтиков, в поэзии которого Эйхендорф видел «кульминацию романтической лирики», Гейне — обобщающий итог творческой деятельности «романтической школы» в Германии, а Ф. Геббель в 1857 году отводил ему место «первого поэта современности». Уланд был ведущим поэтом Вюртембергского романтического кружка, в который входили Ю. Кернер, К.-Г. Кёстлин, К. Майер, Г. Шваб и др. К середине XX века Уланда почти забыли, но сейчас интерес к нему снова растет. Важнейшие качества его поэзии — глубокий демократизм содержания и сознательное стремление к народности и ясной простоте формы. Основу поэтической славы Уланда составил изданный в 1815 году сборник «Песен и баллад», который, пополняясь время от времени новыми стихотворениями, только при жизни Уланда выдержал свыше сорока изданий. В жанровом и тематическом плане поэзия Уланда чрезвычайно многообразна, но в XIX веке наиболее популярны были его стихотворения в духе народной песни и баллады, а также актуальная политическая лирика. К его творчеству обращались многие композиторы, в том число И. Брамс, Ф. Лист, Ф. Мендельсон, Ф. Шуберт, Р. Шуман.
ЗАМОК У МОРЯ. Перевод В. Левика.
«Ты видел замок, в море
Глядящий с утесов крутых,
Весь в легком, прозрачном уборе
Из тучек золотых?
Хотел бы он склониться
Играющим волнам на грудь,
Хотел бы в тучах скрыться,
В вечерней заре потонуть…»
«Я видел замок, в море
Глядящий с крутизны.
Над ним я видел и зори,
И в небе — серп луны».
«А весел был грохот прибоя,
Был звучен гул ветров?
Был радостен в мирных покоях
Шум празднеств и пиров?»
«Нет, волны в море спали,
Спал ветер крепким сном,
Лишь кто-то в глубокой печали
Пел песню за окном».
«Бродил ли по сводчатым залам
Король с королевой своей?
Ты видел их в бархате алом,
В венцах из заморских камней?
Была ли дочь их с ними,
Сияла ли юной красой,
Очами голубыми
И золотою косой?»
«Нет, были родители в горе,
Наряд их ничем не блистал.
Я видел их в черном уборе,
Но дочери я не видал».
ТРИ ПЕСНИ[85]. Перевод В. Жуковского.
[85].
«Споет ли мне песню веселую скальд»?
Спросил, озираясь, могучий Освальд.
И скальд выступает на царскую речь,
Под мышкою арфа, на поясе меч.
«Три песни я знаю: в одной старина!
Тобою, могучий, забыта она;
Ты сам ее в лесе дремучем сложил;
Та песня: отца моего ты убил.
Есть песня другая: ужасна она;
И мною под бурей ночной сложена;
Пою ее ранней и поздней порой;
И песня та: бейся, убийца, со мной!»
Он в сторону арфу и меч наголо,
И бешенство грозные лица зажгло,
Запрыгали искры по звонким мечам,—
И рухнул Освальд — голова пополам.
«Раздайся ж, последняя песня моя:
Ту песню и утром и вечером я
Греметь не устану пред девой любви;
Та песня: убийца повержен в крови».
ХОРОШИЙ ТОВАРИЩ[86]. Перевод В. Левика.
[86].
Был у меня товарищ,
Вернейший друг в беде.
Труба трубила к бою,
Он в ногу шел со мною
И рядом был везде.
Вот пуля просвистела,
Как будто нас дразня.
Мне ль умереть, ему ли?
Он, он погиб от пули —
Часть самого меня.
Упал, раскинув руки,—
Объятья мне раскрыв,
И не обнимет боле…
Но пусть лежишь ты в поле,
Мой друг, — ты вечно жив!
ХОЗЯЙКИНА ДОЧЬ. Перевод В. Левика.
Три парня по Рейну держали свой путь,
К знакомой хозяйке зашли отдохнуть.
«Дай пива, хозяйка, вина принеси,
Красавицу дочку к столу пригласи».
«Я пива подам и вина вам налью,
Но в саван одела я дочку мою».
И в горницу входят они, не дыша.
Лежит там во гробе девица-душа.
Один покрывало откинул с лица,
И смотрит, и мог бы смотреть без конца.
«Ах, если б увидеть могла ты меня,
Тебя полюбил бы я с этого дня!»
Другой покрывалом закрыл ее вновь,
Заплакал, свою провожая любовь.
«Как рано ты божий покинула свет!
Тебя ведь любил я, любил столько лет!»
И третий покровы откинул опять,
И мертвые губы он стал целовать.
«Тебя я любил и прощаюсь, любя,
И буду любить до могилы тебя!»
ГРАФ ЭБЕРШТЕЙН. Перевод И. Грицковой.
Дворец королевский. Ликуют фанфары,
В сиянии факелов кружатся пары,
Возгласы, выкрики, звон хрусталя.
Граф Эберштейн с дочерью короля
Весь вечер танцуют, резвясь и шаля.
Лишь музыка грянула с новою силой,
Она ему шепчет: «Граф Эберштейн, милый,
Я признаюсь, не скрывая стыда,
Что ты понапрасну приехал сюда.
Дворцу твоему угрожает беда».
И понял граф Эберштейн в то же мгновенье,
Что хочет владыка расширить владенье.
«Ловко же вы заманили меня!
Танцы, вино — хороша западня!»
Граф Эберштейн спешно седлает коня.
Он к замку подъехал. Ярятся набаты,
Бряцают багры, топоры и лопаты.
«Тесни лиходеев! Хватайте воров!»
И валятся вороги в огненный ров.
Граф Эберштейн нынче жесток и суров.
Наутро король появился со свитой,
Заранее лаврами славы увитый.
И что же он видит? Рассеялся дым,
Граф Эберштейн весел, он цел-невредим,
И верное войско по-прежнему с ним.
Король возмутился, смутился, опешил,
Но Эберштейн быстро владыку утешил:
«О нашей размолвке забыть я не прочь.
Ты в жены отдашь мне прелестную дочь.
Мы свадьбу сыграем сегодня же в ночь».
В замке у графа ликуют фанфары,
В сиянии факелов кружатся пары,
Возгласы, выкрики, звон хрусталя.
Граф Эберштейн с дочерью короля
Танцуют, резвятся, шутя и шаля.
Он обнял ее, и прижал к себе лихо,
И шепчет ей на ухо нежно и тихо:
«Мне это признание стоит труда,
Но все же скажу, не скрывая стыда,—
Дворцу короля угрожает беда».
К РОДИНЕ[87]. Перевод А. Гугнина.
[87].
К тебе, Отчизне возрожденной,
Устремлена мечта моя!
Надеждой новой окрыленный,
Твою свободу славлю я.
Ты кровью истекла в сраженьях.
О, сколько пало жертв святых! —.
Теперь найдешь ли утешенье
В моих мелодиях простых?
ПРОКЛЯТИЕ ПЕВЦА[88]. Перевод В. Левика.
[88].
Когда-то гордый замок стоял в одном краю.
От моря и до моря простер он власть свою.
Вкруг стен зеленой кущей сады манили взор,
Внутри фонтаны ткали свой радужный узор.
И в замке том воздвигнул один король свой трон.
Он был угрюм и бледен, хоть славен и силен.
Он мыслил только кровью, повелевал мечом,
Предписывал насильем и говорил бичом.
Но два певца однажды явились в замок тот —
Один кудрями темен, другой седобород.
И старый ехал с арфой, сутулясь на коне.
А юный шел, подобен сияющей весне.
И тихо молвил старый: «Готов ли ты, мой друг?
Раскрой всю глубь искусства, насыть богатством звук.
Излей все сердце в песнях — веселье, радость, боль,
Чтобы душою черствой растрогался король».
Уже певцы в чертоге стоят среди гостей.
Король сидит на троне с супругою своей.
Он страшен, как сиянье полярное в ночи,
Она луне подобна, чьи сладостны лучи.
Старик провел по струнам, и был чудесен звук.
Он рос, он разливался, наполнил все вокруг.
И начал юный голос — то был небесный зов,
И старый влился эхом надмирных голосов.
Они поют и славят высокую мечту,
Достоинство, свободу, любовь и красоту,
Все светлое, что может сердца людей зажечь,
Все лучшее, что может возвысить и увлечь.
Безмолвно внемлют гости преданьям старины,
Упрямые вояки и те покорены,
И королева, чувством захвачена живым,
С груди срывает розу и в дар бросает им.
Но, весь дрожа от злобы, король тогда встает:
«Вы и жену прельстили, не только мой народ!»
Он в ярости пронзает грудь юноши мечом,
И вместо дивных песен кровь хлынула ключом.
Смутясь, исчезли гости, как в бурю листьев рой.
У старика в объятьях скончался молодой.
Старик плащом окутал и вынес тело прочь,
Верхом в седле приладил и с ним пустился в ночь.
Но у ворот высоких он, задержав коня,
Снял арфу, без которой не мог прожить и дня.
Ударом о колонну разбил ее певец,
И вопль его услышан был из конца в конец:
«Будь проклят, пышный замок! Ты в мертвой тишине
Внимать вовек не будешь ни песне, ни струне.
Пусть в этих залах бродит и стонет рабий страх,
Покуда ангел мести не обратит их в прах!
Будь проклят, сад цветущий! Ты видишь мертвеца?
Запомни чистый образ убитого певца.
Твои ключи иссякнут, сгниешь до корня ты,
Сухой бурьян задушит деревья и цветы.
Будь проклят, враг поэтов и песен супостат!
Венцом кровавой славы тебя не наградят,
Твоя сотрется память, пустым растает сном,
Как тает вздох последний в безмолвии ночном».
Так молвил старый мастер. Его услышал бог.
И стены стали щебнем, и прахом стал чертог.
И лишь одна колонна стоит, еще стройна,
Но цоколь покосился, и треснула она.
А где был сад зеленый, там сушь да зной песков,
Ни дерева, ни тени, ни свежих родников.
Король забыт, он — призрак без плоти, без лица.
Он вычеркнут из мира проклятием певца!
ЖНИЦА[89]. Перевод В. Левика.
[89].
«День добрый, Мария! Так рано уже за работой!
Хоть ты влюблена, а работаешь с прежней охотой.
Попробуй — в три дня за болотом скоси луговину.
Клянусь, я в супруги отдам тебя старшему сыну!»
Так молвил помещик, и, речи услышав такие,
Как птица, забилось влюбленное сердце Марии.
Явилась в руках ее новая чудная сила.
Как пела коса в них, как шумные травы косила!
Уж полдень пылает. Жнецы притомились, устали,
К ручью потянулись, в тени собрались на привале.
Лишь трудятся пчелы, жужжат и не знают покоя.
И трудится с ними Мария, не чувствуя зноя.
Спускается вечер, разносится звон колокольный.
Соседи кричат ей: «Бросай! На сегодня довольно!»
Прошло уже стадо, и время косцам расходиться.
Но, косу отбив, продолжает Мария трудиться.
Вот звезды зажглись, засверкали вечерние росы,
Запел соловей, и сильнее запахли покосы.
Мария не слушает пенья, без отдыха косит,
Без отдыха косу над влажной травою заносит.
Так ночь миновала, и солнце взошло над вселенной.
Не пьет и не ест она, сытая верой блаженной.
Но третьим рассветом просторы зажглись луговые,
И косу бросает, и радостно плачет Мария.
«Здорово, Мария! Скосила? Ну, ты молодчина!
Тебя награжу я богато, но замуж за сына…
Глупышка! Да это ведь в шутку я дал тебе слово.
Как сердце влюбленное сразу поверить готово!»
Сказал и пошел. У Марии в глазах потемнело.
Прилежные руки бессильно повисли вдоль тела.
Все чувства затмились, дыханье пресеклось от боли.
Такой, возвращаясь, нашли ее женщины в поле.
Текут ее годы в безмолвном, глухом умиранье.
И ложечка меда — дневное ее пропитанье.
О, пусть на лугу на цветущем ей будет могила!
Где в мире есть жница, которая так бы любила?
НОВАЯ СКАЗКА. Перевод А. Гугнина.
В царстве сказки думал снова
Золотым отдаться снам,
Дух поэзии сурово
Лиру мне настроил сам.
Я назвал свободой фею,
Право — рыцарь будет мой.
Славный рыцарь, в бой смелее —
Сокрушим драконов рой!
НА МОСТУ НАД БИДАССОА. Перевод В. Левика.
На мосту над Бидассоа
К небу длань святой простер.
Слева — ширь долин французских,
Справа — цепь испанских гор.
Он людей благословляет
Здесь, на трудном их пути,
Где покинувший отчизну
Скорбно молвит ей: «Прости!»
На мосту над Бидассоа
Некий лик волшебный зрим.
Для одних он дышит гневом,
Но сияет он другим.
Тем сулит он лишь пустыни,
Этим — вешние луга.
Всем чужбина безотрадна,
Всем отчизна дорога.
Мирно плещет Бидассоа,
Ждет стада на водопой.
А в горах еще стреляют,
А в горах — последний бой.
И в вечернем полумраке
Сходит вольница к реке.
Знамя пулями пробито.
След кровавый на песке.
На мосту над Бидассоа,
Ружья праздные сложив,
Все в реке омыли раны,
Сосчитали тех, кто жив.
Ждут неприбывших, отставших.
Ждут ушедших в вечный мир.
Барабан гремит, и гордо
Молвит старый командир:
«Час настал! Сверните знамя —
Это был свободы стяг.
Не впервые на границу
Оттеснил нас подлый враг.
Но свободу мы в изгнанье
Увели не навсегда!
Не померкла наша слава,
Наша светит нам звезда.
Мина, ты, в боях за вольность
Смерть видавший столько раз,—
Ты один не тронут пулей
В день, губительный для нас.
Ты — Испании спаситель,
Ты надежда для нее.
Мы уходим, чтоб вернуться,
Мы не бросили ружье!»
Но встает, шатаясь, Мина,
Молчалив и бледен сам.
Шлет прощальный взгляд он небу
И своим родным горам.
Прижимает к сердцу руку,
А в глазах его туман.
На мосту над Бидассоа
Кровь течет из старых ран.
ПОТОНУВШАЯ КОРОНА. Перевод В. Левика.
На том холме высоком
Стоит крестьянский дом,
С порога — вид просторный,
Леса, поля кругом.
Сидит крестьянин вольный
У своего крыльца.
Спокойно точит косу,
Благодарит творца.
А под холмом — низина,
И пруд в низине той.
На дне лежит корона,
Сверкает под водой.
В лучах луны сверкая,
Лежит уж много лет,
И никому на свете
До ней и дела нет.
ПОСЛЕДНИЙ ПФАЛЬЦГРАФ. Перевод А. Гугнина.
Я — пфальцграф Гёц. Я весь в долгах,
Но заплачу с лихвой:
Продам угодья, и людей,
И замок родовой.
Лишь два старинных права мне
Дороже, чем мой дом.
В святом монастыре — одно,
Одно — в лесу густом.
Я щедрым был к святым отцам,
Пока я был богат.
Собаку с ястребом теперь
Прокормит пусть аббат.
В лесах вокруг монастыря
Охочусь с давних пор.
Как прежде, будет рог трубить,
Все остальное — вздор.
Но миг придет, умолкнет рог,
Смежит мне веки сон,
И выйдут иноки к ручью
Под колокольный звон.
Под сенью дуба вековой
Зароют грешный прах.
Мне вечно будут птицы петь
И полчаса — монах.
ВЕШНЯЯ ВЕРА. Перевод А. Голембы.
В цветеньях, в нежности весны
Ветвей развеянные сны:
Забыты прежние святыни,
Весенний ветер гонит грусть,
О сердце бедное, не трусь:
Все переменится отныне!
Мир все прекрасней с каждым днем,
Свершится все, чего мы ждем,
Плывет весна по горней сини,—
Цветы покрыли дол и даль,
О сердце, позабудь печаль:
Все переменится отныне!
НОВАЯ МУЗА. Перевод А. Гугнина.
Без охоты, но послушно
Я законы изучал —
Лишь за рифмою воздушной
Я ни разу не скучал.
Аполлону с Артемидой
Долго я пером служил,
Только в честь слепой Фемиды
Я ни строчки не сложил.
В час, суровый для Отчизны,
Музы строгие пришли
И, взывая к новой жизни,
Новый стих в душе зажгли.
Твой, Фемида, час настанет! —
День и ночь пою о ней.
Скоро суд народный грянет
И осудит королей!
А. Ш.[90]. Перевод А. Гугнина.
[90].
Когда волна и ветер, разъярясь,
В кромешной тьме закончат смертный бой
И Гелиос сияющий взойдет —
Тогда, грозя, отступит океан,
Но долго пенится прибой, ворча,
Обломками швыряясь на песок;
А с неба свет струится золотой,
Прозрачен воздух, улеглась волна,
Иные корабли выходят в дальний путь,
И ветер легкий ладит взмах весла.
ОСЕННЯЯ ПАУТИНКА. Перевод А. Гугнина.
Вослед за летом уходящим
Мы шли желтеющей тропой.
Воздушной феи дар летящий
Связал чуть зримо нас с тобой.
Я эту нить ловлю смущенно:
Вот добрый знак в столь важный час…
О вы, надежды всех влюбленных,
Зефир — ваш друг. Кто против вас?
НАПУТСТВИЕ. Перевод А. Гугнина.
В глухую ночь, в морской кромешной мгле,
Когда корабль давно идет сквозь темень
И в темном небе не найдешь звезды,
Тогда на палубе чуть светит огонек,
В безумстве бури бережно спасенный,—
И компас различает рулевой
И, стрелку видя, верный держит путь.
О друг, свой огонек в душе храни,—
И мрак любой — не властен над тобою.
ИОЗЕФ ФОН ЭЙХЕНДОРФ.
Иозеф фон Эйхендорф (1788–1857). — Один из крупнейших немецких романтических поэтов Иозеф фон Эйхендорф особенно ярко выразил в своем творчестве лирическое восприятие природы, тоску по далекому идеалу. Выходец из старинной дворянской семьи, Эйхендорф в своих политических и религиозных взглядах так и не смог до конца освободиться от устаревших феодальных представлений. Но его глубокий поэтический талант разорвал сословные путы и привел его творчество к органическому слиянию с самым демократическим источником поэзии — народной песней, питавшей лирику многих немецких романтиков. Распространению поэзии Эйхендорфа при жизни значительно препятствовало то обстоятельство, что свой первый сборник стихов он выпустил в 1837 году — в пору очевидного заката романтизма, хотя в журналах и альманахах, в тексте прозаических произведений или в качестве приложений к ним стихи его публиковались с 1808 года. Популярность ряда стихотворений, правда, поддерживалась тем, что к ним обращались такие композиторы, как Ф. Мендельсон-Бартольди, Р. Шуман, И. Брамс. Заново поэзия Эйхендорфа была открыта во второй половине нашего века, и сейчас он — один из самых читаемых и почитаемых немецких романтиков.
ЗИМНИЙ СОН. Перевод А. Плещеева.
И снилось мне, что будто снова
Передо мною отчий дом;
Что я лежу в долине старой
С веселым, радостным лицом;
Что ветерок играет легкий
С листвой в полдневной тишине;
Что цвет летит с родных деревьев
На грудь и на голову мне…
Когда ж проснулся я — за лесом
Всходила тусклая луна;
Вокруг меня в сияньи бледном
Лежала чуждая страна…
И, озираясь, на деревьях
Я видел иней, а не цвет;
Поля покрыты были снегом,
И сам я был уж стар и сед.
ГНЕВ. Перевод В. Левика.
В старом доме обветшалом,
Лежа в мусоре плачевно,
Под лучом рассвета шалым
Щит и меч блеснули гневно.
Как молчат пиры и тризны,
Так доспехи смолкли в зале,
Где спасители отчизны
В годы бурь хозяевали.
Да, пришло другое племя —
Шнырят карлики по скалам,
Наглы в солнечное время,
Но трусливы перед шквалом.
Не стесняясь преступлений,
Кровь Христову продавая,
Без желаний, без стремлений
Канет в глубь времен их стая.
Ты один пребыл упорный,
Не запятнанный изменой.
Так бы мне в наш век позорный
Вспомнить о любви священной,
В небо кроной взмыв могучей,
В глубь утеса вдвинуть корни
И стоять, как дуб над кручей,
Устремленный к выси горней.
ПРОЩАНИЕ. Перевод А. Карельского.
Шум ночной уж полнит лес,
Мгла в его глубинах.
Бог украсил лик небес
Светом звезд невинных.
Тишина легла в низинах,
Шум ночной лишь полнит лес.
Так нисходит в мир покой:
Лес и дол смолкают,
Путник с робкою тоской
Дом свой вспоминает,
Свод лесной ниспосылает
И тебе, душа, покой.
ПЛАВАНЬЕ ПЕВЦА. Перевод А. Карельского.
В сиянии безмолвном
Лазурный свод высок,
И мчит по светлым волнам
Нас юности поток.
Мы — аргонавтов племя
На гордом корабле,
Плывем сквозь даль и время
К полуденной земле.
Со звонким кубком полным
У мачты я стою,
У мачты, вторя волнам,
Один за всех пою.
Друзья, как небо ясно!
А снидет вечерняя мгла —
О жизнь, как была ты прекрасна,
Как быстро ты протекла!
Пою леса, долины,
И замок над скалой,
И мудрые седины
Земли моей родной!
Вам все готов отдать я —
А я, как царь, богат —
Берите сердце, братья,
И жизнь — бесценный клад!
Счастливый путь вовеки!
То Рейн или Дунай —
Все праведные реки
Текут в блаженный край.
* * *
«Ушел я, мой свет…». Перевод А. Карельского.
Ушел я, мой свет, мы расстались,
Дитя, голубка моя,
Ушел, а с тобою остались
Лишь недруги, злобу тая.
Наш праздник — на это их станет
Развеют, — им что за печаль!
Ах, если любовь нас обманет,
Всего остального не жаль.
Поляны наши лесные,
Где мы бродили с тобой,
Притихли, как неживые,
И холоден их покой.
Над ними звезды без счета
Горят в холодной дали
И льют свою позолоту
На снежную грудь земли.
На сердце все неуютней,
Мертво и пустынно кругом;
И с трепетом взял я лютню —
Забыться в горе своем.
Забудусь ли только — не знаю.
Как холоден ветер ночной!
Спокойной ночи, родная,
Любовь да пребудет с тобой!
ПОЭТАМ. Перевод В. Левика.
Где судят честно, мыслят здраво,
Где для добра творят закон,
Где разум чтут и ценят право,
Там дух мой счастьем окрылен.
Но гибнет царство чистой веры,
Великолепье пало в прах,
Век беспощаден, злу нет меры,
И Красота ушла в слезах.
Наивность душ благочестивых,
Невеста божья, где она?
Бесстыдством умников ретивых,
Преступной шуткой сражена.
Где дом, в котором, всем на диво,
Душе открыт весь мир чудес,
И честен Труд, Любовь красива
И праздник жизни не исчез?
Где сам ты, странный тот ребенок,
Игрушки, детство, старый сад,
И ночь, и холодок спросонок,
И шепот звезд, и аромат?
Как ярко солнце там светило!
Но вянет век, он слаб и стар.
Лишь у поэта та же сила
И тот же в сердце юный жар.
И он не знает оскуденья,—
Пускай растлилось все кругом,
Господь от общего паденья
Спасает Сердце Мира в нем.
Тупую волю всех творений,
В земном и косном — бога след,
Любовью искупает гений,
Природой избранный поэт.
И Слово дал господь поэту,
Чтоб мог назвать он свет и тьму,
И строгий путь к добру и свету,
И радость — Неба дар ему.
Вверяя богу все невзгоды,
Свободно литься песнь должна,
Чтобы сердца в полет Свободы
Стремила звуками она.
И — Чести щит — поэт сурово
Разврат осудит, ложь и грязь.
Волшебной силой дышит Слово,
Из сердца чистого родясь.
От суесловья всех он дальше,
Безгрешность сердца он блюдет,
Чтоб не упасть в трясину фальши
Иль шуток плоских и острот.
Остерегись же, говорю я,
Иль станет божий дар грехом.
Не засти горний свет, торгуя
Вертлявым, суетным стихом.
Неси высокое служенье,
Оставь ничтожное судьбе
И дай живое выраженье
Всему, что истинно в тебе.
Но брезжит день. В кругу небесном
Последних звезд померкнул свет.
Мне так легко! Я добрым, честным
Всем шлю от сердца мой привет.
НОЧНОЕ ПРИВЕТСТВИЕ[91]. Перевод В. Левика.
[91].
1.
Как хорошо в ночную пору,
Гуляя с лютней при луне,
Глядеть, взойдя по косогору,
На дол, уснувший в тишине.
Все изменилось, все проходит,
А были, были времена!
Безмолвен лес. Одна лишь бродит
В чертогах буковых луна.
Нет виноградарей в долине,
Нет шумной пестроты труда,
Одни ручьи журчат и ныне
И серебрятся, как всегда.
Да соловей как бы очнется
От сна и трель уронит вдруг,
Иль шорох в листьях пронесется…
Но что напомнит этот звук?
Нет, отзвучать не может радость,
И от лучей, от блеска дня
В груди, как сон, как песни сладость,
Осталось что-то у меня.
Я лихо провожу по струнам,
И мнится, вмиг забыв покой,
Как прежде, внемлет песням юным
Моя девчушка за рекой.
2.
Словно дальний зов, волнуя,
По вершинам свет струится.
В жажде томной поцелуя
К ветви стала ветвь клониться.
Как тут все необычайно!
Голосами полон дол.
Каждый пел о прошлом тайно…
Так я ночь, всю ночь провел.
Не болтай, ручей, нет мочи!
Брезжит день, но что за счеты,
Если в волны лунной ночи
Кинул странник все заботы!
3.
Днем лучше идти!
В окошко девица
Мне вслед подивится.
Ручей на пути
Бежит себе мимо
Под песню свою,
Но голос любимой
Я вдруг узнаю.
Дитя, по ночам
Амур настороже.
Ты выйдешь — и что же:
Он скажет богам!
Те с неба — толпою
И все у ворот.
В твой дом за собою
Поэт их ведет.
ПРОЩАНИЕ (В ЛЕСУ ПОД ЛЮБОВИЦЕМ). Перевод А. Карельского.
О долы, холмы, дали,
О лес любимый мой,
Даруй мне в час печали
Молитвенный покой.
От вечного смятенья,
От суетного дня
Родной зеленой сенью,
Как встарь, укрой меня!
Рассвет над миром сонным
Свой теплый стелет дым,
Исходят птицы звоном,
И сердце вторит им:
Что наша скорбь в подлунной?
О чем жалеешь ты
Пред ликом этой юной,
Нетленной красоты?
И слово правды строгой
Мне шепчет каждый лист:
Иди прямой дорогой,
Будь духом тверд и чист.
Тем праведным заветам
Внимал я, не дыша,
И несказанным светом
Наполнилась душа.
Пусть завтра я, тоскуя,
Уйду к чужим богам,
На ярмарку людскую,
В докучной жизни гам,—
Но сердце я закрою
Для суеты земной,
Чтоб вечно быть душою
С тобой, мой рай лесной.
УТЕШЕНИЕ. Перевод А. Карельского.
Иль ты, сердце, не устало
Сожалеть о днях услад?
Ах, в нагие эти скалы
Тщетно я вперяю взгляд.
Неужели все умчалось —
Юность, песни и весна?
Лишь печаль в груди осталась,
Лишь тоской душа полна.
Птицы реют в поднебесье,
Корабли в морях плывут,
Белый парус, птичьи песни
Только горше грудь гнетут.
Где беспечные скитанья,
Дым ущелий, даль лесов,
Пестрых образов мельканье
И рожка манящий зов?
Неужели в мире этом
Не раскинет больше вновь
Полных золотом и светом
Нам шатров своих любовь?
О, утешься, дух усталый,
Озарись надеждой, взгляд!
Ведь, оставив эти скалы,
Мы вкусим еще услад!
ПЕРЕД ЗАКАТОМ. Перевод А. Карельского.
Дни счастья, дни страданий
Нелегок был наш путь.
От долгих всех скитаний
Присядем отдохнуть.
Уж меркнет вечер алый,
На дол истому льет.
Лишь в небе — запоздалый
Двух ласточек полет.
Сядь ближе, — пусть резвятся! —
Объемлет сумрак нас,
Легко и потеряться
В пустынный этот час.
О, как спокойны дали!
И пред зарей такой
Мы так с тобой устали…
Не смерти ль то покой?
ВЕРНОСТЬ. Перевод М. Замаховской.
Словно странник, что ночами
Слезы льет в чужом краю
И во сне за облаками
Видит родину свою,—
Я сквозь вешнее цветенье
За долиной, за горой
Слышу зов твой в отдаленье,
Вижу милый образ твой.
И тогда волной волшебной,
Как в неясном полусне,
Вечных песен ключ целебный
Заливает сердце мне.
НАД ПОТОКОМ. Перевод М. Замаховской.
Река скользила и шумела,
И волны шли волнам вослед.
А я стоял оцепенело:
Моя любовь, тебя уж нет!
Ни ветерок, ни звук, ни пенье
Не колебали тяжкий зной,
Задумчивые, без движенья,
Клонились ивы над волной.
Те ивы были, как сирены,
В зеленой влаге длинных кос
И пели тихо, вдохновенно
О прошлом, полном страстных грез.,
Пой, ива, пой! Напев унылый,
Печалью тайною звеня,
Как зов любимой из могилы,
В поток тоски влечет меня.
ПОГИБШИЙ. Перевод М. Замаховской.
Тихо челн плывет к утесу,
Распускает фея косу.
Запоет о тайне волн —
Сгинет и рыбак и челн.
Утро встало, ветром вея,—
И утес исчез и фея.
А челнок — на дне морском.
А рыбак — спит вечным сном.
В ПУТЬ. Перевод В. Левика.
В горах ли, на равнине —
Вольнее дышит грудь.
Все расцветает ныне,
И все торопит в путь.
Ручей с горы стремится,
Реке преграды нет,
Летит куда-то птица,
Но во главе — поэт.
Кто не в ладах с судьбою,
Кто чахнет от забот,—
Он всех зовет с собою,
В дорогу он зовет.
В полях, на горных склонах
Поет он, чародей,
Сближая разделенных
Пространствами людей.
И все на сборы скоры,
Спешат, как в дом родной,
И тайно чьи-то взоры
Твердят: ты мой, ты мой!
В полях ли, на утесах —
Шумит весна, цветет.
Бери дорожный посох
И весело — в поход!
ВОЗВРАЩЕНИЕ СВОБОДЫ[92]. Перевод В. Левика.
[92].
1.
Словно море вкруг меня,—
Прежде так дубы да ели,
В тень прохладную маня,
Саги старые мне пели.
Рейн блеснул, — как тих простор
Берегов его нарядных!
Замки в глубь глядятся с гор
Средь нагорий виноградных.
Здравствуй, Рейн, прими поклон!
А тогда, тебя скрывая,—
Храм и крепость, — с двух сторон
Чаща высилась живая.
Но от римского орла
Еле честь я уносила,
Ибо землю облегла
Грозной тучей эта сила.
Но героев древних род —
Те, кто мир прошли до края,
Стали косны, что ни год
Мне постыдно изменяя.
Так за мной шагал позор,
Смерть и мор ползли по странам,
А вдали средь отчих гор
Брезжил день лучом багряным.
Шла я, радуясь, к тебе,
Всех земель несла короны,
Но в бессмысленной борьбе
Ты мне ставила препоны.
Все ж я здесь, я здесь опять,
Шла бездомной, шла гонимой,
Но, как божья благодать,
Мне раскрылся край родимый.
На вершинах гор огни,
Всюду радость, где иду я.
Рейн шумит, как в оны дни,
Мне, пришедшей, салютуя.
И кричу в леса, в поля,
Нивам, вырванным из плена:
Вся немецкая земля,
Будь вовек благословенна!
2.
Воздух полон вешним звоном,
В глубине шумит река.
Водопад звенит по склонам,
Как привет издалека.
В блесках молнии летучей
Скачет дева на коне,
Словно ждет ее над кручей
Гордый замок в вышине.
Где прошла она, там серый
Морок тьмы уже исчез,
Божьи твари полной мерой
Пьют чистейший свет небес.
Но кому же и Природа
И все люди шлют привет?
То, красавицы, Свобода,—
Дай ей бог сто тысяч лет!
РАДОСТНОЙ ДОРОГОЙ. Перевод В. Левика.
Блеск лазури льется в поле,
То весна пришла, весна!
Рог лесной поет на воле,
Взор блестит — во всем она!
Суматохой бодрой, бурной,
Как магический поток,
В мир прекрасный, мир лазурный
Этот праздник всех увлек.
— Ждать вас, други? — Нет, куда там!
Я, как все, в полет, в обгон,
То восходом, то закатом
Упоен и ослеплен,
В мир стотысячеголосый,
Где Аврора гонит тьму.
— Но куда? — К чему вопросы?
В путь — и нет конца ему!
ДРУЗЬЯМ. Перевод В. Левика.
Блеск молодости, музыка желаний,
Ручьи в душистой, чуткой тишине,—
Всех тянет в этот круг очарований,
Кто бога чтит в сердечной глубине.
И грустно видишь долгий путь скитаний,
Паломничество к ней, к родной стране.
Войди в мой сад — и пестрый мир явлений
Нахлынет на тебя со всех сторон.
Но те из них, что мне видны, как тени,—
Тому, чей взор зарею ослеплен,—
Ты будешь видеть четче, совершенней.
Всему свой миг, все канет в глубь времен.
Но то, что вновь родится в сердце друга,
Не вырвет буря из родного круга.
ЗИМА. Перевод В. Левика.
Без пути, без цели,
Занавешен тьмой,
Жил я дни, недели,
Мертвенно-немой.
Боль, и там, снаружи,
Снег да тишина.
Сердце, что нам в стуже!
Будет и весна.
Ложь, вражда и слава, —
Мира зыбкий след,
Это все отрава —
Вспенилось, и нет!
Вновь, мой конь, пред нами
Ввысь и вдаль простор.
Так взмахни крылами
И во весь опор!
Если все остыло —
Страсть, любовь, печаль,
Все, что жизнью было,
Все, чего нам жаль,—
Конь, ту землю вспомни,
Где всему покой.
Как там хорошо мне!
Друг, летим домой!
ВЕЧЕР. Перевод В. Левика.
Грустит пастушья дудка,
Ни звука на реке.
Лес отозвался чутко
На выстрел вдалеке.
И там, вдали, закатом
Горит холмов гряда.
О, если б стать крылатым
И улететь — туда!
ЛОРЕЛЕЙ[93]. Перевод В. Левика.
[93].
— Холодный ветер, ночь темна,
А ты, красавица, одна.
Бескрайный, темный лес кругом.
Скачи за мною! Где твой дом?
— Хитер и лжив весь род мужской,
Оставь меня с моей тоской.
Ты слышишь? Рыщет рог, трубя.
Оставь меня… Спасай себя!
— Твой конь в алмазах весь, как ты.
Сама ты дивной красоты.
О боже! Горний свет пролей!
Не ты ль колдунья Лорелей?
— Узнал? Где встал седой гранит,
Мой дом с вершины в Рейн глядит.
И тьма и стужа… Нет пути!
Тебе из леса не уйти.
ОДИНОКИЙ БОЕЦ. Перевод В. Куприянова.
Итак, ты брошен всеми,
Итак, поддержки нет;
Быть может, скоро время
Сломает твой хребет.
Никто твоим призывом
Не увлечен на бой.
Все с видом горделивым
Спешат своей тропой.
Пусть краткой будет схватка
И пусть я одинок,
Не личного достатка
Взыскует мой клинок.
Чужого мне не надо.
Я без венца умру.
Осенняя прохлада
Заплачет на ветру.
Пусть смертный час настанет,
Но света мне не жаль.
Последней песней грянет
Моих доспехов сталь.
Едва я рухну в травы —
И всадник молодой
В сени победной славы
Поникнет надо мной.
На прах он мой укажет
Друзьям в победный час,—
Вот кто был первым, скажет,
И кто погиб за нас.
ТЕОДОР КЁРНЕР.
Теодор Кёрнер (1791–1813). — Один из самых популярных поэтов периода антинанолеоновской освободительной войны в Германии 1813 года; погиб в бою. В свое время были известны ого драмы, переводившиеся и на русский язык. Первую книгу стихов Кёрнер опубликовал в 1810 году, но прославился благодаря сборнику «Меч и лира», изданному посмертно, в 1814 году. В лучших стихах Кёрнера видна связь с народной песней; пылкая любовь к родине неразрывно связана со столь же пылкой любовью к свободе.
МОЯ РОДИНА[94]. Перевод И. Грицковой.
[94].
Скажи, где родина моя?
Там, где свободою дышали,
Где честь и совесть прославляли,
Где искры правды высекали
Ее святые сыновья.
Там родина моя.
Что сталось с родиной моей?
Она, свободная когда-то,
Теперь растерзана, распята,
Оплакивает виновато
Своих погибших сыновей.
Вот то, что сталось с ней.
О чем скорбит мой край родной?
О том, что страх сильней свободы,
О том, что в горестные годы
Не поднялись его народы,
Не встали за него стеной.
Скорбит мой край родной.
К кому взывает край родной?
К богам глухим, его предавшим,
К бойцам, сражаться не уставшим,
Смятенья, страха не познавшим,
Чтоб на врага пойти войной.
Взывает край родной.
Чего моя отчизна ждет?
Что люди наконец проснутся,
С проклятым извергом схлестнутся,
В бою не дрогнут, не согнутся,
И ненавистный гнет падет.
Моя отчизна ждет.
На что надеется она?
Вкусить свободу и отмщенье,
К врагам не зная снисхожденья,
Стряхнуть с себя порабощенье,
Чтоб стала вольной вся страна.
Надеется она.
ВИЛЬГЕЛЬМ МЮЛЛЕР.
Вильгельм Мюллер (1794–1827). — Один из ярких лириков позднего немецкого романтизма; выступал также как переводчик, эссеист, издатель, критик. Обладая богатой и разносторонней филологической культурой, Мюллер испытал себя в разных поэтических жанрах и традициях, но наибольшая его заслуга перед немецкой поэзией — стихотворения в духе народной песни. Гейне, например, высоко оценивая значение мюллеровских «Стихотворений из сохранившихся бумаг одного странствующего валторниста» (т. 1 — 1821 г., т. 2 — 1824 г.) для формирования своей собственной поэзии, писал о «чистом наслаждении», которое дают ему эти стихи, с их «вечной свежестью и юношеской первозданностью». Всемирную известность В. Мюллеру принесли поэтические циклы «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь», в большей своей части положенные на музыку Ф. Шубертом. Популярностью у современников пользовались также циклы «Греческих песен» (1821–1826), отразивших симпатии поэта к свободолюбивому греческому народу.
В ПУТЬ. Перевод И. Тюменева.
В движенье мельник жизнь ведет, в движенье,
В движенье мельник жизнь ведет, в движенье.
Плохой тот мельник должен быть,
Кто век свой дома хочет жить.
Всё дома, всё дома, всё дома, всё дома.
Вода примером служит нам, примером,
Вода примером служит нам, примером.
Ничем она не дорожит
И дальше, дальше все бежит.
Все дальше, все дальше, все дальше, все дальше.
Колеса тоже не стоят, колеса,
Колеса тоже не стоят, колеса.
Стучат, кружатся и шумят,
С водою в путь они хотят.
С водою, с водою, с водою, с водою.
Вертятся, пляшут жернова, вертятся,
Вертятся, пляшут жернова, вертятся.
Кажись бы, им и не под стать,
Да ведь нельзя ж от всех отстать.
Нельзя же, нельзя же, нельзя же, нельзя же.
Движенье — счастие мое, движенье,
Движенье — счастие мое, движенье.
Прости, хозяин дорогой,
Я в путь иду вслед за водой.
Далёко, далёко, далёко, далёко.
ЛИПА. Перевод С. Заяицкого.
У входа в город липа, под ней бежит ручей;
Я часто сладко грезил в тени ее ветвей.
В ее кору я врезал немало нежных слов,
И в радости и в горе я к ней идти готов.
И, в путь идя далекий, в холодный мрак ночей,
Закрыв глаза, хотел я теперь пройти под ней.
И ветви зашумели, шепча во мгле ночной:
«Вернись, скиталец бедный, ты здесь найдешь покой!»
И злой холодный ветер ночную песнь завел,
С меня сорвал он шляпу, но я все шел и гнел.
Теперь уж я далёко брожу в стране чужой,
Но часто слышу шепот: «Ты мог найти покой!»
БУРНОЕ УТРО. Перевод С. Заяицкого.
Был серый плащ на небе, но вихрь его сорвал
И темных туч лохмотья трепать свирепо стал,
Трепать свирепо стал.
Вся даль в огне кровавом, и тучи все в огне.
И вот такое утро теперь по сердцу мне.
Должно быть, сердце в небе узнало образ свой,
То зимний день холодный, то зимний день холодный,
Холодный день и злой!
ШАРМАНЩИК. Перевод С. Заяицкого.
Вот стоит шарманщик грустно за селом,
И рукой озябшей он вертит с трудом,
Топчется на месте, жалок, бос и сед.
Тщетно ждет бедняга, — денег в чашке нет!
Тщетно ждет бедняга, — денег нет и нет.
Люди и не смотрят, слушать не хотят,
Лишь собаки злобно на него ворчат.
Все покорно сносит, терпит все старик,
Не прервется песня и на краткий миг,
Не прервется песня и на краткий миг.
Хочешь, будем вместе горе мы терпеть?
Хочешь, буду песни под шарманку петь?
АВГУСТ ПЛАТЕН.
Август Платен (граф Карл Август Георг Макс фон Платен-Галлермюнде, 1796–1835). — Поэт и драматург. Служил в армии баварского короля. Выйдя в отставку, Платен изучал юридические науки, филологию и философию в Вюрцбурге, затем в Эрлангене; с середины 20-х годов жил в Италии. Платен выступал против романтиков в литературе, противопоставляя их поискам требования классически строгой законченности формы, отказа от романтической субъективности; в своих эстетических исканиях он опирался на античную, классическую восточную и классицистскую европейскую традиции. В свое время были популярны сборники «Газелей», циклы сонетов, «Польские песни», отдельные баллады и комедии Платена.
«Венеция лежит в стране мечтаний…». Перевод В. Микушевича.
Венеция лежит в стране мечтаний,
Пустынный край, былым завороженный;
Республика теперь — как лев сраженный,
Среди похожих на застенки зданий.
И взнуздан символ гордых упований,
Однажды в соль морскую погруженный:
Конь бронзовый, на церкви водруженный,—
При Корсиканце тень завоеваний.
Где царственное племя, где строитель,
Который жил роскошнее и строже,
Из мрамора создав себе обитель?
И над бровями внуков тем дороже
Черты, которым так дивится зритель,
Поверив камню на гробницах дожей.
* * *
«Когда печален дух мой без причины…». Перевод В. Микушевича.
Когда печален дух мой без причины,
Меня Риальто не прельщает блеском,
И, не желая глохнуть в шуме резком,
С мостов смотрю в пустынные глубины.
На вековых стенах видны морщины
В безмолвии загадочном и веском;
И вздрагивают волны с тихим плеском,
И лавром диким поросли руины.
Незыблемых столбов не потревожу,
Когда гляжу в темнеющее море,
С которым впредь не обручаться дожу;
С подобной тишиною не в раздоре
Канал, прильнувший к сумрачному ложу,
И голос гондольера на просторе.
* * *
«Кто взял от жизни все…». Перевод В. Топорова.
Кто взял от жизни все, что та сулила?
Кто не утратил доли половинной
Во сне, в жару, в прискучившей гостиной,
В бесплодной страсти, иссушившей силы?
Ах, даже тот, кто прожил жизнь уныло,
Лишь чуть утешен мысленной картиной
Предназначенья, — в этой жизни длинной
С великим страхом ждет сырой могилы.
Ведь каждый мнит, что счастье возвратится,
Забыв, что смертный счастья недостоин,
Что счастье — богоизбранная птица.
Никто не будет счастья удостоен:
К мечтателю оно не постучится,
Его в бою не завоюет воин.
ПАДЕНИЕ ВАРШАВЫ[95]. Перевод Г. Ратгауза.
[95].
Когда из Калиша[96] вступил отважных добровольцев полк
В Варшаву, реяли орлы и флагов польских реял шелк,
Предчувствуя с тираном бой во имя чести и любви,
Во славу смелых калишан Варшава грянула: «Живи!»
«Нет! — молодой солдат в ответ, кладя ладонь на грозный меч.
Смерть калишанам! Смерть в бою, чтобы отечество сберечь!»
Господь! Напрасен жар бойцов, главою досягнувших звезд.
И родине надменный дар — алмазы дивные невест.
Теперь народ спешит в костел под орудийный тяжкий гром,
Пред алтарем за польский край склоняясь набожным челом.
Напрасно все! И мир скорбит (кровавый гром терзает слух!):
Когда над рабскою землей восторжествует вольный дух?
О императорский указ, елейно-нежен окрик твой:
Царь любит Польшу, как отец, — и выдал Польшу на убой.
Напрасно вздыбился народ: «Мы не хотим тебя, тиран!»
Он снова стонет под ярмом, и льется кровь из алых ран.
Но вы, усопшие сердца, храните благородный сон:
Вам, павшим гордыми в борьбе, — все розы будущих времен,
К могилам поспешит поэт, которому неведом страх,
Среди гигантских гекатомб он славит ваш мятежный прах.
И вольный, будущий народ победный столп вам водрузит,
И доблесть ваших Фермопил прославит новый Симонид[97].
НОЧНОЙ ПЕРЕХОД ВИСЛЫ ПОЛЬСКИМИ ПОВСТАНЦАМИ БЛИЗ КРАКОВА. Перевод Г. Ратгауза.
В ненастном бурном шуме
Мы едем в тяжкой думе.
Кто ведает, куда?
Разверзлась хлябь потопа.
На нас глядит Европа,
В ночи блестит звезда.
На мост последний всходим,
С отчизны взор не сводим:
Мы перешли рубеж.
Товарищ безотрадный!
Нам светит факел чадный,
Окончен наш мятеж!
Ты сгублено заране,
Геройское восстанье,
В ночи исчез твой след.
Возлюбленной равнине
Мы посылаем ныне
Прощальный наш привет.
Навек прощайте, братья!
Сырых могил объятья
Покорно ждут бойца.
Но мы — отвергли цепи!
И не в фамильном склепе,
Вдали уснут сердца.
Прощайте, дети, жены!
В борьбе вооруженной
Вершится Страшный суд.
Омыт в крови безвинной
Солдатский штык Берлина
И петербургский кнут.
Над нами встал владыка.
И нет грознее лика:
Свинцовый, сонный взгляд
И лоб его жестокий,
Врожденный шрам глубокий
На лбу — беду сулят.
Мы славу купим кровью,
Презрев покой, здоровье,
Одним огнем горя.
Здесь, в побежденном войске,
Последний шляхтич польский
Достойнее царя.
Так! Нам в наследье — слава,
И бой за честь и право,
Который мы вели,
И край, войной багримый,
И горсть земли родимой,
Отеческой земли.
Блаженны братья наши,
Испившие из чаши
Из вольной, круговой,
И вы, сыны Волыни,
Что в бешеной стремнине
Нашли себе покой!
От натиска погони
Их к Висле мчали кони
Сквозь плотный вражий строй,
Они близ переправы,
Где бой бурлил кровавый,
Воспрянули душой.
За что принять им муку —
С отечеством разлуку?
Их честь — в родной стране.
И мчатся в клубах дыма
В поток неукротимый
С оружьем, на коне.
Отеческие волны,
Давно вы кровью полны,
Примите ж их сердца!
И мчите неустанно
На волю океана
Их, вольных до конца!
АННЕТА ФОН ДРОСТЕ-ГЮЛЬСГОФ.
Аннета фон Дросте-Гюльсгоф (1797–1848). — Видная поэтесса и новеллистка, происходила из старинного аристократического рода. Первые стихи и поэмы связаны с романтизмом, и только в сборнике «Стихотворений» (1844) заметен отход от романтической фантастики. Дросте-Гюльсгоф осталась в немецкой литературе как представительница так называемого «поэтического реализма» (О. Людвиг, И. Шеффель, А. Штифтер, Б. Ауэрбах и др.). У «поэтических реалистов» проявилась тенденция к правдивому, детализованному и неромантизированному изображению окружающей их природы и общественной действительности, которую они отражали, однако, в значительно смягченных, опоэтизированных образах.
СЛОВО. Перевод И. Грицковой.
Крылато слово, как стрела.
Сам на себя пеняй за спешку,
Коль произнес его в насмешку
Или сказал его со зла.
Похоже слово на зерно.
Обронишь ты его случайно,
Но в землю твердую отчаянно
Корнями вцепится оно.
Подобно искре, хмурым днем
Погаснув, истлевает слово.
И на ветру воспрянет снова,
И все заполонит огнем.
Едва родимся мы на свет,
Весь мир словами обозначим.
Смеемся из-за них и плачем.
Поверь, что слов никчемных нет.
Молитвам, господи, внемли,
Несчастным ниспошли спасенье.
Даруй слепому исцеленье,
Чтоб видеть красоту земли.
Словами одарил нас бог.
Но ты, всесильный, всемогущий,
Сокрыл от нас их смысл грядущий,
Чтоб их постичь никто не смог.
Зажги ж огонь средь темноты!
Пусть в цель летит стрела крылато!
Ведь то, что праведно и свято,
На свете знаешь только ты!
ОТРАЖЕНИЕ. Перевод И. Грицковой.
Ты смотришь молча на меня.
В глазах поблекших нет огня,
Под стать туману бледность кожи,
И друг за другом две души
Шпионят в каверзной тиши.
…Меня заверить не спеши,
Что ты — есть я! Нет, мы не схожи!
Но знаю я, кто ты таков,—
Виденье из тревожных снов,
И страшно мне тебя увидеть.
Кровь застывает, холодна…
Но есть в твоих чертах вина.
И я еще понять должна —
Любить тебя иль ненавидеть.
Властолюбивей всех владык,
Ты править мыслями привык
Неумолимо и сурово.
Им, как рабам, даешь приказ,
Но льется мертвый свет из глаз,
Холодный блеск… и я сейчас
Скорее убежать готова.
Улыбкой нежной на устах
Растопишь мой недавний страх,
Она приветливо засветит…
По моему лицу скользит…
Но в темном взгляде гнев сквозит,
Черты коварство исказит.
Ты, как палач, что жертву метит.
Нет, я — не ты! Не прекословь!
Не схожи наши плоть и кровь,
И в этом трудно усомниться.
Мы — рознь друг другу, сам гляди!
Отец небесный, пощади!
Неужто и в моей груди
Душа зловещая таится.
Но непонятно, отчего
Связует нас с тобой родство.
Одной мы спаяны судьбою.
Приди ко мне! Ступай вперед!
Пусть сердце в ужасе замрет,
Но мне известно наперед,
Что я заплачу над тобою.
В ТРАВЕ. Перевод И. Грицковой.
Когда вконец измучил землю зной,
Жара сменилась свежестью ночной,
Я прилегла в лесу на мох глубокий.
И шелестела надо мной листва,
И щеки щекотала мне трава,
И запах луга слышался далекий.
И темноте нахлынувшей вослед
Просачиваться стал неясный свет.
Он меркнул, вспыхивал и, вновь пылая,
Струился, падал сквозь проем ветвей.
И это был свет родины моей —
Тот, что недавно в комнате зажгла я.
Я различить могла средь тишины
Шуршанье листьев, тех, что с вышины,
Кружась, на землю опускаться стали.
Я столько передумала всего,
Биенье сердца слыша своего,
Уже не зная: я жива, мертва ли?
Сплетались мысли, словно кружева.
Мне годы детства вспомнились сперва.
Лицо и голос. Чей? Давно забыла.
Ну, а потом, подхваченный волной,
День нынешний предстал передо мной.
Его ко мне, как к берегу, прибило.
Но, словно бьющий из глубин родник,
Спешили мысли дальше, и возник
День будущий тотчас перед глазами.
Себя я вижу сгорбленной, больной.
И памятки родных, любимых мной,
Я разбираю поздними часами.
На их портреты буду я смотреть.
В одеждах, что успели устареть,—
Мои любимые. Я трепетно достану
Записки, письма, выцветшую прядь.
И, больше слез не в силах удержать,
Я в тишине над ними плакать стану.
И вот на кладбище увижу я себя.
Колени преклонив, молюсь, скорбя,
На сером камне имена читаю
Тех, кто всегда в моей душе храним.
И птица закричит, повеет дым.
Земля зовет, и я в нее врастаю.
Нет. Я очнусь. Вновь под ногами твердь.
И мне приснилась только эта смерть.
Пойду домой и долго буду тщиться
Понять, что значил свет в полночной мгле.
То был свет лампы на моем столе
Иль вечный свет, горящий у гробницы?
МАЛЬЧИК В БОЛОТЕ. Перевод А. Голембы.
Ох, как жутко во тьме по болоту брести,
Прорывать пелену испарений:
Привиденья-кусты поднялись на пути,
Цепки руки ветвей-привидений,
И на каждом шагу — ручейки из-под ног,
И малыш перетрусил, промок и продрог,—
Ох, как жутко во тьме по болоту брести,
Посреди камышовых смятений!
Гонит страшная сказка во тьму малыша,
Жутко, бедному, в темной трясине.
Пляшет вихрь над низиной, гудя и шурша.
Что мятется там в призрачной сини?
Это тот землекоп, что угрюм и хитер,
Тот лукавый обманщик, чей разум остер!
Скачет вихрь, словно бык, пьяным буйством дыша,
Ковыляет малыш по низине.
С невысокого берега пялятся пни,
Неприветливо сосны кивают,—
Путник маленький, ухом к тростинкам прильни,
Что во мгле свои стебли вздымают!
Странный треск и журчанье вплелись в тишину,
Это пряха Ленора в печальном плену,
Ну-ка, пряха, белесую нитку тяни
В камышах, где виденья плутают!
Так вперед, мальчуган, все вперед и вперед,
Ты не сгинешь в трясине иль в яме!
Под ногами отчаянный омут поет,
Торф колышется под сапогами!
Ох, как жутко гудит под ногами провал,
Это музыка призраков, призрачный бал:
Вороватый скрипач свою долю берет,
Грошик стибрил он в свадебном гаме!
Глухо чавкнула топь, испугалось дитя,
Песни в яминах черных пропеты:
Это мечутся вздохи, во тьме шелестя,
Это стон обезумевшей Греты!
Мальчик брошен в болотную мглу без дорог:
Если б ангел-хранитель мальца не сберег,
Труп его откопали бы годы спустя,—
Здесь порою находят скелеты!
Постепенно становится почва плотней,
Под ногами твердеет дорога,—
Там за выгоном — ясность домашних огней:
Мальчуган у родного порога!
Вот он дух переводит и смотрит назад,
Просветлело лицо, проясняется взгляд:
Там, внизу, в камышах, было много страшней,
Душу там изглодала тревога!
НА БАШНЕ. Перевод И. Грицковой.
Я выйду на башню. Наскучило спать,
Да птицы кричат спозаранку.
И будет мне волосы ветер трепать —
Дразнить молодую вакханку.
Ну что же, приятель, покуда жива,
Готова к смертельному бою.
К тебе я прижмусь поплотнее сперва
И силой померюсь с тобою.
А там у прибрежной крутой полосы,
Внизу, под моим балконом,
Волны ревут, и резвятся, как псы,
И бьются о скалы со звоном.
И я бы смогла, не боясь, не дрожа,
Спрыгнуть к неистовой своре.
Ну, а в награду большого моржа
Мне подарило бы море.
Потом я увижу в далекой дали,
Где волны безудержно хлещут,
Сквозь бурю идут напролом корабли
И дерзкие флаги трепещут.
И я бы корабль по волнам повела.
С врагом захотела б схлестнуться.
А если б я чайкой морскою была,
Я неба смогла бы коснуться.
Хочу поохотиться в диких лесах,
Минуя глухие овраги.
Была б я бойцом, позабывшим страх,
Мужчиной, что полон отваги…
Но я на высоком балконе грущу
И злюсь на нелепую долю.
Лишь волосы в тайне от всех распущу.
Пусть ветер растреплет их вволю!
ЭДУАРД МЁРИКЕ.
Эдуард Мёрике (1804–1875). — Поэт, прозаик и переводчик. В своем творчестве стремился синтезировать наследие античности, «веймарского классицизма» и романтизма. Биография Мёрике небогата событиями: студент-теолог, увлекающийся поэзией в кругу друзей по Тюбингенскому университету; священник, пытающийся найти возможность полностью посвятить себя литературе, живущий уединенно, но в напряженных духовных и эстетических поисках; учитель словесности, стремящийся ограничить свою жизнь сферой семьи и непосредственных обязанностей… Основное в творческом наследии Мёрике: двухтомный роман «Художник Нольтен» (1832), куда были включены и лучшие из написанных к тому времени стихов, «Стихотворения» (1838), выдержавшие при жизни поэта пять изданий, эпическая поэма «Идиллия Боденского озера» (1846), сказки и новеллы, а также переводы из античных поэтов. Поэзия Мёрике привлекала таких композиторов, как Р. Шуман, И. Брамс, Г. Вольф. В России его стихи переводили И. С. Тургенев, А. А. Фет и др.
В ПОЛНОЧЬ. Перевод Арк. Штейнберга.
Ночь оперлась о склоны гор;
Ее бесстрастный, вещий взор
На чаши золотых Весов Времен
Недвижно-уравненных устремлен.
Но Матери-Ночи бубнят в тишине
Бегучие струи о нынешнем дне
Минувшем,
О дне, безвозвратно минувшем.
Постыл ей древний гомон вод;
Милей, чем синий небосвод,
Ей коромысла равномерный взмах,
Мгновенья взвешивающий впотьмах,
Но волны немолчно лепечут во сне
Все ту же погудку о нынешнем дне
Минувшем,
О дне, безвозвратно минувшем.
ПЕРЕГРИНА[98]. Перевод А. Ларина.
[98].
I.
Зерцало верных карих глаз лучится,
Как отсвет златоносного нутра;
В груди, откуда робкий свет сочится,
Взрастила злато скорбная пора.
Во тьму зрачков ты манишь погрузиться,
Сама не зная, как страшна игра,—
Огня всепожирающего просишь,
С улыбкой смерть в питье грехов подносишь.
II.
Зала украшена для торжества.
Ярок и пестр, в неподвижности летней ночи
Сада шатер нараспашку открыт.
Словно столпы двоёные, встали
Плющом обвитые змеи из бронзы —
Двенадцать шеесплетенных
Тел подпирают кров,
Крова несут чешую.
До поры в ожидании скрылась невеста
В дальнем покое отчего дома.
Но вот — в свадебном шествии движутся люди,
Факелы яры,
Немы уста.
И посредине,
Здесь, одесную меня,
В черных одеждах ступает невеста;
В ладных складках пурпурный платок
Вкруг изящной головки обвился.
Она улыбаясь идет; трапеза благоухает.
Позже, в праздничном шуме,
Мы убежали украдкой
Прочь, под укрытие сумрака сада,
Где на кустах светились соцветья,
Где месяца луч за лилеи цеплялся,
Где черноволосая крона сосны
Наполовину завесила пруд.
На травяном шелку сердца стучали.
Поцелуи мои поглотили робкий ее поцелуй.
Меж тем струя ключа, глухая
К шептаниям любви безмерной,
Как искони, тешилась собственным плеском;
Издали кликали нас, дразнили
Добрые песни,
Струны и флейты — вотще!
Истомлена, не утолив мой трепет,
Она мне голову на грудь склонила.
Веками к векам ее в игре прижавшись,
Длинных ресниц ощущал я ласку:
До прихода дремы,
Как крылышки поденок, хлопали они.
Не зажегся восток,
Не погасла свеча в покоях невесты —
Разбудил я спящую
И дитя это странное в дом свой ввел.
III.
Вступила кривда в росные кущи
Чувства доселе святого.
В ознобе вскрыл я застарелый обман.
И, плача от горя, понурый,
Девушку стройную —
Чудо живое —
Прочь из дома прогнал.
Взор просветленный ее
Погас, потому что любила меня,
Но побрела молчаливо
Прочь от порога
В пасмурный мир.
С той поры
Боль в моем сердце и хворь
Не прекратятся вовеки.
Как будто нитью волшебной, висящей в пространстве
Меж нею и мной, путами страха
Влеком я, влеком, измученный, к ней.
О, если бы вдруг на моем пороге
Сидящей увидеть ее, как некогда, в утреннем мареве,
С узлом беглянки в руках,
И очи ее, простодушно взирая,
Сказали бы: «Да, это я,
Я возвратилась из дальних стран».
IV.
Ты в мыслях вновь — но почему
Я плачу, словно в муке крестной?
Так горько сердцу и уму,
Душе в груди так сумрачно и тесно…
Вчера, когда, беспечен и весёл,
Огонь свечей плясал в нарядной зале
И в шутках я отвлекся от печали,
Твой дух, несущий муки ореол,
Вошел и тихо сел со мной за стол,—
Мы цепенели рядом и молчали.
Но я не смог рыданья превозмочь —
Рука в руке, мы выбежали прочь.
V.
Позорный столб терпеть любовь повинна.
Потом, босая, в рубище до пят,
Она бредет куда глаза глядят,
И к ранам ног стекает слез лавина.
Такою мне предстала Перегрина!
Все было в ней прекрасно — дикий взгляд,
Пыланье щек, венок, который смят,
И смех в ответ на вой ветров звериный.
Тоска по красоте все неотвязней,
Все яростнее жажда прежних нег.
«Вернись в мои объятья без боязни!»
Но скорбен взор из-под усталых век,
Тих поцелуй любви и неприязни.
Отвергнутую не вернуть вовек.
НА СТАРИННОЙ КАРТИНЕ. Перевод С. Ошерова.
Взгляни, как весел летний луг,
Как густ камыш речных излук,
Как безмятежно — погляди! —
Дитя у Девы на груди,
А в дальней роще так густа
Листва грядущего креста.
МАШЕНЬКА. Перевод С. Ошерова.
Эти уста, сохранив обаянье отчизны, забыли
Звук языка, что лепил пухлость прелестную губ.
В руки учебник берет ленивица, хмурясь в досаде,
Русские фразы твердит, — всё, как велит ей отец.
Губы строптивые! Вы лепечете сладко — но краше
Стали с тех пор, как тайком делом другим занялись!
ЛАМПА. Перевод С. Ошерова.
По-прежнему, о лампа, красота твоя
Живит собою зал полузаброшенный,
Где ты на легких столько лет висишь цепях.
Венком по краю чаши беломраморной
Из бронзы вьется плющ зеленый с золотом,
И хоровод детей на чаше вырезан.
Как все чарует! Подлинным искусством здесь
Слит дух веселья с истовой серьезностью.
И пусть тебя не видят — но прекрасному
Довольно для блаженства красоты его.
В ПУТИ. Перевод С. Ошерова.
«Тяжелый крест ношу я,
Об этом и пишу я, —
А кто не ведает забот,
Пускай мои стихи сотрет!»
Кто на скамье в глуши печальной этот стих
Нетвердой выводил рукою, — нет, не в шутку,—
Скиталец иль пастух, присевший на минутку?
Веселья не видать в словах его простых!
Не нынче, не вчера написаны они,
Здесь многие пройти успели в эти дни,
И, строчки по складам прочтя, любой глядел
На жизнь свою, постичь стараясь свой удел,
Стоял в задумчивости миг — и шел потом
С привычной ношею забот своим путем,
Оставив строки тем, кто будет здесь бродить
И думы горестные в сердце бередить.
ЭРИННА — К САПФО. Перевод С. Ошерова.
«Много тропок ведет в Аид, — поется
В старой песне, — одной из них пойдешь ты,—
Знай и помни». — Кто, Сапфо, о том не знает,
О чем нам каждый скажет день? Но живым такое слово неглубоко
Входит в сердце: рыбак, взраставший у моря с детства,
Шороха воли притупившимся ухом не слышит.
Только сегодня — послушай! — так странно встревожилось сердце!
Солнечный блеск нынче утром,
Озарявший вершины деревьев,
Рано сонливицу (так ты недавно бранила Эринну)
С душного ложа в сад поманил…
На душе у меня было тихо, по в жилах
Билась неровно кровь, от бледных щек отливая.
А когда перед зеркалом я закрыла лицо волосами
И потом завесу душистым раздвинула гребнем,
Странный я встретила взглядом в зеркале взгляд.
«О глаза, — я сказала, — чего вы хотите?
Ты, мой дух, до сих пор бестревожно обитавший
В этом сердце и с чувствами живыми обрученный,
С какой пугающей полуулыбкой, строгий демон,
Ты мне киваешь, смерть предвещая!»
И что-то вдруг пронзило меня,
Словно блеск зарницы, словно свист черноперой стрелы,
Проносящей смерть у виска.
И, к лицу ладони прижав, еще долго со страхом
Я глядела во тьму кружащей голову бездны.
Но о собственной участи смертной
Я без слез помышляла,
И лишь вспомнив, что смертна и ты,
И все подруги,
И милое искусство Муз,
Залилась я слезами.
В этот миг головная сетка, твой дивный подарок,—
Височные нити и на них золотые пчелы,—
Со стола мне сверкнула.
Когда праздник, обильный цветами, мы будем
Справлять в честь супруги Плутона,
Я хочу посвятить могучей богине сетку,
Чтоб она благосклонной и кроткой была и к тебе и ко мне
И каштановой пряди с любимой твоей головы
Для Эринны тебе не пришлось бы срезать слишком скоро.
УЗНАЙ ЖЕ, СЕРДЦЕ! Перевод Г. Ратгауза.
Где затаилась ель
В лесу далеком?
Где роза та цветет,
Под чьим окошком?
Судьба сулила им,—
Узнай же, сердце! —
Так нежно зеленеть
В твоем надгробье.
Два вороных конька
В траве пасутся,
Потом спешат домой,
Вприпрыжку, резво.
Они твой гроб свезут
Неспешным шагом,
Быть может, раньше,
Чем с копыт их звонких
Подкова упадет,
Что мне блеснула!
КРАСАВИЦА РОТРАУТ. Перевод Г. Ратгауза.
Как дочь короля Каэтана зовут?
— Ротраут, красавица Ротраут.
Негоже ей прясть и мести со двора.
Что делает юная Ротраут с утра?
— Охотится, удит.
О, если б служил я в охоте у ней,
Охотился с нею и бил лебедей!
— Молчи, мое сердце!
Вот месяц прошел,
О, Ротраут, красавица наша, Ротраут! —
И юноша служит тебе, Каэтан,
Надел он охотничий темный кафтан
И в чащу умчался.
О, если бы я королевичем был!
Всем сердцем я Ротраут-красу полюбил.
— Молчи, мое сердце!
Под дубом они прилегли отдохнуть,
А Ротраут смеется:
«Зачем на меня ты, любуясь, глядел?
Дружок, поцелуй меня, если ты смел!»
Как боязно стало!
Но думает: «Этим не шутят спроста!»
И Ротраут-красу он целует в уста.
— Молчи, мое сердце!
И молча они поскакали домой.
Ротраут, красавица Ротраут!
А сердце ликует, как юный птенец:
«Надень хоть сегодня свой царский венец,
Но я не в обиде!
Узнайте, все листья в могучем лесу,
Что я целовал нашу Ротраут-красу!»
— Молчи, мое сердце!
ВЕНЧАНИЕ НА ЦАРСТВО. Перевод А. Голембы.
Граф Милезинт коварен был:
Он меч свой непреклонный
Занес, племянника убил
И завладел короной!
В просторном тронном зале
Злодея увенчали.
Ужели он ирландцев ослепил?
Король грустит в полночный час,
Иль пьян он после пира?
Безумец не смыкает глаз,
Нова его порфира.
Он сыну молвит слово:
«Венец подай мне снова
И разузнай, кто хочет видеть нас!»
Вступает черная беда
В угрюмые хоромы:
Теней зловещих череда,
Зловещий блеск короны.
Скользят безмолвно тени,
А Милезинт в смятенье,—
Ему от них не скрыться никуда!
Выходит из толпы немой
Дитя с кровавой раной,
Тоска и скорбь судьбы самой
В его улыбке странной.
Дитя подходит к трону
И молвит, сняв корону:
«Убийца, вот тебе подарок мой!»
Виденье скрылось наконец,
Вновь призраки далече,—
Бледнеет ночь, блестит венец,
И догорают свечи.
Сын Милезинта снова
Взглянул в лицо отцово,—
Пред ним на троне восседал мертвец.
ЭТО ТЫ! Перевод А. Голембы.
Синей шалью с вышины
Веет, веет ветер вешний,
Все нежней в округе здешней
Дух пришествия весны.
Одолела сон
Зимняя природа.
— Слышу, слышу арфы тихий звон!
Это ты, Весна!
Жду твоего прихода!
СЛИШКОМ! Перевод 3. Морозкиной.
Сияет день весенним озареньем.
Навстречу небу страстно холм стремится.
Готов любовной негою излиться
Застылый мир и стать стихотвореньем.
У реющей сосны перед селеньем
Моей любимой милый дом таится.
О сердце! Перестань так сильно биться
И слей блаженство с умиротвореньем.
Любовь! Рассей скорее наважденье,
Которым полнит душу мне природа,
А ты, весна, умерь любви желанья.
Угасни, день! Ночь, дай мне исцеленье!
Пока прохладны звезды небосвода,
Хочу подняться к бездне созерцанья.
У ЛЕСА. Перевод 3. Морозкиной.
Люблю в тени опушки в день погожий
Лежать, кукушки возгласам внимая.
Они, долину мерно усыпляя,
На песню колыбельную похожи.
Лишь здесь есть то, что мне всего дороже:
Привычкам общества не потакая,
Могу самим собою быть, пока я
Покоюсь на моем зеленом ложе.
Когда бы люди светские дознались,
Как могут время расточать поэты,
То мне они завидовать бы стали:
Затем, что под рукой моей сплетались
Тугим венком прекрасные сонеты,
Пока мой взгляд притягивали дали.
ГЕРМАН ФЕРДИНАНД ФРЕЙЛИГРАТ.
Герман Фердинанд Фрейлиграт (1810–1876). — Один из крупнейших революционно-демократических поэтов Германии. В 1848–1849 годах вместе с Г. Веертом вел литературный отдел «Новой Рейнской газеты», издаваемой Марксом и Энгельсом.
Жизненный и творческий путь Фрейлиграта сложен. В первом поэтическом сборнике — «Стихотворения» (1839) — очень сильна романтическая традиция, чувствуется влияние «Восточных мотивов» В. Гюго. В идейной борьбе 1840-х годов в Германии Фрейлиграт вначале пытался занять надклассовые, абстрактно-демократические позиции (стихотворение «Из Испании», 1841), но уже сборники «Символ веры» (1844) и «Caira» (1846) знаменуют собой переход поэта в ряды революционной демократии. Идейно-художественной вершиной творчества Фрейлиграта стали две книги «Новейших политических и социальных стихотворений» (1848; 1851). Но, вынужденный после поражения революции 1848–1849 годов к длительной эмиграции, Фрейлиграт не удерживается на достигнутых идейно-художественных позициях, постепенно отходит от Маркса и Энгельса; он возвращается в Германию в 1868 году вполне примиренный с политической реакцией и снова апеллирует к «надклассовым» внепартийным позициям.
ОКОННЫЙ ПЕРЕПЛЕТ[99]. Перевод В. Шора.
[99].
Был в замке пышный пир: курфюрст[100] на праздник рыцарей созвал,
И звуки скрипок, труб и флейт заполнили старинный зал.
Уставлен яствами был стол, и в кубках искрилось вино.
Стоял июльский жаркий день. Курфюрст велел раскрыть окно.
А из окна был виден лес, где от жары спасала тень,
Тот лес, где так любил курфюрст блуждать, охотясь, целый день
И слушать ржанье лошадей, и ловчих крик, и лай собак,
Забыв строптивый Кенигсберг и непочтительный ландтаг.
О, дерзкий город Кенигсберг! О, непокорная страна!
Меж вами и курфюрстом шла непримиримая война.
То был не рыцарский мятеж! О нет, восстали города,—
Чтобы крестьянами владеть не смели больше господа!
Да, беспокойный этот край — не Бранденбургская земля!
Здесь дух борьбы, гражданский дух, кипящей лавою бурля,
Подчас и в наши дни грозит короны обратить во прах;
И с давних пор князья таят в груди и ненависть и страх!
Был в замке пышный пир. Курфюрст не пожалел гостям вина…
«Что до сословий мне! В лесу убил я нынче кабана!»
Шумели гости… Вдруг вошел и всех в молчание поверг
Гонец, которого прислал вольнолюбивый Кенигсберг.
Вручил письмо. «Наверно, вновь ландтаг ослушаться посмел»,—
Сказал курфюрст, сломал печать, прочел и страшно побледнел.
Какая наглость! Обуздать хотят монарший произвол!
«Самонадеянный народ! Ты далеко игру завел! —
Курфюрст разгневанный вскричал. — Ты мне дерзишь в последний раз!
Что помешать бы мне могло вот это яблоко сейчас
В окно швырнуть? И так же мне ничто не в силах помешать
Стать на янтарном берегу ногою твердою опять!
Ничто!» И, руку протянув, из вазы яблоко он взял.
«Ничто!» — он снова произнес, и замер в ожиданье зал.
«Я усмирю бунтовщиков! Им никогда не встать с колен!
Моим ты будешь, прусский край! Моим — мятежный польский лен!»
Швырнул. И, описав дугу, упало яблоко… куда ж?
В соседний лес? О нет, отнюдь: оно ударилось в витраж!
Отбросил яблоко назад свинцовый переплет окна.
Я вижу в том счастливый знак твоей судьбы, моя страна!
ВОПРЕКИ ВСЕМУ![101]. (Вариации). Перевод М. Зенкевича.
[101].
Был март горяч, и вопреки
Дождю, и снегу, и всему
Теперь белеют лепестки,
И холод вопреки всему!
Да, вопреки всему, всему,—
Берлину, Вене и всему,—
Пронизывает ветер нас
Морозом вопреки всему!
Реакция со всех сторон,
И гниль в придачу ко всему!
И вновь буржуазии трон
Стоит, и вопреки всему,
Да, вопреки всему, всему,
Лжи, и убийствам, и всему,—
Стоит он и позорит нас,
Как прежде, вопреки всему.
Оружие, что нам дано
Победой вопреки всему,
Вновь отнимается оно
Тайком в придачу ко всему!
Да, вопреки всему, всему,—
Речам парламентским, всему,—
Теперь мишенью для солдат
Мы станем вопреки всему!
Но все же мы, не оробев,
Бодримся вопреки всему,
В груди глубоко тлеет гнев,
Он греет — вопреки всему!
Да, вопреки всему, всему,
Крепимся вопреки всему!
Встряхнемся: ветра злой порыв
Не страшен — вопреки всему!
Позорятся ль профессора
В рейхстаге вопреки всему,
Иль дьяволу пришла пора,
Рогам, копытам и всему,
Да, вопреки всему, всему,—
Коварству, глупости, всему! —
Все ж человечность победит,
Мы знаем, вопреки всему!
Вернется принц, и вновь для встреч
Кричать готовы «хох!» ему;
Всё ж меч его — бесчестный меч
И сломан вопреки всему.
Да, вопреки всему, всему,—
Пред всеми вопреки всему,—
У принца шпагу пополам
Сломали вопреки всему!
Корм из железа и свинца
Задайте пушкам. Ко всему
Готовы мы и до конца
Не дрогнем вопреки всему!
Да, вопреки всему, всему,
Хотя б прибегли вы к тому,
На что в Неаполе дерзнул
Мерзавец вопреки всему!
Вы — то, что гибнет и падет.
Вы — каста вопреки всему.
Мы — человечество, народ!
Мы — вечны вопреки всему!
Да, вопреки всему, всему.
Так будет вопреки всему!
Стреляйте — нас сломить нельзя!
Весь мир — наш вопреки всему!
ПРОЩАЛЬНОЕ СЛОВО «НОВОЙ РЕЙНСКОЙ ГАЗЕТЫ»[102]. Перевод М. Зенкевича.
[102].
Не удар открытый в открытом бою,
А лукавые козни, коварство,—
Сломило, подкравшись, силу мою
Калмыков западных царство!
И выстрел из мрака меня сразил.
Умертвить мятежницу рады,
И вот лежу я в расцвете сил,
Убитая из засады!
В усмешке презренье к врагам затая
И крепко сжимая шпагу,
«Восстанье!» — кричала пред смертью я,
Не сломили мою отвагу.
Охотно бы царь и прусский король
Могилу мне солью покрыли,
Но венгры и Пфальц, затая в себе боль,
Салютуют моей могиле!
И в одежде рваной рабочий-бедняк
В могилу меня провожает
И мне на гроб, как участия знак,
Прощальные комья бросает.
Из березовых листьев и майских цветов
Принес он, полон печали,
Венок, который после трудов
Жена и дочь сплетали.
Так прощай же, прощай, грохочущий бой!
Так прощайте, ряды боевые,
И поле в копоти пороховой,
И мечи, и копья стальные!
Так прощайте! Но только не навсегда!
Не убьют они дух наш, о братья!
И час пробьет, и, воскреснув, тогда
Вернусь к вам живая опять я!
И когда последний трон упадет
И когда беспощадное слово
На суде — «виновны» — скажет народ,
Тогда я вернусь к вам снова.
На Дунае, на Рейне словом, мечом
Народу восставшему всюду
Соратницей верной в строю боевом,
Бунтовщица гонимая, буду!
ВСЕ ТИХО, ОПУСТЕЛ БОКАЛ… Перевод Т. Сильман.
Все тихо, опустел бокал
Пред догорающей свечой.
Я все по комнатам шагал
И все хотел найти покой.
Волненье крови не унять.
Что ж! Я рыдать готов навзрыд.
А образ твой встает опять
И вновь со мною говорит.
Корабль у пристани стоял,
И ты на палубе. — Скорей!
Я Лорелею увидал
В сиянье золотых кудрей.
Летит вуаль на ветерке,
Я видел ножки узкий след
И в знак прощания — в руке
Тихонько дрогнувший лорнет.
И, молча шляпу приподняв,
Я жду… Прощай! По лону вод
Уже корабль летит стремглав,
И в небесах закат встает.
Прощай же! Опустел бокал
Пред догорающей свечой.
Я все по комнатам шагал
И все хотел найти покой.
ГЕОРГ ГЕРВЕГ.
Георг Гервег (1817–1875). — Один из ведущих революционно-демократических поэтов Германии. Помещенный родителями в монастырскую школу в Маульброне, он изучал затем теологию и юридические науки в Тюбингене, а с 1837 года посвятил себя литературной деятельности. В 1839 году эмигрировал в Швейцарию, где наряду с многочисленными публицистическими статьями был создан первый том «Стихов живого человека» (1841; второй том вышел в 1843 г.). Эти книги составили основу поэтической славы Гервега. Патетический призыв к свободе и горячий протест против деспотии, выраженные с незаурядным художественным мастерством, звучали весьма актуально в период общественного подъема в Германии 1840-хгодов. Развитие политических взглядов Гервега было противоречивым: испытав плодотворное влияние Маркса и Энгельса, он увлекался и анархистскими идеями Бакунина, был и под воздействием реформистской деятельности Лассаля. Но в целом Гервег (особенно после поражения революции 1848–1849 гг.) шел по пути постепенного отказа от мелкобуржуазных иллюзий и сближения с идеологией пролетариата, что нашло свое отражение и в его поздней лирике.
ЛЕГКАЯ ПОКЛАЖА. Перевод Б. Пастернака.
Я — вольный человек и пеньем
Не добиваюсь почестей,
За песнь весенним дуновеньем
Дарит меня простор полей.
Живу не в замке, за стеною,
Не жалован поместьем я,
Гнездо, как птица, вольно строю,
Мое богатство — песнь моя.
Мне б захотеть — и многих долю
Не пропустил бы между рук,
Когда по королевству роли
Распределяли между слуг;
А часто приглашали знаком,
Расположенья не тая,
Но я до почестей не лаком;
Мое богатство — песнь моя.
Из бочки цедит лорд червонцы,
Я разве лишь вино тяну,
Я видел золотым лишь солнце,
Серебряною — лишь луну.
Вопрос наследников не занял
О веке моего житья.
Свое добро я сам чеканил;
Мое богатство — песнь моя.
Пою охотно в вольном хоре,
В подножье тронов не певал,
Немало одолевши взгорий,
Дворцовых плит не преступал.
Пусть лихоимец богатеет
Среди отвалов и гнилья,
Я рад, что розы не скудеют;
Мое богатство — песнь моя.
Еще одной я полон страсти,
Дитя, о, жить бы нам вдвоем!
Но ты захочешь бус, запястий,
А мне на службу? — Нипочем!
Я не продам своей свободы,
И как дворцов чурался я,
Прощусь и с чувством ей в угоду;
Мое богатство — песнь моя.
ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА. Перевод П. Вержейской.
Пусть каждый, чья крепка рука,
Свой добрый меч возьмет;
Пусть гнев господний смельчака
На подвиг поведет;
Да, всех побед победней
Он загремит трубой —
В святой войне последней
Последний правый бой.
К знаменам весь бесправный мир!
Под воинский штандарт!
Свобода — общий командир!
Мы — только авангард.
Не время медлить больше!
Дружна с любой звездой,
Несись на крыльях, Польша,
В последний правый бой.
Вперед, пока не схлынул гул,
Пока горит восход,
Пока в крови не потонул
Весь фараонов род;
За нас замолвит слово
Сам бог, давно немой,
И снимет с нас оковы,
Ведя в последний бой.
Взвивайся, жертвенный костер!
Пылай в ночи и днем!
Будь опоясан с этих пор
Весь шар земной огнем!
В огне — залог явленья
Свободы молодой,
Всеобщего спасенья,—
Вперед, в последний бой!
ПЕСНЬ О НЕНАВИСТИ. Перевод Б. Пастернака.
В дорогу, трогай, в добрый час
Чрез горы и овраги,
Целуйте жен в последний раз,
Да и берись за шпаги!
Мы их не выпустим из рук,
Не распростясь с дыханьем.
Уже любить нам недосуг,
Мы ненавидеть станем!
Уже спасти нас у любви
Нет мочи и в помине,
Верши свой суд и цепи рви,
Ты, ненависть, отныне!
Тиранов нет ли, глянь вокруг.
Найдешь, покличь — нагрянем.
Любить нам больше недосуг,
Мы ненавидеть станем!
Кто сердцем юн, пусть в сердце том
Лишь ненависть играет.
Немало хворосту кругом,—
Как свечка, запылает!
Пройдемся с песнью вдоль лачуг,
По улицам затянем:
Любить нам больше недосуг
Мы ненавидеть станем!
Боритесь, не щадя костей,
Гони насилие взашей,
И будет ненависть святей
Любви обильной нашей.
Мы шпаг не выпустим из рук,
Не распростясь с дыханьем!
Уже любить нам недосуг,
Мы ненавидеть станем.
ВОСЕМНАДЦАТОЕ МАРТА. Перевод Ю. Александрова.
Незабвенный сорок восьмой!
Грохотали, как лед весной,
Марта бурные дни, бурные ночи.
То, пробудясь, не сердца ли рабочих,
Твердо на путь вступающих свой,
Бились отважно, сорок восьмой?
Незабвенный сорок восьмой!
О мать Германия, ставши тюрьмой,
Долго ты прусское счастье терпела! —
То не свобода ль бесстрашно запела,
И, с кулаками поднятыми, в бой
Шли пролетарии, сорок восьмой?
Незабвенный сорок восьмой!
Помнишь ли, как после битвы ночной
Трупы рабочих нес ты понуро,
Мрачный Берлин, перед кесарем хмурым,
Что с обнаженной стоял головой? —
Незабвенный сорок восьмой!
Семьдесят третий, спокойный год!
Царство богатых грозы не ждет.
Но пролетарии не забыли,
Кем они подло преданы были.
Марты повторятся, — время идет,
Семьдесят третий, спокойный год!
ЛЮДВИГ ГЕОРГ ВЕЕРТ.
Людвиг Георг Веерт (1822–1856). — Крупнейший представитель революционно-демократической немецкой поэзии; по словам Ф. Энгельса, «первый и самый значительный поэт немецкого пролетариата»[103]. Поступив в четырнадцатилетнем возрасте учеником в торговую контору, Веерт глубоко познал мир промышленников и торговцев Германии, а затем и Англии, куда его в 1843 году привели служебные дела. Знакомство с Марксом и Энгельсом, перешедшее в прочную дружбу, усилило социально-критическую направленность мировоззрения Веерта и укрепило его стремление посвятить свое творчество делу борьбы за освобождение рабочего класса. Истоки поэзии Веерта связаны с романтизмом, с немецкой народной песней, но он придал традиционному романтическому стиху оптимистическое звучание, его творчество с годами все больше наполнялось конкретным социально-историческим и классовым содержанием. Обладая острым сатирическим талантом, Веерт публиковал также многочисленные очерки, фельетоны, статьи; его перу принадлежит роман «Жизнь и подвиги знаменитого рыцаря Шнапганского». И своих стихотворных памфлетах поэт разоблачал трусливую и жадную ненецкую буржуазию, обнажал классовые противоречия, воодушевлял угнетенные массы на революционную борьбу.
ПРОЩАЙ! Перевод Б. Тимофеева.
Те любят жизнь, в ком честь с любовью рядом!
Шекспир.
Еще улыбку подари одну,
И я отправлюсь из страны в страну…
Дай наглядеться на волну кудрей,
Что ветер разметал, — и спой скорей
Прекраснейшую из любимых песен!
Тобой врученный меч, мужей красу,
Отважно и свободно понесу,
Пока мне слава не сплетет венок,
Чтоб с ним я вновь к тебе вернуться мог,
Иль где-нибудь, безвестный, я погибну!
Итак — прощай! Вдали громады гор,
В час утра так хорош родной простор…
Я зной любви сменю на битвы жар,
Хвала сравнявшим долг любви и чести.
* * *
«В покрове дивной тайны…». Перевод А. Гугнина.
В покрове дивной тайны
Весна приходит к нам.
Звенят цветы венчально
По склонам и холмам.
Ты вей венок, ликуя,
И мирт в него вплетай,
Невесту молодую
Короной увенчай.
* * *
«Смущая вечерний покой…». Перевод А. Гугнина.
Смущая вечерний покой,
Звонница зазвонила.
Ее своей белой рукой
Дочь звонаря разбудила.
Звон первый угас вдали,
И ясно открылось взору,
Как тени на лес легли
И солнце ушло за горы.
Второй я услышал звон,
И звезды вдруг засверкали,
Усыпали весь небосклон,
Разбежались в воздушные дали.
Нас третий звон миновал —
Улетел с ночными ветрами.
Я уста твои целовал,
И липы шуршали над нами.
* * *
«Беспредельно тебя люблю я…». Перевод А. Гугнина.
Беспредельно тебя люблю я,
Не прожить без тебя и дня;
Золотое кольцо куплю я
Все в дорогих камнях.
Цветы, что манят, сверкая,
В горы пойду искать
И буду, тебя лаская,
В локоны их вплетать.
Пройду я простор безбрежный,
Заставлю всех птиц прилететь
И, славя стан твой нежный,
Звенеть, щебетать и петь!
РАБОТАЙ! Перевод Б. Тимофеева.
Ты, в блузу синюю одетый,
И соль и хлеб создай нам ты.
Трудись! Ведь труд — все знают это
Есть средство против нищеты.
Работай, силы не жалея,
Ты в день часов шестнадцать так,
Чтоб ночью стал тебе милее
Гнилой соломенный тюфяк!
Трудись! Ты создан для работы,
Пусть жилы все напряжены,—
Припомни слезы и заботы
Своей беременной жены.
Трудись! Со лбом широким этим
Ты для иных — рабочий скот.
Твои оборванные дети
Улыбкой встретят твой приход.
Пусть валит с ног тебя работа!
Пусть сердце рвется на куски!
Пускай соленой влагой пота
Обильно смочены виски!
Работай, истощи все силы!
Трудись, пока не упадешь!
Работай! Ведь в тиши могилы
Покой и отдых ты найдешь…
ПЕСНЯ ГОЛОДА. Перевод Б. Тимофеева.
Почтенный король-бездельник,
Узнай о нашей беде;
Ели мало мы в понедельник,
Во вторник — конец был еде,
Мы в среду жестоко постились,
Четверг был еще страшней,
Мы в пятницу чуть не простились
От голода с жизнью своей…
Окончилось наше терпенье;
Дать хлеб нам в субботу изволь,
Не то сожрем в воскресенье
Мы тебя самого, король!
СИДЕЛИ ОНИ ПОД ИВОЙ. Перевод И. Миримского.
Сидели они под ивой,
Сидели вокруг стола,
Сидели за кружкой пива
И пили — была не была!
Кутили они бесшабашно,
Все было им трын-трава.
Что завтра их ждет — не страшно,
Была бы цела голова!
Они собрались для пира,—
А лето кругом цветет! —
Из Йорка и Ланкашира
Веселый и буйный народ.
Смеялись и песни орали
До света вечерних огней.
А вечером парни узнали
О битве силезских ткачей.
Когда им все стало известно,
Вскочили здоровяки.
Вскочили в ярости с места,
Огромные сжав кулаки.
И шляпами махали
И слезы роняли из глаз.
Поля вокруг громыхали:
«Силезия, в добрый час!»
ИМПЕРАТОР КАРЛ. Перевод Б. Тимофеева.
Великий Карл, почтенный муж,
Послал на небо немало душ;
Он убивал во имя Христа,
И славы его не меркла звезда.
Богатства и власти познав удел,
В Ахене он на троне сидел,
И люди со всех концов земли
К могучему Карлу с поклоном шли.
Владыке несли немало даров —
Чудесных ваз, камней, ковров;
Один калиф, чья далёко страна,
Прислал ему часы и слона.
Но славный Карл, пресытясь всем,
Изрек: «Мне ценности зачем?
Чужих слонов не надо мне:
Получше есть вещи в моей стране!..»
Он вверх по Рейну покатил
И в Ингельгейме лозу взрастил,
Ее он тою рукой берег,
Что сотню стран согнула в рог.
Да, он растил ее той рукой,
Что кровь народов лила рекой,—
Вот почему и до наших дней
Нет ингельгеймовских вин красней!
ХРИСТИАН ФРИДРИХ ГЕББЕЛЬ.
Христиан Фридрих Геббель (1813–1863). — Крупнейший немецкий драматург середины XIX века, поэт, прозаик, теоретик искусства. Годился в семье поденных рабочих, в детстве испытал нищету и лишения; упорно и настойчиво приобретал знания; преодолевая различные влияния, искал свою тему и свое место в современной ему немецкой литературе. Специфика поэзии (а во многом и драматургии) Геббеля определяется его стремлением, с одной стороны, опереться на идейно-художественное и философское наследие «Бури и натиска» и позднего романтизма, а с другой стороны, попыткой обновить и осовременить это наследие постановкой коренных философских проблем бытия, углублением психологической проблематики и введением реалистических художественных элементов. Основные прижизненные сборники стихотворений Геббеля вышли в 1842, 1848 и в 1857 годах.
«Кровь из ран уж больше не сочится…»[104]. Перевод А. Голембы.
[104].
Кровь из ран уж больше не сочится,
Боль былая сердца уж не гложет,
Но, сумев от скорби откупиться,
Человек себя узнать не может:
Рот и очи скованы печатью,
Не страшна и бездна человеку,
Будто позабыл он об утрате
И ничем не обладал от века.
Но закон извечный даже в самой
Гибели — гармонию находит,
В том, что с соразмерностью упрямой
Существо приходит и проходит.
И стремятся все частицы тела
К той, погибшей под его покровом:
Тот, чья жизнь давным-давно истлела
Может выглядеть совсем здоровым.
Есть печаль, что станет невозможной
Коль сама своей не сломит меры,
Ибо, с этой нашей меркой ложной,
В прошлом видим мы одни химеры.
Позабыв в своей тревоге лживой,
Как любил, с какой терзался силой,
Человек сравнится с той крапивой,
Что запляшет над его могилой.
* * *
«Боль, загадочна ты!..»[105]. Перевод К. Азадовского.
[105].
Боль, загадочна ты!
То тебя клял неустанно,
То, хоть не зажили раны,
Славлю до хрипоты.
Вечный священный бой!
Силы, повсюду в природе
Скрытые, рвутся к свободе.
Бейся ж! Триумф за тобой!
Если свой тяжкий труд
Завершишь до могилы,
То тебя эти силы
Сами ввысь вознесут.
В глубь Вселенной смелей!
Боль твою и тревоги
Щедро оплатят боги.
Все в ней — твое! Владей!
Знай лишь: из звезд одна —
Та, что связует поэта
С первоистоками света,—
Ими утаена.
Пламя ее добудь!
В нем твоя жизнь земная
Вспыхнет и, догорая,
Высветлит к вечности путь.
СВЯТАЯ СВЯТЫХ. Перевод К. Азадовского.
Когда, дрожа стыдливо, два созданья
Прильнут друг к другу, слившись воедино,
Когда любовь, которая невинна,
Их сблизит, а не жажда обладанья,
Тогда миры скрестятся в мирозданье,
Природа обнажит свои глубины
И брызнет ключ из самой сердцевины
Людского «Я» — источник созиданья.
Что в женском сердце теплилось под спудом,
Что дух мужчины исподволь питало,
Должно смешаться — Красота их сплавит,
И Бог, заворожённый этим чудом,
Свое бесплотно чистое начало
И образ свой в их двуединстве явит.
ОСЕННИЙ ДЕНЬ. Перевод К. Азадовского.
Такой, как нынче, день неповторим.
Осенний воздух бездыханно тих.
И лишь ложатся с шорохом глухим
Плоды на землю в зарослях густых.
В природе праздник. Не мешай же ей!
Пускай сама снимает урожай!
Ведь все, что нынче падает с ветвей,
Лишь солнца луч срезает невзначай.
ВЕЧЕРНЕЕ ЧУВСТВО. Перевод Ю. Корнеева.
Мирная схватка
Ночи и дня…
Смутно и сладко
Вновь на душе у меня.
То ль отболели
Раны давно,
То ль в самом деле
Счастье и мне суждено.
На землю вскоре
Спустится сон.
Радость и горе
Смоет участливо он.
Ввысь отлетает
Жизнь в этот час
И усыпляет,
Как колыбельная, нас.
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕРЕВО. Перевод Ю. Корнеева.
Закат последний свет струит
И тонет в облаках.
Одно лишь дерево горит,
Как в утренних лучах.
Лишь дерево, но коль в ночной
Тиши мы вспомянем
О радужной поре дневной,
То вспомним и о нем.
Мне кажешься на склоне дней
Ты тем же, чем оно:
Сиянье юности моей
В тебе сохранено.
НАПОМИНАНИЕ. Перевод Ю. Корнеева.
Ты об утратах не жалей
И миг утраты не кляни:
Как темный дух грядущих дней,
Проходит он сквозь наши дни,
Чтоб мы учились у него
Мириться с тем, что суждено,
И обходиться без того,
Что смерть отнимет все равно.
* * *
«К чему прощанья в миг разлуки…». Перевод Ю. Корнеева.
К чему прощанья в миг разлуки,
Когда уже все решено?
Я вынесу любые муки,
Коль не тяну их, как вино.
Вчера не знали мы и сами,
Какой назначен мне удел.
Горело в нас былое пламя,
Дух от былой мечты хмелел.
А ныне с милых уст лобзанье
Без слов, без слез— и еду я!
Верь: лишь такое расставанье —
Приправа к скуке бытия.
ТЕОДОР ШТОРМ.
Теодор Шторм (1817–1888). — Видный представитель критического реализма XIX века. Раннее творчество Шторма (в частности, книга стихов «Песни трех друзей», 1843) тесно связано с традициями позднего романтизма; в его поэзию органически входит тема природы, стихотворная форма тяготеет к народно-песенной. Большое место в творчестве Шторма занимает его родина — Шлезвиг-Гольштейн: писатель с любовью отражает природу и историческое прошлое родного края, его борьбу за свободу, рисует социально-исторические сдвиги (классовое расслоение и гибель старого патриархального общества) середины XIX века. Как поэт Шторм, используя напевный романтический стих, значительно расширил возможности передачи тонких душевных состояний, настроений, оттенков чувств. Сборник «Стихотворений» Шторма был издан в 1852 году; от издания к изданию поэт вносил в него дополнения и исправления. Последним прижизненным изданием было седьмое — в 1885 году.
ОСЕННЯЯ ПЕСНЬ. Перевод Е. Витковского.
Летит листва — нальем вина,
Отринем все заботы,
Осеннему добавим дню
Немного позолоты!
То так, то эдак все идет,
Безгрешно ли, греховно —
Но мир земной хорош, а жизнь
Светла и полнокровна!
Забудет сердце о беде,
Коль звон бокалов грянет,
Мы знаем: сердце никогда
Себя губить не станет!
Летит листва — нальем вина,
Отринем все заботы!
Осеннему добавим дню
Немного позолоты!
Конечно, осень на дворе,
Но скоро, очень скоро,
Пройдет зима, придет весна
Явить отраду взору!
И станут ласковее дни,
И в новой жизни нашей
Испить веселья и любви
Мы сможем полной чашей!
ЛЕТНИЙ ПОЛДЕНЬ. Перевод Е. Витковского.
Амбар и дом объяты тишью.
Устало дремлют жернова.
Колышется на старой груше
Голубоватая листва.
Жужжат медлительные пчелы.
В открытой щели слуховой,
Вдыхая запах сеновала,
Посапывает домовой.
Храпит и мельник и прислуга,
Лишь дочка бодрствует в дому.
Заснул батрак в углу сарая —
Она тайком идет к нему.
Она смеется, будит парня,
Который только что прилег:
«Целуй меня, влюбленный мальчик!
Да тише, тише ты! Молчок!»
ГОРОД. Перевод Е. Витковского.
Мой серый город, ты стоишь
У серых волн морских.
Туман течет с высоких крыш,
И полнят пасмурную тишь
Накаты волн морских.
Здесь не цветет покров земли,
Когда весна придет,
Лишь, пролетая, журавли
Рыдают осенью вдали,
И темен небосвод.
Но я тоскую по тебе,
И юность, город мой,
Назло безжалостной судьбе
Навек дарована тебе,
О серый город мой.
В ЛЕСУ[106]. Перевод Е. Витковского.
[106].
Горный склон от ветра
Скалами укрыт.
Под ветвями ели
Девочка сидит.
Мяты и тимьяна
Чуден аромат.
Голубые мушки
В воздухе жужжат.
Любо ей скрываться
В гущине лесной.
Локоны сверкают
Шелковой волной.
Думаю под гомон
Птичьих голосов:
Это — королева
Сказочных лесов.
СОЛОВЕЙ. Перевод Е. Витковского.
И до утра полны кусты
Мелодий соловьиных,
И оттого, нежны, чисты,
Благоуханные цветы
Раскрылись на куртинах.
Вот и она выходит в сад,
Стремясь уединиться,
Облачена в простой наряд,
Она идет, потупя взгляд,
И долгим днем томится.
И до утра полны кусты
Мелодий соловьиных,
И оттого, нежны, чисты,
Благоуханные цветы
Раскрылись на куртинах.
ЧУВСТВУЮ — ПРОХОДИТ ЖИЗНЬ… Перевод Е. Витковского.
Я чувствую — проходит жизнь,
Всему настанет свой черед:
Последняя замолкнет песнь,
Любовь последняя пройдет.
Я нежно льну к твоим устам,
Желанье грудь мою теснит —
Сорвать последний поцелуй,
Последние цветы ланит.
Из кубка чудного приму
Последний золотой глоток;
Ты тихий, ты последний свет,
Что мне на сердце ныне лег.
Звезда последняя взошла.
Откройся, грусти не тая.
Ты — счастья мой последний луч,
К твоим стопам склоняюсь я.
Последний трепет жизни дай
Почуять сердцу моему,
И лишь потом звезда моя
Пускай закатится во тьму.
ШЛО ВРЕМЯ… Перевод Е. Витковского.
Шло время, и так много долгих дней
Ты отрывалась от груди моей.
Я льнул к тебе, внимателен и нежен,
Но знал, что час разлуки неизбежен.
Но прежде чем уйдешь ты, не любя,
В последний раз благодарю тебя —
И только не оплакивай былого,
Не пожелай ко мне вернуться снова.
Так я стою, и миг прощанья длю,
И уходящее вотще ловлю,
И, сколько б нам ни жить по высшей воле,
Не быть нам вместе ни мгновенья боле.
ЛЮСИ. Перевод Е. Витковского.
Она запомнилась навеки мне
С учебником, сидящей в стороне,
Весь день играть не шла она, бедняжка:
Ученье в школе ей давалось тяжко.
Ни хороша собою, ни умна,
Из мрака памяти глядит она:
Печален лик ее, очерчен тонко,—
Мы жили вместе: братик и сестренка.
Невинные в младенчестве своем,
Щека к щеке мы спали с ней вдвоем,—
Печали нет безмерней и безбрежней,
Чем грусть о детстве и о жизни прежней.
Пришел конец — она слегла в постель.
Она болела несколько недель.
Она скончалась тихо в день весенний.
Дул ветерок. Цвели кусты сирени.
Я плакать в поле убежал; потом
Я вытер слезы и вернулся в дом.
Прошли десятки лет, прошли, как тени,—
Как много пережито увлечений!
Что ж не могу забыть, тоскую что ж?
Быть может, ты к себе меня зовешь?
Из памяти глядишь и просишь взглядом,
Чтоб мальчик лег с тобою снова рядом?
НА РАССВЕТЕ. Перевод Е. Витковского.
Рассвет окрасил крыш верхи.
Кричат об утре петухи.
То здесь — один, то там — другой,
Они поют наперебой.
И замирает в далях звук —
И снова тишина вокруг.
Ну пойте, пойте мне опять!
Но петухи решили спать.
ОСЕНЬ. Перевод Е. Витковского.
I.
К пирамидам, в страны лета
Потянулись журавли,
Песня жаворонка спета,
Скрылись ласточки вдали.
Все грустней, все безответней
Ветер кличет холода,
От жары, от неги летней
Не осталось ни следа.
Лес поник, пусты поляны,
Обнажаются поля.
В испаренья и туманы
Погружается земля.
Лишь порою в день недлинный
Выйдет солнце из-за туч,
Заструится над долиной
Счастья канувшего луч.
И светлей, гостеприимней
Засверкают луг и лес.
Верь: за всей тоскою зимней
Ждет весенний блеск небес.
II.
Колосья сжаты, скоро снег.
Зверье бредет искать ночлег.
Всему хозяин — человек.
III.
И если отцвели цветы —
Плоды созрели им на смену.
Пора мечтаний отошла,
Реальность обретает цену.
РАСПЯТИЕ. Перевод Е. Витковского.
В крови, в поту земной юдоли
На крест воздвигнули его.
Но ужас и гримасу боли
Смягчило жизни торжество.
А восприемники ученья
Алтарь поставили ему
И в каждом сумрачном соборе,
И в каждом набожном дому.
И ужас прежний, неизменный
Убережен до наших пор,
Увековеченным кощунством
Пронзая просветленный взор.
ТЫ ПОМНИШЬ ЛИ… Перевод Е. Витковского.
Ты помнишь ли, как позднею весной
Сгущались над землей ночные тени,
Мы из окна с тобой смотрели в сад,
Что полон был жасмина и сирени,
Сверкали звезды в тот далекий час,
И молодость не покидала нас.
В спокойном ветре дальний шум дождя
Летел, шурша, от берегов залива,
И мы с тобой сквозь лиственный шатер
На мир ночной взирали молчаливо.
Опять вокруг цветы цветут весной,
Но далеко остался дом родной.
И вот опять, в томительной ночи,
К мечтам родным душа моя влекома.
Кто выстроил свой дом в родном краю,
Тому не должно жить вдали от дома.
Но не ропщу, судьба моя легка,
Пока в руке моей — твоя рука.
ГВОЗДИКИ. Перевод Е. Витковского.
Любимой я венок послал,
Он был и свеж и ярок,
Но не велел передавать,
Кто шлет его в подарок.
На танцах вечером взглянул
Я на нее несмело —
Она была в моем венке
И на меня смотрела.
* * *
«Он ей дарил молодую…». Перевод Г. Ратгауза.
Он ей дарил молодую
Солнечную любовь.
Она захлопнула двери
И о нем не вспомнила вновь.
И с девушкой тихой и славной
Он зажил в мирном дому,
А та, ни о ком не мечтая,
Стремилась только к нему.
От страсти к ней не сгорало
Влюбленное сердце дотла.
Но она за него страдала
И лишь для него жила.
ВИЛЬГЕЛЬМ БУШ. Перевод Г. Ратгауза.
Вильгельм Буш (1832–1908). — Получил известность как поэт и художник-карикатурист. Учился в художественных академиях в Дюссельдорфе, Мюнхене и Антверпене; как график вначале активно сотрудничал в газетах и журналах. С 1870-х годов вел уединенный образ жизни в своем родном городе Видензале, увлекался философией Шопенгауэра. Буш был единственным значительным поэтом-сатириком в Германии второй половины XIX века; он едко высмеивал мещанство, ханжество, чинопочитание. Его стихи, простые и яркие по форме, близки к народному юмору и благодаря этому доныне пользуются особой популярностью. Вместе с тем он известен и как мастер гротеска. Буш прославился также как и автор и иллюстратор повести в стихах «Макс и Мориц» (1865). Его творчество — связующее звено между сатирой Гейне и сатирическими дебютами Вайнерта и Брехта.
«Я самокритику люблю!..».
Я самокритику люблю!
Во-первых, я себя хулю,
Но этот залп — не вхолостую:
Себя я скромным аттестую!
И, во-вторых, решит народ:
Вот, дескать, честности оплот…
И, в-третьих, прочим критиканам
Отрезан путь таким капканом.
В-четвертых, слышать буду рад,
Что мне, надеюсь, возразят.
Выходит, как ни повернешь,
Что я со всех сторон хорош.
* * *
«Птенец сломал крыло, друзья…».
Птенец сломал крыло, друзья,
Летать бедняжечке нельзя.
К нему крадется черный кот,
Уже облизывает рот.
Вот-вот на ветку вспрыгнет к пташке!
Куда деваться ей, бедняжке?
И птенчик думает: «Ну, вот!
Кот все равно меня сожрет.
Зачем же лишняя тревога?
Я попиликаю немного».
И вновь веселый слышен свист.
Конечно, птенчик — юморист!
ВООРУЖЕННЫЙ МИР.
Где малый холмик или стожик,
Там повстречались лис и ежик.
Лис — грозно: «Эй, скажи сперва,
Ты знаешь l’ordre du roi?[107]
Мир заключен на целом свете.
Всем — сдать оружье, всяк в ответе,
Кто уберег свою броню!
Я сам такой приказ храню.
Итак, во имя короля,
Отдай колючки, не юля!»
А еж: «Остры, лисичка, зубки
Твои! Сдай их — и жди тогда уступки».
Тут повернулся он кругом
И, ощетинившись ежом,
В своей броне, уходит с миром,
Довольный и собой и миром!
ДЕТЛЕФ ФОН ЛИЛИЕНКРОН.
Детлеф фон Лилиенкрон (1844–1909). — Один из крупнейших немецких поэтов конца XIX века, прозаик и драматург. Лилиенкрон много лет провел на военной службе в прусской армии, участвовал в военных походах 1860–1870-х годов. Наибольшее значение для истории литературы сохраняют его стихотворения; они отличаются большой фантазией, богатством ритмического рисунка и — в лучшей своей части — здоровым сатирическим и ироническим отношением к окружающей действительности Германии рубежа веков. В поэзии Лилиенкрона, выраставшей на опыте Гейне, Дросте-Гюльсгоф, Шторма, заметны также импрессионистские черты, он передает мгновенные впечатления, настроения, нюансы переживаний. Политические и философские взгляды Лилиенкрона были противоречивыми: неприятие современного ему официального общества уживалось с идеализацией завоевательной войны; тяготение к патриархальным формам жизни, к идиллии гармоничной любви на фоне гармоничной природы сочеталось с эмоциональным и социально-критическим отношением к жизни.
ПОЕЗД-ЭКСПРЕСС. Перевод Е. Витковского.
Трансевропейский, на Запад с Востока
Рвется железнодорожный мотив.
Может быть, счастье уже недалеко?
В рай не увозит ли локомотив?
Тратататата — грохочут колеса,
Поезд, как зверь, зарычал у откоса,
Дым, словно хвост, за собой поволок,—
Третий звонок, паровозный гудок.
В окнах картины сменяют картины,
Из-под колес убегает земля,
Мимо проносятся горы, долины,
Новые радости в жизни суля.
Солнце с луной чередуются в небе,
Путникам выпадет радостный жребий,—
Вечер придет — до утра подожди:
Все, что задумано, — все впереди.
Сумерки тихо струятся над миром,
Вот и Венера взошла в небеса.
Скоро прощаться пора пассажирам.
О, погодите еще полчаса:
Дамы, ученые, принцы, банкиры,
Платья, костюмы, сутаны, мундиры,
«Высшее общество», томный поэт,
Дети в расцвете младенческих лет.
Темень, как демон, легла на просторы,
В поезде газовый свет засиял,—
Трататата, затрещали рессоры,
Заверещал запоздалый сигнал,—
Трататата, увидать за углом бы
Смерть, что стоит возле тлеющей бомбы!..
Стойстойстойстойстойстойстойстойстойстой
В поезд врезается поезд другой.
Утром на рельсах — осколки, обрывки,
Кости, раздробленные на куски,
Акции, шпоры, щипцы для завивки,
Зонтики, шляпы, часы, кошельки,
Деньги, поэма «Небесные звуки»,
Кольца, симфония «Нежные муки»,
Кукла, в упряжке из тонких ремней
Маленький ослик, пристегнутый к ней.
НОВАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА. Перевод Е. Витковского.
Взывает череп: «Я посол, барон,
И я содействовал переговорам
Меж Нидерландами и датским троном.
Кто сотрясает стены саркофага?
Кто взламывает крышку? Страшный суд?
Вульгарный сброд, отродья крепостные,
С меня срывают голубую ленту,
Срывают ленту ордена Слона!
Портрет миниатюрный, Фридрих Пятый,
Законный мой король и господин,
Написан кистью по слоновой кости —
Портрет монархом лично мне подарен!
Разбой! Грабеж! Мерзавцы! Подлецы!»
Железную дорогу землекопы
Сооружают, и могильный склеп,
Конечно, подлежит уничтоженью.
Рабочие над черепом хохочут.
Один из них отнес портрет в подарок
Рябой и рыжей девке из барака,
Которая торгует скверным шнапсом,
Которая заявится на танцы,
Портрет, как украшенье, нацепив.
Взывает череп: «Я посол, барон,
И я содействовал переговорам
Меж Нидерландами и датским троном!»
Не помогает. Полупьяный парень
Его забросил в кузов вагонетки,
Которая катается по рельсам.
Потом его швыряют, словно меч.
Взывает череп: «Я посол, барон,
И я содействовал переговорам
Меж Нидерландами и датским троном!»
Не помогает. Бросили его,
Намаявшись, к подохшей кошке в мусор.
Бушует череп: «Я посол, барон,
И я содействовал переговорам
Меж Нидерландами и датским троном!»
Не помогло. Его перекричал,
Спеша по рельсам, первый паровоз.
НА ВОКЗАЛЕ. Перевод Е. Витковского.
По городу огромному блуждая,
На отдаленный маленький вокзал
Я выбрался. В соседний городок
Людей везут отсюда поезда —
Мужчин, весь день стоявших за прилавком,
Трудившихся в конторах — и теперь
Мечтающих в кругу семьи стряхнуть
На время пыль своих дневных трудов.
Заканчивался знойный летний день.
Уже смеркалось. Месяц молодой,
Прокравшись боком, встал, как запятая,
Как раз меж двух нагруженных вагонов.
На западе вечерний небосклон
Еще бледнел в молочно-желтых красках.
На фоне неба четко выделялись
Громады фабрик, заслонивших свет.
Из труб валил густой, тяжелый дым —
Всходя сначала прямо вверх, затем,
Как будто сломленный, куда-то вправо,
Поддавшись ветру, плыл горизонтально.
В разрывах дыма, словно очаги,
Пылавшие спокойно, не мерцая,
Виднелись клочья синего покрова.
Из города летел далекий рокот,
Такой знакомый с той поры, когда
Мы, немцы, залегли вокруг Парижа,
В котором клокотал пожар Коммуны,
И слушали такой же точно гул.
Мне вспомнился тот день — и, как тогда,
Опять возник на дымных небесах
Сверкающий надраенной латунью
Юпитер — высоко над шумным миром.
И нынче, как тогда: на небесах
Стоял Юпитер — он один из всех
Светил небесных виден был, взиравший
На вечную земную суету.
И, словно бы невольно, про себя
Я прошептал: «Двадцатое столетье».
И стихло все в душе. Последний поезд
Уже стоял готовый, ожидая
Последних утомленных пассажиров.
И железнодорожник в красной шапке
Сигнал к отправке дал, промчавшись мимо,
И все. На небесах стоял Юпитер,
Горели тускло синие огни,
И смутный гул из города летел.
БРОДВЕЙ В НЬЮ-ЙОРКЕ. Перевод Е. Витковского.
На улицу, что с запада ведет
К востоку и опять спешит на запад,
Я вышел. Здесь богатства всей земли
В гигантскую артерию Нью-Йорка
Вливаются и уплывают прочь.
Здесь смешивалось множество народов,
Но чаще всех заметен был в толпе
Неутомимый янки — он спешил,
Глазами и походкой выражая
Одну святую жажду — делать деньги.
Тогда меня постиг внезапный страх,
Я посмотрел кругом, ища опору,—
И вот нежданно, меж толчков и брани,
Передо мною милый образ встал.
Как будто вдалеке от городов,
От всех поселков и больших дорог,
Наш одинокий дом в полях затерян,
В лесах, в лугах, и рядом — старый сад.
Лучи бросало солнце на тропинку,
И май блистал среди лесных дерев.
Ты рядом шла, твоя рука в моей
Лежала, — и тропой на лесосеку
Мы вышли наконец, — пейзаж молчал,
Лишь тихий звон летел издалека.
И ласково кругом тянулись тени,
И нежно целовал твои глаза
Листвой зеленой бук…
Мы вечером опять пересекли
Весь парк, — мы соловья искали в нем
(Ты обязательно хотела слышать,
Как он поет), — ты голову склонила
Мне на плечо, увидевши в испуге,
Как мраморный сатир из темной чащи
На нас взглянул; и лишь тогда, внезапно,
На яблоне так страстно засвистал
Король певцов, — прекраснейшие песни
Он возносил бесстыдному божку.
Огромное, неведомое счастье
В сердца проникло к нам — и над землей
Покой простерся… Пламенели звезды,
И были тишина, весна и ночь.
МАРТОВСКИЙ ДЕНЬ. Перевод В. Левика.
Тучки в небе, тени на равнине,
Контур леса тает в дымке синей.
Воздух полон криком журавлиным,
Весь распахан шумным птичьим клином
Жаворонки вьются над лугами
В первом шуме, первом вешнем гаме.
Девушка, девчушка в лентах алых,
Счастье где-то в землях небывалых.
Было счастье, с тучками уплыло…
Удержал бы, да не тут-то было.
ВЕЧЕР. Перевод В. Левика.
Еще октябрь, а снег уже идет.
Леса грустят, им тяжек зимний гнет.
Идет зима и сеет смерть везде,
И это смерть страданью и нужде.
Чу! Вдалеке — оленя трубный зов.
Я так и вижу: вскинув груз рогов,
Расширив ноздри, пышущий теплом,
Он ломит сквозь кусты и бурелом.
Да, жизнь жива, но что за грустный вид
По край дороги старушонка спит.
Сбирала хворост, чтоб согреть жилье,
Умаялась — и сон сморил ее.
Необоримый, вечный сон. Так что ж,—
Свою охапку в небо ты снесешь?
Закат над мертвой алый сплел венок,
Сняв поцелуем прах с недвижных ног.
СЕНБЕРНАР. Перевод В. Левика.
Два часа гляжу в окошко,
От стекла не отлипая,
Но напрасно, все напрасно:
Как сквозь землю провалился
Этот чертов сенбернар.
Наконец-то, вот он, вот он!
Топ да топ на важных лапах,
Топ да топ — язык как знамя,
Топ да топ, идет степенный
Желтый с белым сенбернар.
Рядом — юная красотка
В легком летнем белом платье.
А в ее руке точеной
Поводок — и ей послушный
Выступает сенбернар.
Вот она уже у двери,
Вот она в моих объятьях,
И, меж нас просунув морду,
Трется и хвостом виляет
Умный, верный сенбернар.
ЛУЖИЦКОСЕРБСКИЕ ПОЭТЫ.
Лужицкие сербы (или сорбы, как называют их по-немецки) — западнославянский народ, живущий в юго-восточной части Германской Демократической Республики. Некогда здесь, в бассейне верхней Лобьи, Нисы и Спревы (как называют лужичане Эльбу, Нейсе и Шпрее), в районах Верхней (центр — город Будышин, Бауцен) и Нижней (центр — Хочебуз, Котбус) Лужиц обитали многочисленные славянские племена, постепенно, в результате начатой Карлом Великим пресловутой политики «дранг нах остен», утратившие свою независимость и подвергшиеся насильственной германизации. Особенного размаха это достигло при Бисмарке и своего апогея — в условиях гитлеровском диктатуры, когда самое существование лужицкого народа было поставлено под угрозу. Победа советского народа над фашизмом спасла лужичан от физического уничтожения. «8 мая 1945 года навсегда останется истинным днем нашего национального возрождения», — писал крупнейший современный лужицкосербский писатель Юрий Брезан.
Несмотря на постоянное давление, лужичане — в основном занимавшиеся крестьянским трудом — сумели сохранить свою самобытную культуру, свои языки и литературу, свой фольклор и свою поэзию, которые находили поклонников и исследователей в России. В нашей стране издавна существовал немалый интерес к жизни небольшого славянского народа. Известно, например, что еще в 1697 году состоялась встреча Петра I с представителями лужицкой интеллигенции. Позднее изучением культуры и языка лужичан занимались выдающиеся русские филологи И. И. Срезневский, Л. Ф. Гильфердинг, А. А. Шахматов, Л. В. Щерба. В антологиях и сборниках славянской поэзии (Н. Ф. Берга, 1854; Н. В. Гербеля, 1871; В. Зотова, 1881; А. Сиротинина, 1913 и 1916, и др.) также печатались переводы из народной поэзии и стихотворения лужицких поэтов. Уже в наши дни народное творчество лужичан было представлено на русском языке в сборнике «Эпос славянских народов» (М., 1959) и особенно в книге «Сказки, пословицы и песни лужицких сербов» (М., 1962); антологии лужицкой поэзии XIX–XX веков выходили на Украине и в Белоруссии.
Ныне литература лужицких сербов является составной частью социалистической национальной культуры ГДР, где лужичане имеют все гарантированные конституцией возможности для ее интенсивного и беспрепятственного развития. Обращаясь с приветственным письмом к издательству лужичан «Домовина» («Родина») по случаю его десятилетия, председатель Совета Министров ГДР товарищ Вилли Штоф отметил, что в работе издательства «находит свое яркое выражение свободное развитие серболужицкого населения в Германской Демократической Республике. В многочисленных литературных произведениях нашли свое отображение национальное и социальное освобождение серболужицкого народа от вековой нищеты и угнетения, глубокое чувство дружбы к народам Советского Союза и других социалистических стран, так же как и активное участие серболужицкого населения в успешном строительстве нашего рабоче-крестьянского государства».
В настоящий том включены новые переводы стихотворений крупнейших поэтов Верхней и Нижней Лужиц XIX века.
ХАНДРИЙ ЗЕЙЛЕР. Перевод с верхнелужицкого П. Стефановича.
Хандрий Зейлер (1804–1872). — Верхнелужицкий поэт, ученый и публицист-просветитель эпохи национального возрождения. Автор лужицкого гимна. Был священнослужителем; в течение всей жизни проявлял глубокий интерес к изучению культуры своего народа, собирая и публикуя поэтические образцы его творчества. Был основателем и редактором лужицкосербских периодических изданий, сыгравших важную роль в развитии народного самосознания. В поэзии X. Зейлера преобладает патриотическая и социальная лирика в духе народно-романтических традиций. Многие его стихотворения были положены на музыку и стали народными песнями. Особый интерес представляют сатирические басни (X. Зейлер написал их свыше ста шестидесяти), направленные как против пангерманизма, так и против косности и невежества ряда соотечественников поэта.
В 1883–1891 годах по инициативе известного лужицкого ученого-слависта А. Муки было выпущено первое собрание сочинений X. Зейлера в четырех тонах. В ГДР произведения поэта неоднократно издавались и на родном и на немецком языках. Первые русские переводы стихотворений X. Зейлера были напечатаны в антологии Николая Гербеля «Поэзия славян», СПб., 1871.
СЕРБСКИЙ КРАЙ.
Я знаю край, где пышность спелых нив
Нас одаряет благодатью хлеба,
И славен он, и сказочно красив,
Над ним сияет солнечное небо.
И этот край, навек любимый нами,
Прекрасная лужицкая земля,
И это наша радостная свадьба.
Я знаю край, где правды жив закон,
Где путь добра ведет к заветной цели,
Где ложь и злоба выброшены вон,
Где все полно лишь света и веселья.
И этот край, навек любимый нами,
Веселая лужицкая земля,
И это наша радостная свадьба.
А наш народ и в бурях устоит,
Его не сокрушат ветров порывы.
Он тверд всегда, как наших гор гранит,—
Бестрепетный народ благочестивый.
И этот удивительный народ —
Лужицкий наш народ непобедимый,
И свадьба наша втрое веселей.
Он в час беды и честь и правду спас,
Когда другим никак не устоять бы,
И песни наши веселы сейчас,
И светел праздник нашей сербской свадьбы.
И этот удивительный народ —
Лужицкий наш народ непобедимый,
И свадьба наша втрое веселей.
БОЖЕ СЁДЛЕШКО[108].
[108].
Там седлешко рыдало,
В лесу, на Жморце,
На каменной вершине,
Под лунным светом.
Его спросили елки,
Спросили буки:
«О чем ты плачешь горько,
О чем тоскуешь?»
И ястребы проснулись
На ветках темных,
Разбуженные плачем
И тяжким стоном.
И от его ответа
Все застонало:
«Я сербских нив увидел
Простор печальный.
Погибель распростерлась
Над сербским краем,—
И слышен погребальный
Звон колокольный.
Когда бы мог поведать
Все то, что знаю,—
Я сердце вам пронзил бы
Смертельной болью…»
НАПРАСНЫЕ УГОВОРЫ.
Мне матушка так говорила не раз:
«Ой, Хилжичка, в бедного ты не влюбляйся.
Как гибнут от стужи морозной листы,
Любовь погибает от злой нищеты.
Ой, только богатым живется легко,
Ой, нищему сердце нельзя отдавать».
А милый мне только вчера говорил,
Что чувство, как солнце, а деньги, как лед.
Сказал он: «Что б, Хилжичка, было, когда б
Я деньги имел, но тебя не любил?»
Конечно, он прав, ошибается мать:
Холодные деньги нельзя целовать.
Когда под серпом погибают цветы,
Не жаль уничтоженной им пестроты.
Богатство — как стебель непрочный и слабый,
Лишь друга любовь неизменна была бы.
СОЛНЦЕ, СВОБОДА.
«Не могу цвести впотьмах,—
Заявил подсолнух,—
Нам живется лишь в садах,
Ярким светом полных».
Да, не жди расцвета
Без тепла и света.
Человек, — какой, скорбя,
Ты томишься жаждой,
Если света для себя
Ждет подсолнух каждый?
И ответ был очень
Краток, прост и точен:
«Путы рабства надо с нас
Сбросить поскорее,—
Воля вольная сейчас
Солнца нам нужнее».
Лишь свободы людям
Ждать и жаждать будем.
ПУТЕШЕСТВУЮЩИЕ ЧУЖЕЗЕМЦЫ.
Скитайся, блуждай где угодно,—
Простор и размах.
Как дышится сладко, свободно
В зеленых краях.
Не так ли кукушка кукует ку-ку,
Для всех — лишь ку-ку да ку-ку…
Повсюду достаточно места
На свете для нас.
Цветами лугов, как невеста,
Земля убралась.
Не так ли кукушка кукует ку-ку,
Для всех — лишь ку-ку да ку-ку…
Быть может, как нищий, блуждая,
Изведав нужду,
Всю землю от края до края,
Весь мир обойду.
Не так ли кукушка кукует ку-ку,
Для всех — лишь ку-ку да ку-ку…
ВЫСОКОЕ ДВОРЯНСТВО, ИЛИ ТОПОЛЬ И СЛИВА.
Над сливой стройной, юной и красивой,
Что под высокой крышею росла,
Надменный тополь вечно издевался:
«Как смеешь ты, нечистая плебейка,
Плодиться здесь и место занимать?»
«Я очень рада,—
Слива отвечает,—
Что существую я не зря на свете.
Будь я, как ты, ненужной, голой жердью,
Я б от стыда, наверно, умерла».
Надменный тополь выпрямился гордо.
«Я жердь ненужная? (Тут он захохотал.)
Пусть я не нужен, но зато высок!»
МАТО КОСИК. Перевод с нижнелужицкого.
Мато Косик (1853–1940). — Нижнелужицкий поэт и публицист. Родился в семье бедняка-крестьянина. Служил на железной дороге, затем стал журналистом. В 1883 году с группой переселенцев выехал в США, где получил теологическое образование и стал евангелистским пастором. Пытался вернуться на родину, однако не получил разрешения германских властей. С установлением в Германии фашизма оборвались все связи поэта с родным краем, которому посвящены многие его, проникнутые болью и горечью, стихотворения. М. Косик скончался в глубокой старости на своей ферме в Оклахоме. Поэмы М. Косика «Сербский праздник в Блотах» (в гекзаметрах, 1880), «Коварство маркграфа Герона» (1885), «Падение Бранибора» (1890), как и некоторые другие, написаны на сюжеты лужицкой истории, представляя собой, по существу, страницы своеобразной национальной энциклопедии. М. Косик создал цикл стихотворений, посвященных судьбе солдат, уроженцев Лужиц, участвовавших во франко-прусской войне. В 1884 году выпустил книгу «Сербы в Техасе». Многое из поэтического наследия М. Косика до сих пор рассеяно в периодике, значительная часть его стихов утрачена.
СЕРБСКИЙ КОРОЛЬ В БЛОТАХ[109]. Перевод А. Спаль.
[109].
Как только исполнится полночь,
Громовый доносится хор
И вихрь сотрясает мощный
Отроги Блотских гор,—
Встает король наш сербский,
Очнувшись от вечных снов,
За ним из пещеры в блеске
Выходит рать его.
Мерцает огонь небесный,
На рыцарских копьях горит;
Вершину горы Королевской
Зарницы свет багрит.
Взлетает король проворно
На белого скакуна,
Велит четырех своих воронов
Выпустить дотемна.
«В четыре стороны света
Летите, я жду вестей:
Не нынче ли, на рассвете,
Восстану из груды костей?
Пусть вихрь взревет над нами,
И грянет сраженье во мгле,
И смертоносное пламя
Промчится по земле.
Тогда я с горящего сердца
Сорву сновидений покров,
И сербское королевство
Воспрянет из костров».
Он спит, король наш сербский,
Таит его в недрах гора,
Но встанет в сиянии дерзком,
Когда придет пора.
РОДНОЙ ЯЗЫК. Перевод А. Спаль.
В древних деревах, что свалит буря,
Долго дремлет сила под корою.
Хоть стволы лежат, листву понуря,
Но из пней я дом себе построю.
Горько знать, что мы родное слово
Молвить не умеем, будто немы.
А ведь в недрах языка простого
Затаились дивные поэмы.
Как родник божественный в равнине,
Наш язык живой неиссякаем.
Гимн ему слагаем на чужбине.
Почему же здесь пренебрегаем?
ИНДИАНКА. Перевод А. Спаль.
Кто распевает под кленом,
Там, на пригорке зеленом?
Как эта песенка, боже,
Издали с лужицкой схожа!
Нет, хоть напев и приятен,
Мне его смысл непонятен.
Спой мне, словами играя,
Песенку сербского края.
Яркий наряд твой искрится,
Жемчугом вышиты птицы,
Как на одеждах узорных
Девушек наших задорных.
Нет, я ошибся, гадая,—
Дочка вождя молодая,
Так же, как мы, смуглотела,
Песню индейцев запела.
Пряча за поясом синим
Стрелку с пером страусиным,
Так улыбается чудно,
Что и влюбиться нетрудно.
Голосом сердце пленяет,
Взором очей опьяняет.
Вспомнил я в это мгновенье
Лужицкой девушки пенье.
ЛУЧШИЙ ВОИН. Перевод А. Спаль.
В каких краях отвагою богаты
И где живут храбрейшие солдаты,
Что клятву чтут, идут на зов народа,
Не замечая трудностей похода,
Над страхом и тревогами смеются
И только черной смерти в плен сдаются.
В краях, где солнце, щедрое на ласки,
Берет для смуглых лиц поярче краски,
Где людям путь насилия неведом,
Любой живет в согласии с соседом,
Где в косах женщин искры росяные
И у мужчин ладони, как стальные.
Там пахарь-богатырь на вольной воле
Златым зерном засеивает поле,
Гостей встречает щедро и радушно,
Там веселятся искренне и дружно;
Там в юном сердце, в буйных силах тела
Душа парит, не ведая предела.
Таких вот сыновей тот край рождает.
Хоть невелик он, — кто о нем не знает?
Мой край легко в ладони уместится,
Но целый мир делам его дивится.
Да будет бог к тебе еще щедрей,
Мой Сербский край, страна богатырей!
ТОСКА. Перевод А. Сиротинина.
Где-то птичка щебечет вдали над рекой,
А мне на душу жгучею веет тоской.
Тебе, птичка моя, этой думы печальной
Не прогнать! По отчизне тоскую я дальной.
Все в огне золотом здесь горят небеса,
Но чужда и нема для меня их краса.
Где ты, жавронок сербский, теперь распеваешь,
Где ты пахарю звонкие трели роняешь?
Где ты, мой соловей, милый гость наших Блот,
Что поешь о любви там у лужицких вод?
Ваших трелей, изгнанник, я слушать не буду,
Да и сам скоро петь на чужбине забуду…
ЯКУБ БАРТ-ЧИШИНСКИЙ. Перевод с верхнелужицкого.
Якуб Барт-Чишинский (1856–1909). — Верхнелужицкий поэт, публицист, крупнейший представитель серболужицкой культуры XIX–XX веков. Родился в семье мелкого земледельца. Окончил католическую семинарию в Будышине, учился в Праге, участвовал в работе студенческого кружка «Сербовка». К пражскому периоду относится и углубленное изучение Бартом русской поэзии и культуры. В середине 70-х годов был одним из организаторов движения передовой сербской молодежи. В дальнейшем в течение двух десятилетий служил церковным администратором в разных местах Лужиц. Активно выступал на страницах сербских периодических изданий, формулируя программу возрождения и утверждения лужицкой национальной культуры. Страстно боролся против великогерманского шовинизма. Творческое наследие Я. Барта богато и разнообразно. Он создал несколько эпических произведений (поэма «Своз», 1876), народных драм, написал много повестей, рассказов. Однако Я. Барт прежде всего был поэтом-лириком, мастером виртуозного сонета, родоначальником баллады в сербской поэзии. В 1884 году он выпустил свою первую «Книгу сонетов», проникнутую болью за судьбы своего народа, за его будущее. (Ее открывает публикуемый в настоящем томе сонет «Славянам», за которым следовали «Сербской земле», «Поэзия» и др.) — Обогатили лужицкую поэзию и последующие сборники Я. Барта — «Формы», 1888, «Природа и сердце», 1889, «Сербские голоса», 1897, «Кровь и родина», 1900, «Крылом орлиным», 1904, «Радость и печаль», 1905, и др. По единодушному суждению современников, «Чишинский сделал для лужичан то, что Пушкин сделал для русских». Его стихи широко переводились на европейские языки.
Высоко ценя вклад поэта в развитие национальной культуры, правительство ГДР установило государственную премию имени Я. Барта-Чишинского, присуждаемую за выдающиеся произведения современной литературы.
СЛАВЯНАМ. Перевод Н. Стефановича.
Не смотреть, не слышать! Дикий рев вокруг.
В море бесконечном жутко лодке малой,
Злобные порывы бешеного шквала
Весла вырывают у гребцов из рук.
И гребцов смертельный охватил испуг,—
Волны свирепеют, воет ветер шалый.
Ждут пловцы чего-то, смотрят вдаль устало,—
Если бы прорваться с севера на юг!
Или их не встретит кто-то наконец
В этой тьме кромешной, мрачной и беззвездной?
Все тогда погибнут — дети, мать, отец…
Море беспощадно, яростно и грозно.
Братья, торопитесь, или будет поздно —
Или не спасется ни один гребец.
СЕРБСКОЙ ЗЕМЛЕ. Перевод Н. Стефановича.
О сербская земля! Твои прославлю нивы,
Всей древностью твоей душа моя полна.
Я оживить хочу героев имена,
Чтоб все услышали их скорбные призывы.
О сербская земля! Души моей порывы
И меч мой укрепи, пусть сбудется сполна
Мечта о мщении, что свыше нам дана,—
Злодейства древнего следы поныне живы.
О сербская земля, ты дивно расцвела.
Твоих напевов грусть и гор гранитных груды,
Народа твоего великие дела,—
О сербская земля, тебя я не забуду.
Твой образ дорогой со мной всегда, повсюду,
И в имени твоем поют колокола.
ПОЭЗИЯ. Перевод Н. Стефановича.
Что горит на скалах яркой позолотой?
Что моря волнует и речную гладь?
Что в напевах ветра слышится опять
И в молчанье звезд, сверкающих без счета?
Что ветвями елей смутно шепчет кто-то?
Что кладет на листья светлую печать?
Что, как запах трав, мы можем ощущать,
Или как вечерних ласточек полеты?
Жаворонка что умчало в глубь небес,
Пеньем соловья заворожило дали?
Что воркует голубь? Разберешь едва ли…
Что за отзвук нежный в сердце вдруг воскрес?
Эту тайну, это чудо из чудес,
Это волшебство — поэзией назвали.
МАТЕРИ. Перевод Н. Стефановича.
Музыкой звучит любовь к бесценной маме,
Мама это все, чем в жизни я согрет,
Ты нарушить мне не дашь святой обет,
Образ твой всегда в душистом фимиаме.
Ты хранитель мой, ты ангел мой, тот самый,
Что убережет от неудач и бед,
Ты звезда моя, ты путеводный свет,
Лучшими тебе обязан я мечтами.
С верой на меня кто устремляет взгляд?
Чьи еще слова мне душу озарят?
Так от зла хранить меня сумеет кто нее?
Как вознагражу тебя, что всех дороже?
И молюсь, горячей неясностью объят:
«О, вознагради ее, великий боже!»
УТРО[110]. Перевод Н. Стефановича.
[110].
Ослабели крылья черной ночи,
Месяц побледнел, тускнеют звезды.
В облаках зари зарделось пламя,
И торжественно восходит солнце.
Горы в золотом сверкнули блеске,—
Значит, на земле настало утро.
К жизни, к свету пробуждает утро,
Прогоняя мрак кромешной ночи;
Травы молодеют в юном блеске,
И росинки, яркие, как звезды,
На кустах уже целует солнце,
И зажглось любви внезапной пламя.
Вдохновенья пробудилось пламя.
Птицы прославляют это утро,
Запахи цветов приемлет солнце,
Дар земли, избавленной от ночи.
Струны ждут. Сменив ночные звезды,
Утро расцвело в горячем блеске.
Утро торжествует в юном блеске,
В каждом взоре чувств горячих пламя.
Сербам засверкайте, счастья звезды,
Пусть им светит радостное утро
До прихода бесконечной ночи,
И любви да озарит их солнце.
Землю на рассвете будит солнце,
Обновляя все в веселом блеске,
И срывает путы мрачной ночи.
В каждом сердце оживает пламя
И к работе призывает утро.
Души наши светятся, как звезды.
Ясные, не угасайте, звезды,
Сербам озаряйте путь, как солнце,
Как моим стихам сияет утро,
Мне всегда светите в ярком блеске,
Пусть горит и греет ваше пламя
До кромешной тьмы последней ночи.
Сербам звезды да сияют в блеске!
Стужу ночи пусть согреет солнце!
Будь как пламя, чтоб настало утро!
НО НЕ ЗАБУДЬ… Перевод Н. Стефановича.
Сердце болит, и томится, и стонет уныло,
Словно в душе моей грустная птица поет.
Слезы горячие щеки мои обжигают,
Сердце больное и ночью не может уснуть.
Боль, как жемчужина, прячется в царстве подводном,
Чтобы ее не увидел никто, никогда.
В сердце пылает, как пламя, смертельная рана,
Но осушить мои слезы бессилен и этот огонь,
Губы мои обжигающий знойным дыханьем.
Только в слезах находить утешенье дано.
Но не забудь: пусть никто твоих слез не увидит,—
Нужно ль врагов веселить и печалить друзей?
Скорби твои пусть в тебе взаперти пребывают,
Надо скрывать их иль просто разбить на куски…
Душу свою открывай лишь лупе или звездам,
Чтобы у них твоя боль научилась молчать.
Только когда к тишине приобщишься небесной,—
Песнями, музыкой станут печали твои.
ПРАВДА И ПОЭЗИЯ. Перевод Н. Стефановича.
Для Музы я оттачиваю перья,
Когда небес вдыхаю синеву,
И презираю грязную молву,
Обман и фальшь, которым я не верю.
Я не сочту за тяжкую потерю,
Что лавр не увенчает мне главу,—
Без звезд останусь, струны оборву,
Но не продамся лжи и лицемерью.
И Музе не брести по бездорожью,
Где лестью все затоптано и ложью,—
Она хранит свой свет, свое нутро,
Она лишь там, где правда и добро,
Ей сердца чистота всего дороже…
Где правды нет — бросаю я перо.
МОЕЙ ПЕСНЕ. Перевод А. Сиротинина.
Иди, о песня, по родному краю.
Где гибнут, ободряй, где спят, буди,
И пусть тебя какие и не знаю
Там беды ждут, ты все иди, иди!
Живой росой на сербов ты пролейся,
В них крепость мышц и твердость духа влей,
Могучим пламенем в груди развейся,
Сердца любовью жаркою согрей!
Молю, колена пред тобой склоняя:
Иди, нам зорю лучших дней вещая,
Иди, как слово правды, торжествуя,
И чудо сотвори: влей в мертвых силы
И, камень отваливши с их могилы,
Воскликни: «Край проснулся! Аллилуйя!»
ГРЕЦИЯ.
АНДРЕАС КАЛЬВОС. Перевод С. Ильинской.
Андреас Кальвос (1792–1869). — Родился на острове Закинфе, долго жил в Италии, умер в Англии. Два сборника его од, «Лира» (1824) и «Лирика» (1826), посвящены событиям греческой национально-освободительной революции 1821–1829 годов. Муза Кальвоса сурова. Она взывает к гражданской добродетели, к беззаветному выполнению патриотического долга. «Богоравный и пылкий душою, как Пиндар», — писал о Кальвосе выдающийся греческий поэт XX века Ангелос Сикельянос.
На русский язык оды Кальвоса переводятся впервые.
ОДА СВЯТОМУ ПОЛКУ[111].
[111].
Пусть не прольется грозою
Туча, и ветер жестокий
Пусть никогда не развеет
Землю святую,
Что вас покрывает.
Пусть ее окропляет
Серебряными слезами
Розоперстая дева, и вечно
Пусть расцветают
Цветы.
Славные дети Эллады,
Доблестно павшие в битве,
Орден великих героев,
Новая слава
Отчизны.
Лавры победы судьба
У вас отняла и взамен
Из мирта и кипариса
Сплела вам венок
Иной.
Но если герой погибает
За родину, то бесценной
Наградой становится мирт
И доброю —
Ветвь кипариса.
С той поры, как природа,
Мудро творя человека,
Страх пролила в его очи,
И золотые надежды,
И день,—
Сразу же лик земли,
Обширной и плодоносной,
Взору его открыл
Бесконечность курганов
Могильных.
Мраком они покрыты;
Лишь немногим курганам,
Избранным волей небес,
Звезды бессмертия
Светят.
Греки, вы были достойны
Древней отчизны и предков.
Вас обошла, миновала
Горькая участь
Безвестья.
Старец завистливый, злой,
Подвигов недруг
И памяти ненавистник,
Море и сушу обходит
Свирепым дозором.
Льет из кувшина старик
Обильные воды забвенья.
Где ни пройдет — исчезают
Города, королевства,
Народы.
Стоит, однако, ему
Приблизиться к вашей могиле,
Время меняет свой путь,
Память о вас
Почитая.
Час не замедлит, вернутся
К Элладе порфира и скипетр;
Матери будут сюда
Юных сынов
Приводить.
Будут в слезах целовать
Священную землю кургана.
«Станьте такими же, — скажут,—
Как славные эти
Герои».
ПОЖЕЛАНИЯ[112].
[112].
Пусть уж лучше морские
Разъяренные волны
Затопят мою отчизну,
Как несчастную
Одинокую лодку,
Пусть уж лучше мне доведется
На островах и материке
Увидеть буйное пламя,
Пожирающее леса, города,
Народы, надежды,
Пусть уж лучше стократ
Рассеянные по миру
Побредут в нищете
С протянутою рукой
Хлеба просящие греки,
Чем будут у нас покровители.
Не слепили меня никогда
Богатства и титулы,
Не слепило меня никогда
Сияние скипетров.
Если бы каждый раз
С кончиной злого монарха
В небе гасла звезда,
То мало у нас осталось бы
Небесных светил.
Та же рука, простертая
Государству чужому
В знак покровительства,
Свой же народ душила и душит —
Прежде и ныне.
Сколько отцов вместо хлеба
Могут лишь поцелуи
Дать голодающим детям,
У ваших же уст сверкают
Кубки златые.
Когда под сияющий скипетр
Зовете вы новые страны,
Потоками новыми пота
Хотите вы снова отмерить
Щедрую мзду
Штыкам, что стоят на страже
Дрожащих ваших монархий,
Штыкам, что всегда угрожают
Добродетели и поражают
Тех, кто ей верен.
Сокровищ вы жаждете новых,
Несметных, спешите купить
Хвалу и рукоплескания,
Обманчивый фимиам
Корыстного лицемерия.
За истину и за веру,
За крест не жалеем мы жизни,
Вы же тайком помогаете
Тем, кто истину топчет,
Надругается над крестом.
Чтоб укрепить тиранию,
В своих городах вы чтите
Крест, ну а в Греции вы же
Против него откровенно
Встали войной.
Теперь вы опять — покровители,
Руку нам предлагаете,
Прочь ваши руки — господь
Молнией гнева сразит
Подлое вероломство.
Когда молодое деревце
Буйные ветры гнули,
Тогда нужна была помощь,
Теперь же оно окрепло,
Сил накопило.
Меч свой сожмите, греки,
Взоры ввысь поднимите,
Смотрите: там, в небесах,
Ваш покровитель бог,
Он лишь один.
Если же помощи божьей,
Мечей и ружей не хватит,
Лучше уж в стойле у турок
Снова вы будете ржать —
Дикие кони,
Нежели… Чем откровенней,
Ожесточенней, слепее
Будет ярмо тирании,
Тем скорее найдутся
Способы избавленья.
Не ослеплен я страстью,
С лирой моей в руках
Я песню эту слагаю
У самого края могильной
Зияющей пасти.
ДИОНИСИОС СОЛОМОС.
Дионисиос Соломос (1798–1857). — Родился на острове Закинфе, получил образование в Италии и начал писать стихи на итальянском языке, однако по возвращении на родину обратился к народному греческому языку, отказавшись от архаичного языка, который господствовал в то время в греческой литературе.
Под впечатлением победного шествия греческой революции Соломос создает в 1823 году «Гимн Свободе», ставший позднее национальным гимном Греции. Национально-освободительной борьбе греческого народа посвящены также незавершенные поэмы Соломоса «Ламброс» (1823–1833), «Критянин» (1833–1834), «Свободные осажденные». Последняя поэма, над которой Соломос работал около двадцати лет (в 20–30-е годы), считается вершиной его творчества. «Маленький мир осажденного города… сделай символом всей Греции, всего человечества… Вспомни эсхиловского Прометея…» — писал Соломос в своих рабочих заметках к этой поэме.
Первый поэт греческой революции, Дионисиос Соломос явился основоположником греческой литературы нового времени.
КСАНТУЛА[113]. Перевод Е. Смагиной.
[113].
Увидел я Ксантулу
Вечернею порой,
Она садилась в лодку,
Чтоб ехать в край чужой.
Я видел: ветер мчится,
Вздувает паруса,
Как будто голубь-птица
Взлетает в небеса.
Увидел я: в молчанье
Друзья стоят кругом,
Она же на прощанье
Махала им платком.
Белел, как парус дальний,
Платок в ее руке,
Пока и он, прощальный,
Не скрылся вдалеке.
И вскоре, помню, вскоре
Я различить не мог,
Что вижу — пену моря
Иль парус и платок.
И у пустого моря
Осталися друзья,
Заплакали от горя,
И плакал с ними я.
Я плачу не о лодке,
Мне паруса не жаль,
А жаль мне, что Ксантула
Плывет в чужую даль.
Я плачу не о лодке,
Чей парус над водой,—
Я плачу о Ксантуле
С косою золотой.
ДЕВУШКЕ, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙСЯ В МОНАСТЫРЕ. Перевод Е. Смагиной.
Краса моя, затворница, приди хоть на мгновенье,
Явись в решетчатом окне, мое послушай пенье.
К тебе летит сладчайший стих, твердыни стен минует,
Стена пропустит голос мой, стена не приревнует.
Дай мне поцеловать тебя — мне пламя сердце сушит,
Лишь поцелуй меня спасет и мой огонь потушит.
Краса моя, затворница, приди, побудем вместе,
Не украду, невинная, твоей девичьей чести.
НЕЗНАКОМАЯ. Перевод Е. Смагиной.
Кто в платье белом
Сходит в долину
Дорогой длинной
С горы крутой?
Как только эта
Дева является,
Цвет распускается
В траве густой.
Цветы и травы
Блестят красою
И головою
Кивают ей,
Просят, влюбленные,
Чтоб не забыла,
Чтобы ступила
По ним скорей.
Алы уста ее,
Словно раскрытый,
Росой омытый
Граната цвет
Перед зарею,
Когда светлеет
И наземь сеет
Росу рассвет.
Волна волос ее
Струит, густая,
На грудь спадая,
Свет золотой.
Смеясь, глаза ее
Светят прекрасной,
Как небо, ясной
Голубизной.
Кто в платье белом
Сходит в долину
Дорогой длинной
С горы крутой?
CARMEN SAECULARE[114]. Перевод А. Эфрон.
[114].
1.
Вздымалась грудь, в которой цвел мир непорочных лилий…
Над первозданного землей вставала первозданно
Ребенком заспанным заря и розовые ноги
В прохладу блещущей росы несмело погружала.
2.
В траве все пестрые цветы зажгла она, как свечи,
И небеса с землей слились в ее разверстом взоре.
3.
Над маленьким мирком кустов, былинок и травинок,
Как струи водомета, дуб свои раскинул ветви…
Ни щебетам здесь места нет, ни нежным воркованьям,
Устами каждого листа глаголет дух мятежный.
Высокий дуб, высокий дух, свои слагает гимны
Из песнопений всех искусств, из всех небесных зарев.
И ты, смятенный океан, ты, мать-земля благая,
Ты, твердь — в соборе бытия чудовищный светильник,
Бесчисленностью голосов слились в единой песне,
Неисчислимостью светил — в сиянии едином.
Пастушка в тишине творит смиренные молитвы,
И звезды впитывают их — так впитывает влагу
Любым ростком своим земля; так серафимы рая
Небесной учатся любви, внимая тем молитвам…
Кто знал, что розу породить способен камень мертвый?
…………………………………….
Но где ж вы, нежные стопы, омытые росою,
Где грудь, в которой расцветал мир лилий непорочных?
Играет девушка в траве с ягненком белоснежным.
ИОНИЙЦАМ. (Эпиграмма). Перевод А. Эфрон.
Всегда, несчастный мой народ, прекрасный, несравненный,
За всю доверчивость твою ты награжден изменой…
СВОБОДНЫЕ ОСАЖДЕННЫЕ[115]. (Фрагменты). Перевод А. Эфрон.
[115].
* * *
В долине — гробовая тишь, ни шороха, ни звука…
На птиц, что зернышки клюют, мать смотрит с горькой мукой.
Туманит голод очи ей, из сердца рвутся стоны,
И с нею плачет сулиот[116], в невзгодах закаленный. —
Не мужество мое, но мощь, но сила иссякает…
Не удержать в руках ружье, и турок это знает.
* * *
Апрель и Эрос все луга усеяли цветами,
Но ружей больше, чем цветов, пред скорбными очами.
Как движущийся белый холм, плывет овечье стадо,
Прохладным облаком земным оно ласкает взгляды,
Чтоб раствориться, как туман, за синим окоемом.
Цветком, проснувшимся в цветке, над озером знакомым
Порхает синий мотылек, как дуновенье, нежный,
И с отражением своим играет, безмятежный.
Что мотылек! И для червя пришла пора благая…
Природа, прелестью своей всех равно одаряя,
И в сухость выжженной травы, и в камень жизнь вдохнула —
Весь воздух напоен ее журчаньем, пеньем, гулом.
Тысячекратна смерть для тех, кто гибнет в день весенний,
Когда все празднует окрест природы воскресенье!
* * *
Развей природы колдовство, горн, сделай эту милость,
Чтоб жены, дети, старики душой не размягчились!
Раздался слабый звук трубы и замер бездыханно.
Как только смог он долететь до вражеского стана?
Но долетел и вызвал в нем раскаты злого смеха,
И голос вражеской трубы ответил грозным эхом.
Насыщенная жизнью грудь арабского горниста
Веселый рокот разнесла под небосклоном чистым,
Вокруг — и вдаль, и вширь, и вглубь, — и, наконец, из горна
Пронзительный и страшный звук отчетливый исторгла.
Повиснув в ясной тишине, как крик высот бездонных,
Он медленной звездою пал на стан непокоренных.
* * *
Деянья, мысли и слова… Сейчас я вижу только
Вот эти россыпи цветов — их белизна, их пурпур,
Их синева позлащены мерцаньем крыл пчелиных…
Там жизнь, тут смерть. И на заре, и в светозарный полдень,
И в час туманящихся вод, и в час прозрений звездных
Гудит и корчится земля и глухо стонут скалы.
«Араба конь, Француза ум, ты, злая пуля Турка[117],
Ядро Британца — грозный вал над хижиной убогой…
Ее защитникам, увы, не долго защищаться!
Хоть бы умолк проклятый гром — нет на него напасти!»
Так говорил чужой моряк на судне иноземном…
Испуганные острова творят молитву, плача,
Их жалобы и гордый храм, и бедная часовня
Смиряют трепетом огней и ладанным туманом…
Но зло грозит из-за угла растерянной рыбачке,
И гонит с берега ее, и путает ей снасти.
В торжественный рассветный час и в полдень лучезарный,
В час умножающихся звезд и вод, покрытых дымкой,
Вдруг сотрясается земля и, дыбясь, ропщет море…
Старик, что вверил свою жизнь рыбацкой скромной снасти,
Отбросив удочку, застыл, предавшись черным думам:
«Араба конь, Француза ум и ты, ядро Британца,
Ты, пуля Турка, — хищный вал над бедною лачугой…
Защитникам ее, увы, искать защиты негде!
Все не смолкает этот гром — он, видно, нескончаем…
Плачь, сердце бедное мое, скорби со мною вместе!»
* * *
Я вижу доблестных детей и жен непокоренных,
Столпившихся без слез, без слов, в немом оцепененье
Вокруг печального костра, чей пламень поглощает
Остатки утвари былой, домашний скарб бездомных,
И освещает бледность лиц и жалкие лохмотья…
О пламя, в пепел превратись, чтоб им главу посыпать!
Сквозь непоколебимый строй оружия чужого
Готовы продолжать они последний путь к свободе —
Быть с братьями своими там иль здесь принять кончину.
Посторонись же ты, ружье, и ты, клинок турецкий!
Зажав тростинку в кулаке, проходит безоружный.
АЛЕКСАНДРОС СУЦОС. Перевод О. Чухонцева.
Александрос Суцос (1803–1863). — Родился в Константинополе, учился в Париже, откуда в 1825 году приехал в Грецию, чтобы принять участие в освободительной борьбе своего народа. Здесь он опубликовал свои «Первые сатиры» (1827). В 1827 году Суцос издавал журнал «Сатирический бич», изобличавший баварское засилье в молодом греческом государстве. Неоднократно подвергался преследованиям, умер в изгнании.
Среди произведений Суцоса — сборники стихов «Панорама Греции» (1831) и «Поэтический портфель» (1845), поэма «Скиталец» (1839), комедии «Премьер-министр» (1843), «Непокорный поэт» (1843).
На русский язык стихи А. Суцоса переводятся впервые.
ПЕРВОЕ АПРЕЛЯ.
— День веселых надувательств, он для нас как именины;
Мы на головы разиням опрокинули корзины
Всяких слов и обещаний, короба понасулили
Барышей и повышений — а они и рты раскрыли.
Нас министрами-лжецами называют? Что ж, зовите!
Нынче первое апреля, господа, — уж не взыщите.
— Греки, ваши кровь и жертвы, беды ваши и утраты —
Дороги для нас и святы.
Мы не плуты, обещаем — а честной народ рассудит:
Будет — только что купаться каждый в золоте не будет!
Хохочите как хотите и пройдохами зовите:
Нынче первое апреля, господа, — уж не взыщите.
— Сколько лет уже, поверьте, мы других забот не знали,
Чтобы только вы в заботе и нужде не бедовали.
Ради вас мы кости гложем и мотаемся по свету,
Лишний раз едва ли спросим то, на что ответят: «Нету».
Хохочите как хотите и пройдохами зовите:
Нынче первое апреля, господа, — уж не взыщите.
— Погодите, вот промчатся два-три года бегом скорым
И вы будете гордиться дальновидным нашим вздором,
И когда мы в наступленье перейдем из обороны,
То рекою разольются просвещенье и законы.
Хохочите как хотите и пройдохами зовите:
Нынче первое апреля, господа, — уж не взыщите.
Это первого апреля из министров двое-трое так чесали языки.
— Господа, — и я сказал им, — все вы звания
Героя заслужили, и отчизна бережет для вас венки.
Что же, смейтесь как хотите и обманщиком зовите:
Нынче первое апреля, господа, — уж не взыщите.
Ах, министришки, пилаты, вы словам моим не рады,—
И ни слова от досады.
Что же, судьям передайте наглеца и шарлатана.
— Господа, — скажу я судьям, — вы забыли: день обмана.
Я воспел министров наших, и воспел их в лучшем виде:
Впрочем, первое апреля, господа, — уж не взыщите.
К СВОБОДЕ.
Нет, ты не та уже теперь, кого я видел столь прекрасной,
С хламидой легкой на плечах, с мечом в руке, по-царски властной.
Орел на быстрых крыльях нес твои знамена, и вослед
За колесницею твоей летели клятва и привет:
— Твой храм священный защитить спешим мы — или пасть у входа,
О наша Госпожа Свобода!
Мы следовали за тобой, от голода и жажды маясь,
И мученический венец мы принимали, улыбаясь;
И девы Эврота в полях, где и трава была в крови,
Пэаны воинам плели и песни девичьи свои,
И отзывались камни плит героям нового похода:
О наша Госпожа Свобода!
Ты помнишь ли о временах триумфов и кипящей лавы,
Когда любой — и стар и млад — все были воинами славы,
И, пленных, за кормой своей
Мьяулис[118] в гавань флаги вел шестидесяти кораблей,
И море улыбалось им, и толпы яркие народа:
О наша Госпожа Свобода!
Мы жили, прав не уступая,
И не точила злоба нас, ни зависть, ни вражда тупая;
О, возврати, Богиня, нам хотя бы несколько минут
От той блистательной поры, которую столетья чтут!
Как добродетель во плоти сойди, святая, с небосвода,
О наша Госпожа Свобода!
И вот — час Керкирца[119] настал, и Кратера погасло пламя,
Молчал подавленный народ три года — и поникло знамя.
Три года рабства и стыда, гнев очистительный храня,
Подспудно приближали час — час извержения огня,
И Тирания пала ниц, и в миг один смело три года,
О наша Госпожа Свобода!
Пылает ли в твоих глазах огонь живой и благородный
Или ярчайшая звезда горит лишь в памяти народной?
Я вижу только, как поблек, увял твой розовый венок,
Устали ноги, и туман твой взор потухший заволок,
И ты теперь уж не расцвет, не мужество, а боль ухода,
О наша Госпожа Свобода!
АЛЕКСАНДРОС РАНГАВИС.
Александрос Рангавис (1809–1892). — Родился в Константинополе, учился в Германии, был крупным государственным деятелем — министром иностранных дел, послом.
Поэзия Рангависа проникнута романтикой освободительной борьбы и на ранней стадии близка к фольклорной традиции. Стихотворение «Клефт» (клефты — греческие партизаны времен борьбы против турецкого ига) стало популярной народной песней. Литературное наследие Рангависа огромно, — кроме стихотворений и поэм, он писал драмы, рассказы, романы.
На русский язык переводится впервые.
КЛЕФТ. Перевод Р. Дубровкина.
В горах ночь зимняя черна.
Снег падает на склоны.
Где тропок узких крутизна,
Где скал отвесная стена,
Встал клефт непокоренный.
Он держит молнию и гром
В карающей деснице.
Стал горный кряж ему дворцом,
Бездонный небосвод — шатром,
Надеждой — пули-птицы.
Его клинка услышав звон,
Бежит тиран кровавый.
Хлеб горца потом орошен,
Достойно жить умеет он
И умереть со славой.
Повсюду в мире правит гнет,
Жестокость и коварство.
Богатый честь не бережет,
А здесь, в горах, — добра оплот
И благородства царство.
Продать народы, как стада,
Готовы толстосумы.
Смешна им родины беда,
А здесь, где горная гряда,
Лишь ружей треск угрюмый.
Лобзать следы господских ног
И стать рабом навеки?
Нет, здесь, где темный бор высок,
Лишь крест целуют и клинок
Бестрепетные греки.
Родная, плачь, труба в поход
Зовет неумолимо.
Нас вечная разлука ждет,
Но видеть в рабстве свой народ,
Поверь, невыносимо.
Не хмурь, невеста, милый взор
В страданье безысходном.
Пойми, остаться мне — позор.
Свободным я живу средь гор
И встречу смерть свободным.
Родной земли ужасен стон.
Ружье упало глухо.
Повсюду кровь, булата звон,
Пожарища со всех сторон.
Рыдает мать-старуха.
Друзей поникших череда
Несет героя тело.
Их песня горькая горда:
Свободным клефт живет всегда
И умирает смело.
АНДРЕАС ЛАСКАРАТОС. Перевод Юнны Мориц.
Андреас Ласкаратос (1811–1901). — Родился на острове Кефалонии, получил юридическое образование во Франции и Италии. В 1830 году выпустил в свет свой первый поэтический сборник — «Ликсури в 1836 году», а в 1872 году собрал все свои стихотворения в том «Разные стихи». Острая социальная сатира Ласкаратоса навлекла на него гнев духовенства; он был отлучен от церкви.
Сонеты Ласкаратоса переводятся на русский язык впервые.
К ЭРОТУ.
Эрот, не шляйся зря, не лезь в мой дом,
Чтоб не испортить наши отношенья.
И более того — приняв решенье
Со мной порвать, ты будешь молодцом.
Я сыт по горло первым сватовством.
Катись к чертям, быстрей, без копошенья,
Не то мои кулачные внушенья
Покончат вмиг с проклятым шутовством!
Не доводи до этого, мой милый,
Ведь я способен крылья выдрать силой —
И завопишь индюшкой тупорылой,
И все увидят бег твой хромокрылый.
И эти стрелы, весь пучок, как вилку в тесто,
Тебе засуну — знаешь сам, в какое место!
ЧУЖДЫЙ СВОЕЙ ЭПОХЕ.
Воистину несчастен — кто на свет родится
И по духу превзойдет свою эпоху:
Обрушится волна общественных традиций,
Под тяжестью которых будет плохо.
А если он, бедняга, в надеждах утвердится
И потянет за собой свою эпоху,
Тогда сплотится тьма общественных амбиций
И храбреца раздавит, словно кроху.
Его отвергнет с треском и заклеймит позором
Неблагодарный сброд и родина-невежда.
И жертве, брошенной на растерзанье сворам,
Блеснет одна печальная надежда —
Что, может быть, потомков здравый разум
Воздаст ему за все страданья разом.
МОЕМУ ПОРТРЕТУ.
Вот и меня наконец-то нарисовали,—
Как видно, после кончины, гроба и тленья
Мне непременно придется висеть в зале.
Ох, интересно, какое же впечатленье
Я оставлю у тех, кто с опаской вначале
Рассматривать станет портрет в отдаленье.
Этот промолвит: «У! Из дьявольской швали!
Он теперь верховодит в аду, где скопленье
Таких же чертей!» Но другой возразит: «Едва ли…
Просто этот несчастный тащил в исступленье
Крест, который иные не поднимали,
И горькая правда — все его преступленье!»
А мне самому (и вам желаю того же!)
Сужденья мои о себе — и важней и дороже.
АРИСТОТЕЛИС ВАЛАОРИТИС. Перевод А. Наль.
Аристотелис Валаоритис (1824–1879). — Родился на острове Лесбос, получил юридическое образование в Италии, принимал активное участие в борьбе за присоединение Ионических островов к Греции и после присоединения был избран депутатом греческого парламента.
Поэзия Валаоритиса — эпос освободительного движения Греции. Его составляют и стихотворения в духе народных песен, и крупные поэтические композиции «Кума Фросини» (1859), «Афанасиос Диакос» (1868), «Фотинос»; работу над последней поэмой оборвала смерть поэта.
На русский язык переводится впервые.
ДИМОС И ЕГО РУЖЬЕ.
«Уже я стар, сыны мои. Шестой десяток в клефтах.
Полвека досыта не спал — и вот теперь, усталый,
Ко сну хочу я отойти. Иссякло мое сердце.
Рекою пролитая кровь вся вытекла до капли.
Хочу ко сну я отойти. Кустарник нарубите.
Пусть будет свеж он и в цвету и пусть хранит прохладу.
Постель стелите — и меня на ветви положите.
Как знать, чья крона осенит со временем могилу!
Когда здесь вырастет платан, под сень его густую
Сойдутся новые сыны оружие повесить.
Петь будут молодость мою и прежнюю отвагу.
А возмужает кипарис, наденет траур черный —
И старцы к дереву придут за спелыми плодами.
И станут раны омывать, и Димоса припомнят.
Огнем похищен мой булат, а мощь моя — летами.
Мой пробил час. Не надо слез. Сыны, приободритесь.
Смерть закаленного в боях жизнь юным завещает.
Приблизьтесь. Станьте вкруг меня. Нагнитесь к изголовью
Закрыть глаза мне и принять мое благословенье.
Пусть самый младший среди вас взойдет сейчас на гребень.
Пусть он возьмет мое ружье, возьмет мушкет мой добрый.
Пусть трижды выстрелит он вверх и трижды прокричит он:
„Покинул старый Димос нас, скончался старый Димос!“
Вздохнет ущелье тяжело, скала запричитает,
Вознегодуют духи гор, и родники смутятся,
И на вершине ветерок, несущий в дол прохладу,
Вдруг задохнется, изойдет, опустит тихо крылья,
Чтоб этот гул не подхватить, случайно не развеять,—
Не то узнает древний Пинд и сам Олимп услышит,
Растают вечные снега и высохнет кустарник.
Беги же, сын мой, торопись. Взойди на самый гребень.
Пусть трижды выстрелит ружье. Хочу я, засыпая,
Еще услышать этот гром, в последний раз, в последний».
И юный клефт бежит, как лань. Взбегает на вершину.
На гребень гор взбегает он и трижды восклицает:
«Покинул старый Димос нас, скончался старый Димос!»
Утесы дрогнули в ответ, и бездны застонали.
Тут клефт стреляет в первый раз. И во второй стреляет.
И вот последний, третий раз. Мушкет, достойный славы,
Ревет, рычит, как дикий зверь, и пасть разверз, и рвется,
И вырывается из рук, и падает — сраженный,
В стремнину падает со скал, — и нет его, и нету…
Услышал Димос этот гул, в глубоком сне услышал.
И улыбнулся, и потом — навек скрестил он руки…
Покинул старый Димос нас, скончался старый Димос!
И клефта грозного душа, достойнейшего клефта,
Встречает в высях гул ружья, и, братски обнимаясь,
Она летит за облака — и гаснут, нет их, нету…
РОЗА И РОСА.
Сказала нежная роса
Под вечер розе алой,
Той, что при ранних звездах ждет,
Как опаленный жаждой рот
Миг поцелуя, — ждет и ждет,
Чтобы роса упала.
Сказала нежная роса:
«Цветок неутоленный,
Как ты узнал, что я приду
И тихо на сердце паду?
Открыл ли то тебе ручей
Иль соловей влюбленный?»
«То был не голос соловья
И не ручей певучий.
Пылал огонь в моей крови.
Приди и сердце оживи.
К утру увянут лепестки —
„Пух юности летучий“».
Луна, как свадебный венец,
Над ними — золотая…
Одну лишь ночь они живут.
Одну лишь ночь — и с ней умрут.
О, бедные… Кому еще
Дана судьба такая!
ГЕОРГИОС ВИЗИИНОС. Перевод О. Чухонцева.
Георгиос Визиинос (1849–1896). — Родился в бедной семье в деревне Визии (Фракия), изучал философию сначала в Греции, потом в Германии. В 1874 году, представив на поэтический конкурс поэму «Кодр», молодой поэт получил первую премию и снискал себе известность. В 1876 году такого же успеха добилась на конкурсе следующая книга Визииноса, «Дуновения Боспора». Внимание к будням человеческой жизни, к ее малым и большим радостям, отличающее стихи Визииноса, свойственно и его рассказам.
На русский язык стихи Г. Визииноса переводятся впервые.
ПРИЗЫВЫ.
Когда с рассвета, разогнав дремоту,
Спешит-снует
И, словно заведенный, на работу
Идет народ,
О, если кашель чей от забытья
Тебя пробудит, выйди: это я.
Когда на всех часах пробьет двенадцать,
И за столом
В молчанье ест отец, и домочадцы
Молчат при нем,
О, если ложка выпадет твоя
От скрипа ставни, выйди: это я.
Когда уже заря на небосклоне,
И меркнет свет,
И матери нет рядом на балконе,
И брата нет,
О, если тень мелькнет, — откуда? чья? —
Не всматривайся, выйди: это я.
И если ночью, душной и глубокой,
Все, что вокруг,
Затянется дремотной поволокой,
И если вдруг
Засвищет кто-то вроде соловья,
Хоть на минуту выйди: это я.
БЕЗ ГРОША.
В карманах пусто? Не беда!
Вино, хорошая еда
Да собутыльники, — по мне,
Довольно этого вполне.
Трактирщик, старого вина
Да сядь напротив, старина,
И пусть по чашкам разольет
Красивый мальчик и — споет!
Хозяин, зайца не забудь,
Да пожирнее, другом будь,
И в честь знакомства за столом —
— Ура! — осушим и нальем.
Ты что-то хмуришься, смотрю.
Послушай, что я говорю,
А говорю я от души,
И ты худого не держи.
Вино допито? — впрок питье!
Я за здоровье пил твое
И впредь по дружбе помогу:
Ты мне обязан — я в долгу.
АРГИРИС ЭФТАЛИОТИС. Перевод Юнны Мориц.
Аргирис Эфталиотис (настоящее имя — Клеантис Михалидис, 1849–1923). — Годился на острове Лесбосе; большую часть жизни провел за границей. Мотив горькой чужбины, широко распространенный в греческом фольклоре, звучит во многих стихах поэта. Близость к народной поэтической традиции ощутима в тональности и метрике его произведений.
На русский язык переводится впервые.
СЛОВА ЛЮБВИ.
1.
Опять вывихивают, гасят мой рассудок
Две древних боли — боль разлуки, боль изгнанья!
Опять спасает избавительное чудо —
И я опять не сломлен бурями страданья!
Опять, опять, закрыв глаза, где и поныне
Витает ужас, я мечтаю запереться
И в сердце жить, пока живу я на чужбине,
И чувства прежние воспеть при свете сердца.
А кто додумался, что сердце хладнокровно,
Тот разве знает, сколько счастья и покоя
Любовь приносит в бурный мрак, и как любовно
На волны горя льется масло — и какое!
Опять, любовь моя, рассказ правдивый начат:
Как я живу, дышу тобой, как сердце плачет!
2.
Взаимность, парность — вот счастливые задатки
Любовных радостей в года свиданий наших
У родника, где обитают куропатки
И пьют попарно вечность юную из чаши.
На пару пляшут там безумье и веселье —
Любовь, а также красота от них струятся.
А все печали, даже если и засели
Тайком поблизости — так сунуть нос боятся.
Опять мечтаю спеть тебе о жизни прежней,
Опять рассудок искупать в блаженстве первом,
Опять его отправить вглубь, в поток безбрежный,
Чтоб каждый раз он возвращался с лучшим перлом!
Как память нищего, что был богат вначале,
Я утопить стремлюсь в прекрасном яд печали.
ОСТРОВА И МОРЯ.
Мое бессонное весло окрепло в бешеной волне,
И я встречаю острова салатового цвета.
И там я дух перевожу, пока Судьба придет ко мне
И продиктует: вот — твой путь, а цель твоя — вот эта.
РОЗА.
Скажи, какой богини вздох в прохладе утренней зари
С тобою делит аромат, которым этот сад насыщен?
И кто же та, что в первый раз тут целовалась? Говори!
Так целовалась, что огонь с обеих щек тобой похищен!
ПЕЧАЛЬ.
Крыла печали тяжелы, громоздки на подъем,
И в руслах Времени сухих они хлопочут дико,
А если светлый водоем лепечет о своем,
Так эту мелочь глушит боль пронзительного крика.
ЛОРЕНДЗОС МАВИЛИС. Перевод Юнны Мориц.
Лорендзос Мавилис (1866–1912). — Родился на острове Итаке, изучал филологию и философию в Германии. Вернувшись на родину, принял участие в греко-турецкой войне 1897 года и в антитурецком восстании на Крите (1898 г.). Сильное патриотическое чувство выражено в сонетах Мавилиса мужественно и нежно. Отточенность рифмы, благородная сдержанность слова принесли Мавилису славу тонкого мастера стиха. В начале Первой балканской войны Мавилис добровольцем пошел на фронт и погиб в сражении под городом Янина.
Сонеты Мавилиса переводятся на русский язык впервые.
КАРДАКИ.
Руины храма зеленеют сиро
Пустынной плесенью, приморскою травою,
А под ногами и над головою
Смеется вечность, юность в блеске пира.
И я сказал: еще с вершины мира
Вся в белом сходит поступью живою
Античность! Блещет полнотою ключевою
Храм — дело мраморщика с острова Керкира.
Сон золотой, еще я не проснулся!
Тебя с водой в ключе я выпил редком,—
Он по священным меткам к нам вернулся.
Так бог велел воскреснуть мертвым клеткам!
И чужестранец, если той воды коснулся,
Уже к своим не возвратится предкам.
РОДИНА.
Весенний ветер вновь летит по странам,
Взывая к тайнам, к сладостям любовным.
Как под венцом, земля сияет светом ровным —
Цветы, одни цветы в ее приданом.
Попарно бабочки летают целым кланом.
Здесь — пчелка, там — оса. Да, полнокровным
Застал я мир, где счастьем поголовным
Земля волнуется в томлении желанном!
И каждый запах, щебет каждой птицы
В глубины сердца вновь летит, взывая страстно
К мечте, к надежде — снова, снова, снова
Поцеловать твои священные крупицы,
Твою весну обнять, мой сладостный, прекрасный,
Родимый край, мое Отечество и Слово!
ОЛИВА.
Олива старая, ты горбишься клюкою
Под редкой зеленью, под жидкой пелериной,
Тебя украсившей для смерти. Рой пчелиный
В твоем дупле гнездится раной роковою.
Но каждый птенчик, пьяный страстью вековою,
На ветви немощной твоей, как мир, старинной,
Ведет любовную охоту за невинной
И пьяной птичкой, — всюду двое, двое!
О, как смягчат твой острый лик на тризне
Живые прелести крылатой, юной жизни,
Шумящей дивно и шуршащей от любви!
Они плодятся, как твои воспоминанья.
О, нам бы, нам бы твой обычай умиранья,
Ведь наши души — сестры, ставшие людьми!
КОСТАС КРИСТАЛЛИС.
Костас Кристаллис (1868–1894). — Родился в эпирской деревне, жил в бедности, умер двадцати шести лет от туберкулеза. Автор сборников «Сельские стихи» (1890) и «Певец села и стана» (1892). Стихи Кристаллиса воспевают красоту природы, радости сельской жизни, свободолюбие народа. Поэт-самородок, Кристаллис чрезвычайно чуток к родному фольклору и черпает из него размеры, ритмы, мотивы для многих своих стихотворений.
Стихи Кристаллиса переводятся на русский язык впервые.
ПЕСНЯ КЛЕФТОВ[120]. Перевод С. Ильинской.
[120].
Когда же к нам придет весна, когда настанет лето,
Растают белые снега, и зацветет кустарник,
И мы оружие свое наденем золотое
И снова клефтами взойдем на горные вершины?
На самой дальней высоте мы лагерь свой раскинем,
Пусть звезды с нами заведут вечернюю беседу,
Пусть самый первый луч зари привет нам посылает
От солнца, восходящего на утреннюю службу.
Пусть нам завидуют орлы, пусть соловьи нас будят
И в быстрых горных родниках с водою ледяною
Купают нереиды нас и поцелуи дарят.
Оружие повесим мы на сучья горных елей,
И в пляс пойдем, и запоем, и грянет наша песня,
Как гром из тучи, как огонь от молнии летучей.
Зверь задрожит и убежит, равнина затрепещет.
Когда же к нам придет весна, когда настанет лето,
Когда мы клефтами взойдем на горные вершины?
ПОЦЕЛУИ. Перевод С. Ильинской.
Друзья к Захьясу-пастуху с расспросами пристали:
— Что это губы у тебя пылают краской алой?
Черешни, ежевики ли отведал ты, а может,
Пригубил краски огненной, какой овечек метишь?
— Черешни я не пробовал, и ежевики тоже,
И краска вовсе ни при чем, я к пей не прикасался.
Послушайте меня, друзья, во всем я вам признаюсь.
В тени под елями я стриг моих овечек стадо,
Алела шерсть, и ножницы вдруг тоже заалели;
Гоню я стадо вниз к лугам, к зеленым сочным травам,
И что же вижу — вся трава в округе стала алой;
Потом спускаюсь я к реке поить своих овечек
И вижу, что вода в реке мутнеет и алеет;
Иду я берегом реки и в гору поднимаюсь,
И там, где бьет ключом родник, у самого истока,
Склонилась девушка к воде, губами струй касаясь,
Алеют губы у нее, как будто в краске алой,
В каком ручье, в какой реке испить ей доводилось —
Алели воды, а от них кругом алели травы,
Алели овцы, а от них и ножницы алели.
Свой посох бросил я, друзья, швырнул мешок на землю,
За косы девушку схватил и сразу прямо в губы
Поцеловал, и губы мне тот поцелуй окрасил.
ОРЛУ. Перевод Юнны Мориц.
Из крохотного птенчика, из плоти слабосильной
Ты превращаешься в орла с орлиной мощью, весом,
Растишь аршинные крыла и когти в десять дюймов,
Летаешь между облаков, витаешь над горами,
На скалах вьешь громады гнезд, ведешь беседы с хором звезд,
Н небесный гром влюбляешься, над бездной забавляешься
С молниями дикими, и птичьи стаи криками
Не зря приветствуют царя озерных крыл и горных.
И страсть моя в груди моей была когда-то крохой,
Из птенчика невзрачного, тощего, прозрачного
Пошла расти и обрела крыла, и вес, и когти,
И сердце кровью залила, и мне нутро разорвала,
И превратилась вдруг в орла, в дракона, в привиденье,
И глубже всех гнездо свила в моем бесплотном теле,
И тайно гложет суть мою, судьбу мою съедает.
Я больше не могу бродить по сумрачной равнине.
Отныне я хочу взлететь, хочу, орел, вернуться
В обитель старую мою, в мое гнездо родное:
Хочу в горах очнуться вновь, и быть с тобою рядом,
И этим братством дорогим все время наслаждаться.
Пусть по утрам и вечерам прохладный горный ветер
Ко мне приходит, словно брат, приходит, словно мама,
Ласкает голову мою и грудь мою ласкает.
Пусть волны горного ручья, любовь нежнейшая моя,
Излечат горести мои водою животворной.
Пускай напевы птичьих стай, в кустарнике летая,
Меня баюкают во сне и будят на рассвете,
Пускай постелью будут мне в родной скалистой стороне
Охапка веток — в летний час, а в зимний — груда снега.
Охапку веток наберу, дубовых и еловых,
Хочу на ворохе ветвей лежать в горах ночами,
Хочу под музыку дождей спать глубоко и сладко.
Орел, отныне я хочу вкушать плоды с деревьев,
Олений сыр и молоко от диких коз безумных.
Хочу я слышать гул и треск из лона сосен, грабов,
Хочу над безднами бродить, над каменным обрывом,
Хочу глядеть по сторонам и видеть водопады,
Хочу я слышать, как в горах о скалы точишь когти,
Хочу ловить твой дикий крик и тень от диких крыльев.
Хочу, хочу, но я — бескрыл, и улететь не в силах,
И в муках время провожу, и гасну ежедневно.
Орел, услышь мою мольбу, слети с небес на землю,
Дай крылья и возьми скорей меня с собою в горы,
Иначе съест меня живьем жестокая равнина!
ДАНИЯ.
АДАМ ГОТТЛОБ ЭЛЕНШЛЕГЕР.
Адам Готтлоб Эленшлегер (1779–1850). — Поэт и драматург, крупнейший представитель датского романтизма. Родился в семье церковного органиста. С юности увлекался поэзией. Решающую роль в судьбе Эленшлегера сыграло знакомство с поэтом и философом Хенриком Стеффенсом (1773–1845), поклонником немецкого романтизма. После одной из бесед со Стеффенсом Эленшлегер пишет стихотворение «Золотые рога» (1802), в котором исторический факт — исчезновение из музея двух древних золотых рогов-кубков — толкуется как наказание богов за бездуховность современного поколения. Это стихотворение поэт включает в свой сборник «Стихи» (1803), содержащий произведения на темы древних саг и преданий, а также цикл лирических стихотворений «Состояния природы» и комедию «Игры в ночь на святого Иоанна». В 1805 году Эленшлегер издает свой двухтомник «Поэтические произведения», куда входят лирические, прозаические и драматический пьесы, в частности, драма «Аладдин, или Волшебная лампа» на сюжет из «Тысячи и одной ночи». В пьесе ярко обнаруживает себя демократический дух поэзии Эленшлегера: человек из народа, Аладдин проходит через все жизненные испытания и становится борцом за счастье людей. В 1805–1801) годах Эленшлегер путешествует по Европе, знакомится с Гете, Фихто, братьями Шлегелями, мадам де Сталь. В 1807 году выходят в свет «Северный поэмы» — на сюжеты древнескандинавской истории и мифологии. В том же году Эленшлегер завершает историческую трагедию «Пальнатоке», в которой обращается к эпохе утверждения христианства на скандинавской почве, а через год — трагедию «Аксель и Вальборг» (издана в 1810 г.). Возвратившись на родину, поэт становится признанным главой романтической школы в Дании, создает многочисленные трагедии, эпические поэмы и прозаические произведения. Произведения Эленшлегера 30–40-х годов но своим художественным достоинствам заметно уступают его творчеству 10–20-х годов XIX века.
Значение Эленшлегера для датской литературы исключительно велико. Традиции его творчества прослеживаются у многих датских писателей-романтиков, в частности, И.-Л. Хейберга, Х.-К. Андерсона и др. Большое влияние Эленшлегер оказал на своих современников в Норвегии и Швеции.
На русском языке издавалась трагедия «Ярл Хакон» (впервые — в «Вестнике Европы» за 1887 г.). В 1972 г. в издательстве «Искусство» вышли в свет «Пьесы» Эленшлегера в переводах А. Ганзен, Ю. Вронского, П. Карпа, со вступительной статьей А. Погодина. Стихотворения Эленшлегера на русском языке печатаются впервые.
НАСТУПЛЕНИЕ ВЕСНЫ. Перевод Н. Григорьевой.
Зазеленело внезапно в долине,
Все в изумрудах лесные короны,
Даже в плетне, на любой хворостине
Лопнуть готовы живые бутоны.
Облик зимы убегающей жалок,
К полюсу тащит она непогоды;
Лежа на ложе из свежих фиалок,
С нежной улыбкой проснулась природа.
Арфа, на ветках, от наледи ломких,
Молча висела ты в снежной метели.
Только бураны, бывало, в потемках
Песни свои похоронные пели.
Но ледяное твое одеянье
Сжег огнедышащий взор Аполлона;
Синего неба вдыхая сиянье,
Переливаешься ты обновленно.
Арфа, настроить божественной Флоре
Струны позволь твои перед игрою.
Шар, пламенеющий в синем просторе,
Горы окрасил пурпурной зарею.
Вижу, как ветры вплетаются в травы;
Слышу в тиши, как крыло жаворонка,
Провозглашая всевышнему славу,
В струны твои ударяется звонко.
Солнечный луч! Ты во взоре блуждаешь
Девушки, чувство познавшей впервые.
Словно сама красота, ты вонзаешь
В сердце мне стрелы свои огневые.
Входят влюбленные тихо в дубраву…
Если б улыбку вы мне подарили!
Только тогда б, зазвучав величаво,
Думы мои к небесам воспарили.
Вот, очарованы сладостным пеньем,
Пестрой толпой соберутся пастушки
У ручейка, что по белым каменьям
Возле лесной пробегает опушки.
Арфу, воспевшую их, окружая,
Будут порхать в хороводе воздушном,
То мне венками чело украшая,
То поцелуем даря простодушным.
Даже до горцев, от времени белых,
Отзвук достигнет мелодии дальней;
Встанут в дверях они хижин замшелых,
Чтобы прислушаться к арфе печальной.
Голос могучего вешнего зова
В песне уловят их чуткие уши,
И переполнятся радостью новой
Их неподвластные старости души.
Песня моя пастушку молодому
Сердце встревожит. Мычащее стадо,
Глянув на небо, погонит он к дому,
Где его отдыха встретит награда.
Он извлечет из свирели прилежной
Струн отголосок, едва уловимый,
И, растворяясь в природе безбрежной,
Бога восславит, обнявшись с любимой.
Ах, я опять притязаю на чудо!
В вещие сны погружаюсь блаженно,
Чувствам нечетким вверяясь, покуда
Мысль так туманна и несовершенна.
Малая птаха способна едва ли
Выразить смысл своего ликованья.
Даже и песней весеннею я ли
Живопишу волшебство мирозданья.
Ах, был один[121]! Сквозь любые невзгоды
Вечным огнем его песни пылали.
Бог отворил ему двери природы.
Он говорил, а вокруг лепетали!
Рунгстед[122]! Все так же на бороздах тучных
Злаки твои набираются силы;
А у готических стен равнодушных
Спит твой сказитель в объятьях могилы.
Эвальд Святой! До сих пор над лесами
Датскими дух твой парит просветленный,
Над беспокойными реет волнами,
Слушает роз разговор благовонный.
Пусть он озябшие струны согреет,
В грудь мою пламя святое вдыхая!
Только тогда моя песня сумеет
Высказать то, что лишь вижу пока я.
РАСКРАСАВИЦА, ОКОШКО ОТВОРИ! Перевод Н. Григорьевой.
Раскрасавица, окошко отвори,
Твой любимый ждет.
Что за нега в соловьиных голосах!
Бледный месяц бродит в синих небесах.
Раскрасавица, окошко отвори,
Друг твой у ворот.
Раскрасавица, руки не отнимай,
Сердцу все больней!
Ах, ни сна мне, ни покоя больше нет
С той поры, как я узнал тебя, мой свет.
Раскрасавица, руки не отнимай
У меня своей.
Раскрасавица, мне губки подари,—
Я горю в огне.
Ты, которая мне рану нанесла,
Излечи меня от сладостного зла.
Раскрасавица, как розу, подари
Свои губки мне.
АЛАДДИН НА МОГИЛЕ МАТЕРИ. Перевод В. Тихомирова.
Баю-бай, малютка спит!
Сон и сладок, сон и долог!
Эта зыбка не скрипит,
И над ней незыблем полог.
Буря над моей судьбой,—
Слышишь? — плачет и хохочет.
Червь могильный над тобой,—
Видишь? — крышку гроба точит.
Спи-усни! А я спою —
Счастье пусть тебе приснится.
Слышишь? Баюшки-баю,
Не темна ль твоя светлица?
Соловей выводит трель.
Ты довольна ль чистой трелью?
Ты качала колыбель:
Нынче я над колыбелью.
Мама, мама! Погляди,
Мы с тобой сыграли шутку:
Кустик на твоей груди,
Я из ветки сделал дудку.
Пусть тебя повеселит
Звуком жалобным и чистым,
Будто зимний вихрь свистит
По ночным кустам безлистым.
Ах, уж мне пора идти!
На твоей груди продрог я —
В целом мире не найти,
Где бы вновь согреться смог я.
Баю-бай, малютка спит!
Сон и сладок, сон и долог!
Эта зыбка не скрипит,
И над ней незыблем полог.
КАКИМИ СТАЛИ ВЫ, КРАСНЫЕ РОЗЫ. Перевод Н. Григорьевой.
О розы счастья, и сейчас
Полны вы аромата.
В своем молитвеннике вас
Лелеет память свято.
Не раз, кладя на пурпур тень,
Вас кистью смерть касалась;
Но не забыть тот юный день,
Тех роз далеких алость.
Любую жилку знаю я
На благородной ткани.
Там, где горит слеза моя,
Искрились росы ране.
ТОСКА ПО РОДИНЕ. Перевод А. Спаль.
Ветры дивные закатов,
Как тревожите вы грудь!
Волны летних ароматов
Луговых, куда ваш путь?
Может быть, на снежный брег,
К родине моей ваш бег?
Донесете ль в мир былого —
Сердца горестное слово?
Солнце алое сгорело,
Скрылось в каменной золе.
Я стою белее мела
В одиночестве и мгле.
Нет в краю родимом скал.
Ах, но я безроден стал!
Лишь во сне я вижу травы,
Зелень дремлющей дубравы.
Ты, норвежец, в день ненастья,
Помнишь — горько клялся в том,
Что покой, любовь и счастье
Дарит лишь родимый дом.
Ты, швейцарец, житель гор,
Вел такой же разговор!
Манит вас тоска святая,
Скал привычных цепь литая.
В вашей памяти утесы
Неприступные царят,
Мне же голых глыб откосы
Ум гнетут и ранят взгляд.
Я пою хвалу сосне,
Датским букам по весне!
Здесь же — разве успокою
Душу бледною рукою?
Не текут в моей отчизне
Реки в глиняной пыли;
Море там — праматерь жизни —
Серебром горит вдали!
Дарит Дании покой,
Гладит ласковой рукой,
И прибой, волной атласной,
Льнет к груди ее прекрасной.
Тихо, тихо! В лодке зыбкой
Дева сквозь тростник плывет,
С нежной цитрой и улыбкой
В час полуночный поет.
Чистый тон! О, счастья луч!
Эта песня — к сердцу ключ.
Но печалюсь я и плачу.
Что я в милой песне значу?
То — не датские напевы,
И слова — язык иной.
Нет, не так мне пели девы
В отчем доме, под сосной.
Может, эта речь звучней,
Но слова чужие в ней.
Песнь твоя прекрасней грезы.
Но прости мне эти слезы.
Песня Дании печальна,
Словно вздох, слетевший с уст.
Струи вод грустят кристально,
Запах трав росистых густ.
В милой роще столько раз
Я сидел в закатный час.
Мчат мечты меня в былое,—
Вот и плачу оттого я.
Пела мама, умирая;
Путь мой скорбен с малых лет.
Дания, — ты мать вторая,—
Вновь увидимся ль, мой свет?
Жизнь непрочная жалка.
Смею ль я, издалека
Возвратясь, в последней муке
Протянуть отчизне руки?
КРИСТИАН ВИНТЕР. Перевод Н. Григорьевой.
Кристиан Винтер (1796–1876). — Поэт и переводчик. Родился и Фенсмарке в Южной Зеландии. Дебютировал сборником «Стихи» (1828), и который вошло, в частности, стихотворение «Птица, лети!» (1826), впоследствии переложенное на музыку. В 1832 году вышел в свет второй сборник лирических стихов поэта — «Стихи старые и новые». Глубокий отпечаток на творчество Винтера наложила любовь к Юлии Берлин, замужней женщине, с которой он познакомился в 1836 году. В 1848 году Кристиан Винтер и Юлия Берлин связали себя семейными узами. Период 40–50-х годов — самый плодотворный в творчестве Винтера. В эти годы он создает цикл лирических стихотворений «К единственной» и посвящает их Юлии. Лирика Винтера составляет существенный вклад в датскую поэзию. Перу Винтера принадлежит также эпическая поэма «Бег оленя» (1855) и ряд новелл.
Стихотворения Винтера на русском языке печатаются впервые.
ПТИЦА, ЛЕТИ!
Птица, лети! Над простором озерным
Стелется темная ночь.
Солнце за лесом скрывается черным,
День удаляется прочь.
Ты поспеши к своим детям пернатым,
Чтоб, возвратившись опять,
Длительный путь к своим певчим пенатам
Мне поутру описать.
Птица, лети! Над волною зеленой
Крылья свои распахни.
Если ты встретишься с парой влюбленной,
В душу любви загляни.
Тот лишь певцом называть себя смеет,
Кто научился любить;
Все, что вместить в себя сердце умеет,
Должен я в песню вместить.
Птица, лети! Над волною журчащей
Сладостно к дому лететь
И, затаясь под лепечущей чащей,
Вдруг о любимом запеть.
Если бы мог я взлететь за тобою,
Точно я выбрал бы путь.
Здесь же могу я лишь вслед за листвою
Вновь о любимой вздохнуть.
Птица, лети! Над волною широкой,
Там, в поднебесном краю…
Где-то, в прибрежной дубраве далекой,
Милую встретишь мою.
Стан, как тростника, как розы, ланиты;
Очи сулят забытье;
По ветру темные кудри развиты…
Ах, ты узнаешь се.
Птица, лети! Бьются волны со стоном,
Полночь вздыхает сквозь сон,
Клонят деревья прощальным поклоном
Листья трепещущих крон.
Нет! Ты не вслушалась даже в стенанья
Певчих, родных твоих стай!
Будь хоть со мною добра: на прощанье
Отдыха мне пожелай.
ТОМЛЕНИЕ.
Любовной песни трели,
Мешая мне заснуть,
Из темных чащ летели
И мне теснили грудь.
Открыл окно я. Где-то
Соловушка свистал
И всем, что было спето,
Тебя напоминал.
Рожок почтовый, дальний,
Вздох ветра в тишине
И свет звезды печальной
Будили память мне.
Твоя душа витала
Над ночью колдовской;
И сердце трепетало,
Пронзенное тоской.
К тебе мечта стремилась,
В ночи твой взор следя;
Ах, сердце, как ты билось,
Ответа не найдя.
Лишь липы шевелили
Ветвями иногда,
На листьях росы стыли
И на небе звезда.
Ты знаешь ли, как свято
Я верю до сих пор,
Что и теперь жива ты
Судьбе наперекор?
И через ров могилы
На берег жизни вновь
Твои облик, сердцу милый,
Перенесет любовь.
НОЧЬ БЫЛА МЯГКА И НЕЖНА.
Снами летучими
Тени сгустились,
Звезды за тучами
Тихо укрылись.
Наши печали
В липах дремали.
Были одни мы на целой земле!
Все словно пело во мгле.
Чудо слияния
Душ воедино…
Воспоминания:
Горя годины,
Бури и штили
Мимо скользили.
Памяти змеи заснули давно —
Слиты мы были в одно.
Словно спаяли мы
Душ наших свечи,
Словно смешали мы
Думы и речи.
Чувства и грезы
Гибко, как лозы,
Переплелись. И любовь нам одна
Небом была крещена.
Волны ли, звуки ли,
Вздохи ль томления
Нежно баюкали
Наше забвение.
Плыл наш привет
К звездам, чей свет,
Благословляя из вечности нас,
Нас обручил в этот час.
НА РОДИНЕ.
В море небес
Тело ястреба тает,
Радужный лес
Кукушат укрывает;
В чреве вулканов
Сны великанов
Осень листвой заметает.
Пахнет жнивье —
Воздух родины пью я;
Все здесь мое,
И об этом пою я;
Грежу безбрежно,
Ярко и нежно;
Плещутся волны, ликуя.
Здесь я забыл,
Как в жестокой разлуке
Струн я будил
Бесполезные звуки;
Песни и думы
Были угрюмы,
Как кандалов перестуки.
Песня моя
Реет в небе счастливом!
Кланяюсь я
Этим дедовским нивам;
Через долины
Звуков лавины
Льются единым порывом!
ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН.
Ханс Кристиан Андерсен (1805–1875). — Великий датский сказочник, чье творчество хорошо известно в нашей стране. На русский язык переведены все основные произведения писателя. В «Библиотеке всемирной литературы» его сказкам посвящен отдельный том (см. т. 66). В настоящем томе БВЛ даются некоторые стихотворения Андерсена.
ГЕФИОН[123]. Перевод А. Коринфского.
[123].
Вот Гюльфе пирует — король молодой…
Горят рудо-желтые свечи,
Сверкает и пенится мед хмелевой,
Медовые слышатся речи…
Обходит веселая чаша гостей,
И снова идет вкруговую,
А странница с арфой стоит у дверей,—
Сыграет… — «Ладь песню другую!..»
Звенит, говорит и рокочет струна,
Срываются звуки каскадом,
Растут словно буря — стеною стена,
Бегут диких буйволов стадом,
И песня бушует, как ветер степей…
Так бьются — за стаею стая —
Студеные волны холодных морей,
Скалистые кручи лобзая!
Все громче и громче… Вот жалобный стон
Впивается в сердце стрелою.
Все тише, все тише… То арфы ли звон,
Иль птицы летят стороною?..
И слушает Гюльфе, не чуя души:
«За песню певице награда,—
Две пары волов запрягай и паши
Лесную новину, услада!..
Что за день успеет отрезать твой плуг,
Прими в дар из рук из царевых!..»
И странница вышла, и смолкли все вдруг
В пиру на скамьях на дубовых…
«Чу, словно запела она на струнах!..»
«Нет, буйволов реву я внемлю!..»
«Чу, словно гроза расходилась в горах!..»
«Нет, плуг это врезался в землю!..»
«Чу, песня опять заиграла — грозна,
Как шум снегового обвала!..»
«Нет, это от Сконии[124] плугом она
Новину себе отпахала!..
Вот в борозды справа заходит вода,
Вот остров вздымается слева…
Леса и курганы, прощай навсегда!..»
Хвала тебе, Гефион-дева!..
ДАНИЯ — МОЯ РОДИНА. Перевод А. Коринфского.
В цветущей Дании, где свет увидел я,
Берет мой мир свое начало;
На датском языке мать песни мне певала,
Шептала сказки мне родимая моя…
Люблю тебя, родных морей волна,
Люблю я вас, старинные курганы,
Цветы садов, родных лесов поляны,
Люблю тебя, отцов моих страна.
Где ткет весна узорные ковры
Пестрей, чем здесь, богаче и душистей?
Где светит месяц ярче и лучистей,
Где темный бук разбил пышней свои шатры?..
Люблю я вас, леса, холмы, луга,
Люблю святое знамя «Данеборга[125]», —
С ним видел бог победной славы много!..
Люблю я Дании цветущей берега!..
Царицей севера, достойного венца,
Была ты — гордая своею долей скромной;
Но все же и теперь на целый мир огромный
Звенит родная песнь и слышен звук резца!..
Люблю я вас, зеленые поля!
Вас пашет плуг, места победных браней!..
Бог воскресит всю быль воспоминаний,
Всю быль твою, родимая земля!..
Страна, где вырос я, где чувствую родным
И каждый холм, и каждый нивы колос,
Где в шуме волн мне внятен милый голос,
Где веет жизнь пленительным былым…
Вы, берегов скалистые края,
Где слышны взмахи крыльев лебединых,
Вы — острова, очаг былин старинных,
О, Дания! О, родина моя!..
РОЗА. Перевод П. Гнедича.
Ты улыбнулась мне улыбкой светлой рая…
Мой сад блестит в росистых жемчугах,
И на тебе, жемчужиной сверкая,
Одна слеза дрожит на лепестках.
То плакал эльф о том, что вянут розы,
Что краток миг цветущей красоты…
Но ты цветешь, — и тихо зреют грезы
В твоей душе… О чем мечтаешь ты?
Ты вся любовь, — пусть люди ненавидят! —
Как сердце гения, ты вся одна краса,—
А там, где смертные лишь бренный воздух видят
Там гений видит небеса!..
ГЕНИЙ ФАНТАЗИИ. Перевод К. Фофанова.
Живу я в тишине, в тени долины влажной,
Где резвые стада пасутся под горой,
И часто с пастухом внимаю стон протяжный
Влюбленных голубей вечернею порой.
Когда ж его свирель звучит о счастье нежно
И Филис падает на грудь к нему — небрежно
Я возле мыльные пускаю пузыри,
Где блещет радуга прощальная зари…
На сумрачной скале, где старый замок дремлет,
В развалинах шумлю я с ветром кочевым;
В чертогах короля мне важность робко внемлет,
И в бедной хижине я плачу над больным.
Я в трюме корабля за тяжкими досками
Смеюся и шучу над звучными волнами,
И в час, когда горит румяная заря,
Задумчиво брожу в степах монастыря.
В ущелье, между скал, в пещере одинокой
Я демонов ночных и призраков бужу,
На мрачном севере, зарывшись в снег глубокий,
Я молчаливые дубравы сторожу.
На поле грозных битв, в час краткого покоя,
Победой близкою баюкаю героя,
Со странником в степи кочую и певцам
Указываю путь к бессмертным небесам.
Ребенок сам — с детьми я чаще всех бываю,
Доступней волшебство невинным их сердцам,
И маленький их сад при мне, подобно раю,
Цветет и сладко льет душистый фимиам.
Их тесный уголок становится чертогом;
И аист кажется им странным полубогом,
Когда он по двору разгуливает, хмур…
И ласточка для них — весенний трубадур.
И часто я с детьми при вечере румяном
Гляжу на облака, плывущие вдали.
Как дышится легко в саду благоуханном,
Как нежно нам журчат ручьи из-под земли!
Мы видим, как, сребрясь, за горы убегает
Гряда отсталых туч, и радуга сияет
Алмазным поясом по светлым небесам,
И чайка белая ласкается к волнам…
И я с тобою рос; когда ты был ребенком,
Сидели мы вдвоем, смотрели на камин,
Следили за игрой огня на угле топком,
Где возникал и гас рой пламенных картин.
Мы сказки слушали, не зная лжи опасной,
Звучали вымыслы нам правдою прекрасной,
И с херувимами — покорные мечте —
Мы бога видели в небесной высоте.
КОРОЛЕВА МЕТЕЛЕЙ. Перевод Ф. Берга.
Темной ночью метель и гудит, и шумит,
Под окошком избушки летая, свистит;
А в избе при огне, у сырого окна,
Ждет красотка кого-то одна.
Все на мельнице стихло… огонь не горит…
Вышел мельник-красавец, к красотке спешит.
Он и весел, и громко и стройно поет,
И по снежным сугробам идет.
Он и с ветром поет, и с метелью свистит,
По сугробам глубоким к красотке спешит…
Королева метелей на белом коне
Показалась вдали, в стороне.
И завыл ее конь, как израненный зверь,
И запела она: «Мой красавец, теперь —
Ты так молод, прекрасен — со мною пойдем!
Ты не хочешь ли быть королем?
У меня есть чертоги в горе ледяной,
Блещут радугой стены, и пол расписной,
И на мягком сугробе нам быстро постель
Нанесет полуночи метель».
Все темно, и метель и шумит, и гудит…
— Мой красавец! Не бойся, что месяц глядит, —
Чтоб не видел он нас — до земли с облаков
Заколеблется полог снегов.
Ярко солнце блестит в голубых небесах,
И сверкают пылинки на снежных полях,
И на брачной постели покоится он —
Тих и свеж его утренний сон…
ФРЕДЕРИК ПАЛУДАН-МЮЛЛЕР. Перевод Е. Аксельрод.
Фредерик Палудан-Миллер (1809–1876). — Представитель позднего романтизма. Родился в городе Орхусе в семье священника. Получил юридическое образование. К моменту окончания университета стал известен как автор поэтического сборника «Четыре отечественных романса» (1832) и поэмы «Танцовщица» (1833), написанной под влиянием Дж.-Г. Байрона. В 1834 году выходит в свет драма Палудана-Мюллера «Амур и Психея», послужившая как бы прологом для серии его мифологических драм. С 1841 по 1848 год Палудан-Мюллер работает над главным произведением своей жизни — лиро-эпической поэмой «Адам Хомо». Поэма повествует о судьбе человека, жертвующего своими нравственными убеждениями ради карьеры и жизненного благополучия. От вечного проклятия на Страшном суде героя поэмы спасает заступничество Альмы Стьерп, невесты Адама, покинутой им ради брака по расчету. История чувства Альмы к Адаму в поэме имеет внутреннюю параллель — сонеты Альмы, представляющие собой образец любовной лирики Палудана-Мюллера.
На русский язык произведения Палудана-Мюллера не переводились.
ИЗ СОНЕТОВ АЛЬМЫ.
«Мне подлинную жизнь дал ты один…».
Мне подлинную жизнь дал ты один,
С тобой одним душа вздохнула смело.
Я прежде в одиночестве немела,
Жила, как в тишине морской — дельфин.
Пробился зов твой сквозь вечерний сплин,
Когда, казалось, все оцепенело.
Твой голос влек и мысль мою и тело,
Меня на волны вынес из глубин.
Твой голос огласил немые своды,
И жизнь в гармонии предстала ясной,
Ты распахнул весь мир передо мной.
О, не смолкай! Тебя ждала я годы.
Ты мой певец! И песнь твоя прекрасна.
Тебе лишь верю — твой дельфин ручной.
* * *
«Мечтала я — но как мечты мне лгали!..».
Мечтала я — по как мечты мне лгали!
Так живо представлялось мне норой,
Что я вольна, что стерся образ твой,
Живу, как прежде, — в мире и печали.
Я чувствовала — дни мои нищали.
Казалось мне, что я сосуд пустой,
Что драгоценный выплеснут пастой,
Я ветвь сухая — и листы увяли.
Очнулась я негаданно-нежданно.
Тебя вернул мне день новорожденный —
Твой образ вспыхнул на заре багряной.
И полон вновь сосуд опустошенный,
И к сердцу мощною волною рвется
Поток блаженства, что Тобой зовется.
* * *
«Я думаю о нас и всякий раз…».
Я думаю о нас и всякий раз
Озарена надеждою подспудной.
Дышу я нашей жаждой обоюдной,
Я вижу сев и близкой жатвы час.
На зов наш общий жизнь отозвалась,
И обновляться нам ежеминутно,
Пока мы не достигнем цели трудной,
Пока не осенит блаженство нас.
О, может быть, мечты осуществимы!
Была я тихой речкою равнинной,
Но встретила тебя, и с этих пор
Влечет меня поток неудержимый,
И наши волны, слившись воедино,
Стремятся радостно в морской простор.
* * *
«Ты мне дарил раздумий строй высокий…».
Ты мне дарил раздумий строй высокий
И знать хотел, что дни мои таят.
Но зазвучало слово невпопад,
Когда любви в тебе иссякли токи.
Другую повстречал. К чему упреки,
Когда ты новой жаждою объят?
Но в прошлое я обратила взгляд,
В былой Эдем, о мой Адам жестокий,—
Ах, если б я склонилась обреченно
И боль, со свистом воздух рассекая,
Пронзила грудь мою — стрелы острей,
Сравнилась бы со скрипкою тогда я,
Разбитой вдребезги и возрожденной,
Чей звук красивее — пускай слабей.
* * *
«О, как ни велика твоя вина…».
О, как ни велика твоя вина,
Как ни тяжка раскаянья десница —
Пусть ею твой покой не замутится,
Пусть жизнь твою не омрачит она.
Что с достоянием твоим сравнится?
Тебе судьба банкрота не страшна.
Есть бедная душа — твоя должница,
Которая тобой одарена.
Любимый! Разве ждал ты воздаянья,
Неся мне клады счастья и страданья?
Каких богатств ты не делил со мной!
И коль придет когда-нибудь расплата,
Твоя должница, что тобой богата,
Заплатит тем, что дал ты ей самой.
ХОЛЬГЕР ДРАХМАН.
Хольгер Драхман (1846–1908). — Датский поэт, прозаик и драматург. Родился в Копенгагене в семье врача. В 1871 году отправился в Англию, где познакомился с жизнью английских рабочих. После возвращения в Данию сблизился с литературоведом и критиком Г. Брандесом. Под его влиянием создал ряд стихотворений ярко выраженной антибуржуазной направленности. Эти стихотворения поэт включил в первый поэтический сборник «Стихи» (1872). Вскоре появляются новые сборники стихов Драхмана — «Приглушенные мелодии» (1875), «Песни у моря» (1877), «Лозы и розы» (1879), в которых поэт выступает блестящим версификатором, обогащая датскую поэзию новыми ритмами и размерами. В 80-е годы XIX века выходят в свет сборники стихов «Старые и новые боги» (1881), «Юные песни» (1882) и др. Основной мотив поэзии Драхмана этих лет — мотив моря, свободной стихии, наполняющей душу человека спокойствием и силой. Перу Драхмана принадлежат также многочисленные прозаические произведении и драмы.
На русский язык переводилась драма-сказка Драхмана «Тысяча и одна ночь», а также отдельные рассказы и стихотворения писателя.
ТАМ ПРАВИТ ЗВУК. Перевод И. Бочкаревой.
Там правит звук —
Средь одиноких мук,
Средь призраков лесных он возникает;
Там всякий зверь и всякое дыханье,
И существа, что воздух населяют,
И камень, в ком давно остыла страсть,—
Все словно бы предчувствует страданье,
Все отдано отчаянью во власть.
О, что это встает передо мной
За соснами и скалами? Проклятье!
Там призраки сливаются в объятье,
Глаза горят — им страшен свет дневной,
И судорожно руки сплетены,
И губы всё, что любят, проклинают,
И в странных очертаньях оживают
Моей умершей молодости сны!
Навечно ли я отдай им во власть?
Не я ль изведал горькие страданья,
Не я ль изгнал из сердца пыл и страсть
И стал как те, что воздух населяют?
Не я ль обрел средь одиноких мук
Счастливое и вольное дыханье,
Что призраков бесплотных побеждает?
Чего же я боюсь? —
Там правит звук!
ИМПРОВИЗАЦИЯ НА БОРТУ. Перевод Е. Аксельрод.
Вот-вот и ночи белые уйдут,
И мрак поднимется из вод пролива,
И волны громко песню заведут,
Что зреет тихо и неторопливо.
Вот-вот и замутится окоем,
Взлетит над морем, с ним простившись, птица.
Забудется природа долгим сном,
Придет пора и песням измениться.
Пока же ночь, прозрачный свет даря,
Укрыла море крыльями своими.
Пока же золотым перстом заря
Над кронами свое выводит имя.
И нашу лодку движет бриз ночной,
Она легка, как странник беззаботный.
Нас бог зари ссудил златой казной
И песнею, звенящей и свободной.
Мы воздадим ему огнем вина,
Его восславим гимном в час румяный.
А срок придет — нас поглотит волна,
Как Шелли[126] — воды сумрачной Тосканы.
В ЧАСЫ ОДИНОКОГО БДЕНЬЯ. Перевод Е. Аксельрод.
В часы одинокого бденья
Канал мне о чем-то журчит,
Врываясь в мои сновиденья,
Когда я дремлю наяву.
Не прерываема дробью копыт,
Тянется суток цепочка;
Канала прозрачная строчка
В безмолвье одна не молчит.
Бывает, так к двери закрытой
Подходит певец наугад
И песнею полузабытой
Затворника в сети влечет.
Искусно личины срывает с утрат
Тот странник, певец тот незваный;
Невидимо старые раны
У пленника кровоточат.
Следит он в окно потайное
За облаком в красном огне,
Что катится в небо ночное
И шепчет домам о любви.
Певец, если б знал ты, что видится мне
Все то, что мне струны открыли,
И все, что они утаили,
Храню наяву и во сне!
* * *
«Венеции спящей невнятица…». Перевод Е. Аксельрод.
Венеции спящей невнятица,
Слышу я плеск ее вод,
Их жалобы, стоны,
Их говор бессонный,
Когда набегут и откатятся
Снова под мост, на простор.
Так зыбки они, невесомы,
Как те сиротливые гномы,
Сходившие с мраморных гор
Процессией траурной по двое в ряд,
В их песне тоска невозвратных утрат,
Скорбно во тьме трепетало:
— Ах, Белоснежки не стало!
И память рождает видение:
В белом убранстве дитя,
Лицо восковое,
Но будто живое,
Я чувствую боль и смятение,
Лоб мой пылает огнем,
А сердце придавлено льдиной:
Морщинка на лбу так невинна,
И сложены руки крестом.
Я вижу — зеленый леандр соскользнул
С груди непорочной… А траурный гул
Близится. Ночь трепетала:
— Ах, Белоснежки не стало!
Мелодия волн прихотливая
Меркнет, встречая рассвет.
Скользя в нетерпенье,
Свое же творенье
Стирает волна торопливая
Под молчаливой зарей.
Сквозь утра прозрачные створы
В свои возвращается горы
Гномов медлительный строй.
Пускай рассудительным стал я давно,
Но сказка из детства со мной все равно.
Грустью в душе трепетало:
— Ах, Белоснежки не стало!
ПРИВЕТ. Перевод Е. Аксельрод.
Чувствуешь, ветер добреет,
Вздохом весны обновленный,
Воздух целует листву и цветы,
И родничок в них пестреет.
В берег прохладой соленой
Бьется морская вода.
Пусть есть у жизни зима и ненастье,
Жизнь не умрет никогда.
Взор твой весна напоила,
Вечность в глазах твои брезжит;
Благоговейно клонятся цветы,
Где бы ты ни проходила.
Вновь дождалось побережье —
Май к нам плывет сквозь дожди.
Где б ни была ты, тебя, дорогая,
Скоро прижму я к груди.
И вознесет нас крылатый
Воздух земли обновленной.
Как две волны, мы сольемся с тобой,
Синью и светом богаты.
Веет прохладой соленой
Майского моря вода.
Знает любовь и ненастье и зиму,
Но не умрет никогда.
Взмоем к истокам счастливым
Жизни… Коль смерти охота
Встретить нас — что она против любви?
Глянет лишь взором ревнивым.
Два наших имени кто-то
Шепчет среди тишины.
Слышишь? То голос любви нашей вечной
В немолчном плеске волны.
САКУНТАЛА. Перевод И. Бочкаревой.
Тревога уснуть мешала,
Запах цветов
Меня томил,
Душистый поток струился,
Цветочный ветер в окно мое бил;
Я слушал неясный шелест
Высоких пальм,
И чудилось мне,
Куда бы ни шел в томительной тьме:
Сакунтала, Сакуптала!
Вы, вечные Гималаи!
Высокие лбы
Подняв к небесам,
Зачем вы послали эти потоки
Сегодня ночью к моим ногам?
Зачем, как черную память,
Передо мной
Волны гнать?
Зачем предо мною предстала опять
Сакунтала, Сакунтала!
О дева, нежно и влажно
Глянула ты
Мне в лицо,
Как было
В день, когда тебе дали
Связующее кольцо.
Ах, не просто время,
Не просто день,
Не тысяча лет
Тебя и меня разделяют, нет,
Сакунтала, Сакунтала!
Кольца не роняла ты в реку,
Душьянта сам
Кольцо швырнул,
Он путь преградил потоку,
Но кольца тебе не вернул.
Душьянта охотиться будет
Средь стройных пальм,
У бурных вод
Он антилопу убьет.
Сакунтала, Сакунтала!
ВСЕ, ЧТО ЗДЕСЬ ЖИЛО… Перевод И. Бочкаревой.
Все, что здесь жило, — умрет,
Что цвело — отцветет:
Поцелуи и слезы в подушках бессонных,
Имена, что мы пишем на стеклах оконных,
Все, что здесь жило, — умрет.
Непостижимый исход!
И все же мы жаждем влюбляться,
Грустить, целовать, целоваться,
Страстью обжечь и обжечься страстью —
Не умирает стремление к счастью:
Гретхен — Фауст, Ромео — Джульетта!
Милая! Делай священное дело:
Руки омой и светлое тело
Кровью, что в сердце твоем закипела,
И, выходя на лов,
Флейту свою готовь —
И пусть отзовется на страстный зов
Все, что со временем канет в Лету.
ЙЕНС ПЕТЕР ЯКОБСЕН. Перевод Е. Аксельрод.
Йенс Петер Якобсен (1847–1885). — Один из крупнейших реалистов второй половины XIX века. Родился в семье торговца. Окончил Копенгагенский университет. Опубликовал ряд статей о Ч. Дарвине и перевел на датский язык его основные труды. Творческая биография Якобсена-художника начинается в конце 60-х — начале 70-х годов, в период его участия в литературном «движении прорыва», возглавлявшемся Г. Брандесом и утверждавшем эстетические принципы реализма. Рассказы Якобсена, его романы «Фру Мария Груббе» (1876) и «Нильс Люне» (1880) заложили основы критического реализма в Дании.
Как поэт Якобсен не был долгое время известен широкому читателю. Подготовленные им поэтические сборники «Херверт Сперринг» (1866–1869) и «Кактус расцветает» (1868–1869) были опубликованы лишь после смерти писателя. Философское содержание и новаторство лирики Якобсена, который ввел в датскую поэзию свободную строфу и свободный ритм, не или оценены современниками.
На русский язык переведен ряд романов и рассказов Якобсена; его стихотворения на русском языке публикуются впервые.
«Громада земли в мирозданье…».
Громада Земли в мирозданье
Плывет, словно в море листок.
Я только песчинка. В чьем свете
Мерцаю — то знает лишь бог.
Но все же миры, что качает
Эфира могучий поток,—
Лишь рябь в океане моих размышлений,
Чем движима — мне невдомек.
АРАБЕСКА.
Блуждал ли ты в сумраке леса?
Встречал ли ты Пана?
Я познал его,
Но не того — духа темных лесов,
С которым безмолвие речь обретает.
Нет! Я того не знавал никогда.
Пан мне открылся в образе бога любви,
Когда онемело все говорящее.
Видал ли ты в знойных краях
Диковинное растенье?
В неколебимом молчании,
Палимое тысячами лучей,
Открывает оно свой цветок
На мимолетную долю минуты —
Красное око безумца,
Трупа румяный лик.
Я видел его,
Когда одержим был Ею.
Как снег жасмина, была она благоуханна,
Мака дурманная кровь текла в ее жилах,
Мраморные прохладные руки
Покоились на ее коленях,
Подобные белым лилиям на поверхности озера.
Слова ее падали мягко,
Как падают листья яблони
На влажную от росы траву.
Но порою казались
Холодными и прозрачными,
Как струи, влекущиеся со дна.
В ее смехе слышалась грусть,
В слезах — ликованье;
Все перед нею смирялось.
Лишь двое решались ей противоречить
Ее собственные глаза.
Из ослепительной чаши
Цветка ядовитого
Она напоила меня допьяна:
Того, которого нет в живых,
И того, кто теперь на коленях у ног ее.
С обоими она осушила до дна,—
Тогда ее взгляд был покорным,—
Сверкающий кубок
Цветка ядовитого —
С обетом верности нерушимой.
Все миновало!
На засыпанной снегом поляне
В темном лесу
Растет одинокий терн.
Его листвой завладели ветры.
Одна за другой,
Одна за другой
Кроваво-красные капли
Пятнают белый покров.
Пылающие капли
На холодном снегу.
Встречал ли ты Пана?
ПЕЙЗАЖ.
Будь осторожна, родная,
Чтоб не спугнуть тишины.
Песня уснула лесная,
Видит зеленые сны.
Ветер безмолвствует в кронах,
Птицы затихли кругом.
Смолкли в ключах озаренных
Воды над илистым дном.
Луч осеняет неслышно
Буков густых темноту.
Дремлют вдоль троп неподвижно
Травы на лунном свету.
Облако, что распластало
Крылья в серебряной мгле,
Сверху внимает устало
Дремлющей, чуткой земле.
Ветры молчат, охраняя
Песню в покое ночном.
Будь осторожна, родная,
Снов ее мы не спугнем.
ЖАНРОВАЯ КАРТИНКА.
Паж был пылок и влюблен.
В башне сутки кряду
О любовных муках он
Сочинял балладу.
Лишь придумал он начало —
Слов не стало.
Розы, звезды, розы, звезды —
Где взять рифму к слову «звезды»?
С горя рог поднес к губам,
Сжал его рукою —
Протрубил свою любовь
Над горой крутою.
ЛИШЬ ДЕНЬ, УСТАЛЫЙ ОТ ЗАБОТ.
Лишь день, усталый от забот,
Их выплачет росой,
Ночь створы неба распахнет,
И молча выйдут из ворот
Попарно
Иль по одному,
Покинув свой угрюмый кров,
Жильцы неведомых миров.
Несут высоко звезды-свечи
И над юдолью человечьей
Безмолвно шествуют они.
Неровен шаг,
Печальны души,
Вокруг бескрайний мрак,
Вселенский ветер тушит
Огни блуждающие свечек-звезд.
ПУСКАЙ В СВОЙ ЧАС ПРИДЕТ ВЕСНА.
Пускай в свой час придет весна
С листвой зеленой,
Настроит флейты птиц она,
Цветы раскрасит
Рукой влюбленной,
Пусть будут ярки
Сады и парки,
Пусть принимают весны подарки.
Пусть краски по лугам струятся,
В лесах задумчивых таятся,—
Что мне до них?
Душа — не лист и не цветок,
И эта радость ей не впрок;
Весны своей, особой, ждет —
Когда ж придет?
ИРЛАНДИЯ.
ДЖЕЙМС КЛАРЕНС МЭНГАН.
Джеймс Кларенс Мэнган (1803–1849). — Поэт, переводчик, один из лидеров национально-освободительного движения «Молодая Ирландия». Родился в Дублине в семье лавочника. С тринадцати лет работал переписчиком в конторе. Главная тема его творчества — трагедия ирландского народа. Мэнган много занимался переводом на английский язык немецких, арабских, турецких, персидских поэтов. Перелагал на английский язык старинную ирландскую поэзию.
БЕЗЫМЯННЫЙ[127]. Перевод Ю. Шор.
[127].
Лети, о песнь, как с горы стремнина,
Что увлекает все за собой!
Господь, даруй мне мощь исполина,
А лира — пой!
Поведай всем: средь могил унылых,
Где спят ушедшие навсегда,
Есть прах того, в чьих струилась жилах
Кровь — не вода,
Чья жизнь была — долгий час печали,
А детство — пытка, ночная жуть,
Кому и звезды не освещали
Кремнистый путь.
Лети, о песнь, и поведай миру,
Что он сражался за свой народ,—
Звал, презирая жезл и порфиру,
Его вперед.
Унижен, жалок, раба безвестней,
Он думал — жить недостанет сил,
Но сам господь его душу с песней
Соединил.
И песня эта — вольна, как птица:
Так, ей подобный, — пусть неглубок,
Но быстр и смел, — к океану мчится
Горный поток.
Его терзала злых духов стая;
Исколот сотнями острых жал,
Стеная, плача, изнемогая,
Он смерти ждал;
Но, всюду внемля одним проклятьям,
Обманут в дружбе, забыт в любви,
Себе сказал он: «Ты нужен братьям,
Борись, живи!»
Он, до последней трудясь минуты,
Старался для тех, кто убог и хил,
Народ же, с которого он снял путы,
Его забыл.
И он исчез в бездонной пучине,
Как Бернс и Мэггин, нам стал далек;
Казалось — душу его в гордыне
Дьявол увлек…
Но когда смерть, тяжело ступая,
К нему явилась — в последний час
Душа, скорбящая и святая,
В рай вознеслась.
Как медь, звучал его голос вещий.
Стезю страданий, нужды и бед
Не озарял в темноте зловещей
Надежды свет,
Но глас того, кто скончался в муках,
Кто в тридцать девять был дряхл и сед,
Остался в нас, в наших детях, внуках…
Ты жив, поэт!
Будь милосерд к нему, всемогущий,
Да снидет покой на бренную плоть!
Открой страдальцу райские кущи,
Мудрый господь!
ТЕМНОКУДРАЯ РОЗАЛИН[128]. Перевод И. Шафаренко.
[128].
О Розалин, любовь моя,
Не плачь и не горюй!
Идет к нам помощь — вижу я —
Средь океанских струй.
Рим шлет священное вино
Сюда через моря;
Нам радость принесет оно,
Любимая моя!
О темнокудрая моя,
Здесь счастья нет, но то вино
Нам жизнь и свет открыть должно,
О Розалин моя!
Я сквозь холмы и цепи гор,
Долины и леса,
Пешком, а там, где вод простор,
Вздымая паруса,—
Шел день и ночь с огнем в крови,
Чтоб увидать тебя:
Ведь нет границ моей любви,
Любимая моя!
О роза темная моя,
Горит огонь в моей крови,
Огонь восторга и любви…
О Розалин моя!
Мечусь в тоске и день и ночь,
От горя ноет грудь;
Что сделать, как тебе помочь,
Как облегчить твой путь?
Я мыслю о твоей судьбе,
Дыханье затая…
Цель жизни всей — в одной тебе,
Владычица моя!
О роза грустная моя,
Ведь в горестной твоей мольбе
Я слышу гнев и зов к борьбе,
О Розалин моя!
В бессильной муке я поник:
Как ясная луна,
Лучист и светел был твой лик,
А нынче — ты мрачна…
Но обретешь ты вновь свой трон,
И твердо верю я,—
Он будет славой озарен,
Красавица моя!
О роза нежная моя,
Заблещет золотом твой трон,
Народным счастьем озарен,
О Розалин моя!
С любым врагом вступлю я в бой,
Чтоб честь твою сберечь,
Но ты мне собственной рукой
Надень наш древний меч!
Да, я исполню твой завет,—
Молись же за меня,
Цвет всех цветов, мой ясный свет
Любимая моя!
О роза алая моя,
Любой ценой, мой ясный свет,
Тебя избавлю я от бед,
О Розалин моя!
Я к облакам взлететь готов,
Рыть землю, в бурю плыть,
Чтоб снять с тебя позор оков
И раны исцелить!
Один твой благодарный взгляд —
Награда для меня,
Мое сокровище, мой клад,
Бесценная моя!
О роза гордая моя,
Я стал бесстрашней во сто крат,
Вновь полон сил, вновь битве рад.
О Розалин моя!
Пусть Эрн всю землю захлестнет
Кровавою волной,
Пусть ядер град перевернет
Луга земли родной,
Но кровь врагов покроет сплошь
Родимые края
Скорей, чем кровью истечешь
Ты, Розалии моя!
О роза вечная моя,
Ты не увянешь! Это ложь!
Нет, ты не сгинешь, не умрешь,
О Розалин моя!
ВИДЕНИЯ. Перевод Л. Володарской.
По небу черные ползут драконы,
У ног моих разверзлась вдруг земля,
И там я вижу аспида, червя,
Ни сон, ни смерть над ним не вольны
Но саван чистый бережет змея!
Всю ночь дремоты плоть язвя,
Невесть откуда голос хриплый
Зовет меня, зовет, зовет —
И жутким знаком, вестью гиблой
Повинный разум страхом бьет.
Час одинокий злого ликованья, —
В его кровавой чаше смерть найдя,
Вновь оживают с лютой силой
В обличье мерзостном воспоминанья.
Тогда Воображение меня
Спасти торопится виденьем — жилой
Золотоносной. Обретает
Душа заблудшая покой.
Недолог сон. Опять сжигает
Огонь безумья разум мой.
ТОМАС ДЭВИС.
Томас Дэвис (1814–1845). — Поэт, публицист. Родился в Англии и семье хирурга. Образование получил в Дублинском университете, где изучал право. Протестант Дэвис ратовал за мир с католиками. В 1842 году основал в Дублине журнал «Нация». Свои первые стихи, в основном пламенные, патетичные баллады, написал в 1840-е годы. Книга его стихов вышла в свет посмертно в 1846 году.
ДУХ НАЦИИ. Перевод И. Шафаренко.
I.
Народный глас, народный глас,
Взывающий набат!
Ты сбросить рабство кличешь нас,—
И короли дрожат!
Как звезды, льешь ты свет из тьмы,
Гремишь, как вал морской,
Лучом пронзаешь мрак тюрьмы,
Застенки под землей!
Твой благородный гневный гул
Порыв к свободе в нас вдохнул!
II.
Наш древний флаг, народный флаг!
Святую ткань твою
Пусть развернуть не сможет враг
В неправедном бою!
Зато над теми, что на бой
За вольность поднялись,
Ты, осеняя их собой,
Под небеса взметнись!
Бессмертье, слава и почет
Ждут тех, кто за тебя умрет!
III.
А вы, народные права,
И правда, и закон,
Вас бог народу даровал,—
Как силу, — испокон!
Чтоб свергнуть иноземный гнет,—
Бесчестье всей страны,—
Поднять униженный народ
На битву мы должны!
И лишь тогда, навек юна,
Воскреснет вольная страна!
IV.
О песнь Ирландии моей,
Над всей землей лети!
Ты лишь к добру зовешь людей —
И ты везде в чести.
Свободный дух ее сынов
Всегда звучал в тебе:
Ирландец умереть готов
Бестрепетно в борьбе!
Господь за это с давних пор
Длань над Ирландией простер!
МОЯ МОГИЛА. Перевод М. Алигер.
Где они зароют меня? В глубине,
Где стоячие воды застыли во сне?
Или выроют мне могилу они
Под деревьями, в их вековой тени?
Иль положат мой прах
На диких ветрах
И степная буря сотрет мой след?
О нет! О нет!
Или в склепе найдут для меня приют,
Или плиты собора меня замкнут?
Иль могила меня в Италии ждет,
У гранитных скал, у лазурных вод?
Это было бы славно, я рад бы был,
Хоть, пожалуй, я Грецию больше любил.
Или дикие звери меня разорвут
И всемирные ветры мой прах разнесут?
Или в братской могиле я буду зарыт,
Там, где тысяча трупов без гроба лежит,
Там, где пали они, не дойдя до побед?
О нет! О нет!
Нет, в зеленой Ирландии, на холме,
На открытой лужайке лежать бы мне;
Потому что любил я шорох капель в траве
И не штормы, а мягкий ветерок по траве,
И не нужно мне камня, надгробья, плиты,
Пусть по дерну цветут полевые цветы,
Чтоб траве не дичать, а расти зеленей,
Пусть роса проникает до самых корней.
Пусть напишет отчизна эпитафию мне:
«Он служил беззаветно родной стороне».
О, сколь радостно было б уйти на покой,
Твердо веря, что будет могила такой.
ИСЛАНДИЯ.
БЬЯРНИ ТОРАРЕНСЕН.
Бьярни Тораренсен (1786–1841). — Стихи Б. Тораренсена написаны в «эддическом» стиле, то есть в стиле «Старшей Эдды» и других эпических произведений; их шероховатость и суровость сочетаются с поэтическим богатством.
Сборники поэта изданы посмертно, в 1847 и 1884 годах.
ЗИМА. Перевод И. Бочкаревой.
Что там за всадник
Торопит яростно
Коня снежно-белого
В высоком небе?
Мерзлые хлопья
Мечет с гривы
Могучий конь
Злобно на землю.
Щит ледяной
На плечо у всадника,
Сыплются с лат
Искристые иглы,
Облекает голову
Страшный шлем,
Вкруг этого шлема
Сполохи вспыхивают.
Тот всадник извергнут
Логовом полночи,
Там — вечный источник
Силы земной,
Там бурное море
Бьется у берега,
Что весен не видит,
Что лета не ведает.
Тот всадник не старится
Хоть старейшие боги
Друзья с пим были
Еще до мироздания.
Свой путь он закончит,
Когда солнце погаснет
И последнее слово
На земле отзвучит.
Крепкий окрепнет,
Услыхав его поступь,
Земля затвердеет
От ласк его диких,
Станут алмазами
Ее слезы,
Горностаевой шубой
Станут черные ризы.
Вовсе неправда,
Что теплым летом
Зима отступает
В северный край.
Она выжидает
Там, в поднебесье,
Пока лето бродит
Среди пестрых лугов.
Руки зимы
Землю вращают,
От мощи тех рук
Полюса трещат,
И все на земле,
Что к небу близко,
Не расстается
С зимой никогда.
Всем известно,
Что даже летом
Горы одеты
В зимний наряд;
Всем известно,
Что лето не сгонит
Небесный иней
С головы старика.
СИГУРДУР БРЕЙДФЬОРД.
Сигурдур Брейдфьорд (1798–1846). — В 1814 году поэт приехал из Исландии в Копенгаген, изучал бондарное ремесло. Жил в Гренландии в качестве датского торгового служащего; об этой стране рассказывается в его книге «Из Гренландии».
Сигурдур Брейдфьорд известен прежде всего как автор рим. Римы— специфически исландское явление литературы. Это стихи повествовательного содержания, чаще всего на темы исторических или так называемых «лживых», то есть фантастических, саг. Римами принято называть и цикл рим, и отдельные часта, в него входящие. Начиналась рима обычно «мансёйнгом» — строфами любовного содержания. Со временем содержание зачина стало более разнообразным. От скальдической поэзии, возникшей еще в древней Исландии, римы унаследовали вычурный и условный язык, а также условную форму, богатую аллитерацией и внутренней рифмой. Конечная рифма в строфе римы заимствована у народных баллад; римы часто пелись. Расцвет этого вида поэзии приходится на XIV–XVI века; как жанр римы существовали еще и в XIX веке. Сигурдур Брейдфьорд был одним из последних поэтов, писавших римы.
РИМЫ. Перевод В. Тихомирова.
В самом деле, в старину
Славно ведь умели
Деву петь или жену —
Как лилею пели.
В старопрежние лета —
Нынче где же это? —
Девы нежной красота
Прилежно воспета.
Нынче ладу нет у нас,
В песнях складу мало,
В сердце скальда жар погас —
К ляду все пропало.
Раньше, если что не так,
Силу песни знали:
Черт ли, бес ли, вурдалак —
Песней изгоняли.
И слова струились их,
Как молва, свободно,
А едва запнулся стих —
Вся строфа негодна.
Вот лиса[129]: лисе в отмест
Зло писали висы[130] —
Чудеса ли, что окрест
Исчезали лисы!
Или ворона добыть —
Скальд спроворит разом:
Стихотворец мог убить
Заговорным сказом[131].
Черт ли ловкий, злобный бес,—
Вот улов, удача! —
Сам по слову скальда лез
В упряжь, словно кляча.
Овладеет скальдом вдруг
Гнев — к беде-кручине:
Что людей падет вокруг!
Что ладей в пучине!
Может, был смельчак такой,
Оскорбил поэта,—
Скальд убил его строкой,
Словом сжил со света.
Вот искусство прежних лет!
Нынче ж пусто, худо:
Стал бесчувственен поэт —
Куда ему до чуда!
ЙОУНАС ХАДЛЬГРИМССОН. Перевод В. Тихомирова.
Йоунас Хадльгримссон (1807–1845). — В годы учении в Копенгагенском университете был одним из издателей журнала «Фьолнир», ставившего перед собой цель обновить язык исландской литературы, пробудить национальное чувство.
Йоунас Хадльгримссон — мастер формы, обновитель поэтического языка, певец исландской природы. Посмертно, в 1847 и 1913 годах, были изданы его «Стихи», в 1883 году — «Стихи и другие произведения».
ОСТРОВОК ГУННАРА[132].
[132].
К земле склонилось летнее светило
И серебристо-голубой ледник
На Эйяфьятле златорасцветило.
С востока смотрит он, огромнолик
И седоглав, и погружен в небесный
Морозно-ясный синевы родник.
Там тешит ревом водопад злобесный
Слух Фьялара и Фрости[133], духов горных,
Хранящих в скалах клад златочудесный.
Напротив них застыл отряд дозорных
Отрогов Тинда[134] — зеленью лугов
Обшит подол плащей иссиня-черных;
На лбы надвинув шишаки снегов,
Они глядят, как Ранга[135] по долине
Струится бирюзой меж берегов,
Где хутора на каждой луговине
Среди угодий, выгонов и пашен.
А с севера сверкает трехвершинье
Ледовой Геклы; вид вулкана страшен;
Заключены за каменным порогом
Огонь, и смерть, и ужас в недрах башен;
Но над чернобазальтовым чертогом
Прозрачно-чист зеркальный небосвод.
Оттуда вид чудесный: по отлогам
Долины, где грохочет Маркарфльот,
По берегам и на холмах покатых
Лежат поля и радостно цветет
Покров зеленый сеножатв богатых —
В траве цветы, как россыпь желтых звезд.
Высматривает рыб на перекатах
Орлан златокогтистый; пестрый дрозд
Мелькает меж берез; и чистым звоном
Горит рябины красноспелый грозд.
Два всадника спускаются по склонам
От хутора нагорного туда,
Где волны разбиваются со стоном,
Где и в затишье не тиха вода,
Где отмели песчаной с океаном
Извечна беспобедная вражда;
Там конь морской, зачаленный арканом,
Их ждет, высокобокий, на мели,
Уставясь вдаль окованным бараном.
От берегов родительской земли
В изгнанье два всеземнознатных брата
От суши, на которой возросли,
Должны уплыть, скитаться без возврата
В чужих краях, — так порешил закон,
Судом суровым их судьба заклята.
Вот первый выезжает на уклон —
Из Хлидаренди[136] Гуннар, горд и строен,
С секирою в руке; за ним вдогон
Второй на красно-гнедом — ладно скроен,
Красив, и меч сверкающий при нем,—
Могучий Кольскегг[137], многославный воин.
Так едут братья до реки вдвоем;
Помчат их кони врозь от переправы:
Поскачет к морю Кольскегг на своем,
А Гуннар на своем — навстречу славы,
Домой, туда, где каждый шаг опасен,
Где смерть близка и недруги лукавы.
«Не замечал я прежде, сколь прекрасен
Зеленый холм, на нем овец ватага,
Как нивы желты, а шиповник красен.
Что жизни даст мне бог — приму за благо;
Я остаюсь! Прощай же, в добрый час,
Мой друг и брат!» — Так повествует сага.
Да! Гуннару страх смерти не указ —
Ему ли жить без родины, без чести!
Враги жестоки, и на этот раз
Его поймали в сети кровомести.
О, Гуннар мой, о, мой любимый сказ,
Не чудо ли, что там, на прежнем месте,
Как островок, на вымершей равнине
Цветет зеленый Гуннарсхольм[138] поныне!
Там всю долину полая вода
Песками покрывает ежегодно,
И с грустью видит древних гор гряда,
Что дол погиб, что горе безысходно,
Что троллей нет, что гномов нет следа,
Что люди слабы, что земля бесплодна…
Но этот холм цветет, и тучны травы —
Здесь Гуннар повернул навстречу славы.
ПРИВЕТ.
Блаженный юг сегодня ветром нежным
Над морем веет, волны погоняя туда,
Где дом мой, где земля родная,
К родимым долам и холмам прибрежным.
О! мой привет приютам безмятежным,
Да будет свят покой долин и взгорий;
Целуйте, волны, челн рыбачий в море,
Прильни, о ветер, к щечкам белоснежным.
И ты, гонец весны, к родным местам
Лети, мой пестрокрылый, в поднебесье,
На север лето песнями зови;
А если встретишь ангелочка там
В шапчонке с кистью, в домотканой пейсе,
Пропой, о дрозд, привет моей любви.
КРИСТИАН ЙОУНССОН.
Кристиан Йоунссон (1842–1869). — Родился в семье бедного фермера, был сельскохозяйственным рабочим. Начальное образование получил дома, самостоятельно изучил датский, шведский, английский, немецкий языки и литературы. Стихи поэта обратили на себя внимание, и ему удалось поступить в высшее учебное заведение. Сборники его стихов публиковались в 1872, 1890 и 1911 годах.
КАТАРАКТ[139]. Перевод В. Тихомирова.
[139].
Ни единый цветок-солнцелюб
Не проснется у серых скал,
Где с уступа летит на уступ
Пенный, гневно ревущий вал,
Где ты, старче, поешь, гремишь
Нескончаемый страшный сказ
И утесы дрожат, что камыш
На ветру в предвечерних! час.
О героях поёшь ты быль,
О делах старопрежних лет,
И о том, как свободу повергли в пыль,
И о том, как славы померк свет.
Но над тобою закат, как встарь,
Сквозь облака струит багрец,
И радужны струи твои: ты — царь,
И радужной иеной горит венец.
Из всех водопадов прекраснейший, ты
Непостижимо прекрасный поток!
Страшно паденье твое с высоты
В пустыне, где скалы, где ты одинок.
Все преходяще: радости луч
В сердце сменится скорбной мглой,—
Лишь ты неизменен, светел, могуч,
С высот ниспадая, ревешь над землей.
Вскипает прилив у подводных камней,
Вихрь обрывает роз лепестки,
Уходит радость летних дождей,
Приходит время зимней тоски.
Слезы текут, по морщинам струясь,
Покоя не ведает человек,—
В твоем же потоке струится, смеясь,
Жизнь, что не может сгинуть вовек.
Мне бы в пучине твоей уснуть;
В час, когда смерть не смогу обороть,
Когда проводят в последний путь
Мою неживую, недвижную плоть,
Когда земля меня залучит
И слезы будут в глазах у всех,
Пусть надо мной тогда прозвучит
Твой безумно-ликующий смех!
СТЕЙНГРИМУР ТОРСТЕЙНССОН. Перевод В. Тихомирова.
Стейнгримур Торстейнссон (1831–1913) — поэт и прозаик. Изучал филологию в Копенгагенском университете. Занимался преподавательской деятельностью. Много переводил. Стихи его печатались сборниками в 1881, 1893, 1910 и 1925 годах.
НАД МОРЕМ.
Глядел я с утеса, где вечен прибой,
В сутемные дали,
И, в пене вздымаясь, валы подо мной
Тяжко вздыхали.
И плакал туман, и отзывно скала
Стонала, как море.
Немотная мгла берега облегла,
Как смерть пли горе.
«Ты, море, вместилище вихрей и гроз,
Поешь заунывно,
И сердце мое, как прибрежный утес,
Стонет отзывно.
Мой дух изнемог, слыша голос тоски,
Бессильной угрозы;
И брызги твои солоны и горьки,
Как горькие слезы.
Глаза воспаленны, и сердце горит,
Исполнено горем,
И сам я готов, как ребенок,
Навзрыд плакать над морем».
Но море метнулось к вершине скалы,
Забыв о печали,
И гневно взревели на воле валы,
И мне отвечали:
«Ты, смертный, ничтожен! И в бурю и в штиль
Ты — прах перед морем.
Что слезы? Как я, ты себя пересиль —
И властвуй над горем!»
ПЕСНЬ ЛЕБЕДЯ НАД ВЕРЕСКОВОЙ ПУСТОШЬЮ.
Я охал летним вечером
По вересковой пустоши.
Мой путь был долог и уныл,
Но вдруг прекрасный звук поплыл
По вересковой пустоши.
Светились горы вдалеке
Над вересковой пустошью.
Песнь лебедя, святой хорал —
Он для меня в пути звучал
Над вересковой пустошью.
Отозвалась моя душа:
Над вересковой пустошью
Летел вперед я на копе,—
Часы летели, как во сне,
Как лебеди над вересковой пустошью.
МАТТИАС ЙОХУМССОН.
Маттиас Йохумссон (1835–1920). — Самый выдающийся поэт Исландии второй половины XIX века. Работал в различных жанрах — от псалмов до юмористических стихотворений; писал также драмы. Главное место в его творчестве занимают стихи на исторические темы. Маттиас Йохумссон обогатил исландскую литературу своими переводами Шекспира, байроновского «Манфреда», «Саги о Фритьофе» Э. Тегнера. С 1900 года поэт получал от исландского правительства пенсию за литературную деятельность. Сборник «Стихи» вышел в 1884 году, в 1902–1906 годах были изданы его произведения в пяти томах, в 1915 году — «Избранное».
ЭГГЕРТ ОЛАФССОН[140]. Перевод И. Бочкаревой.
[140].
И на небо мгла, и на море волна,
И над фьордом зыбкая муть.
Это он, это Эггерт Олафссон
Из Скора пускается в путь.
В ту пору старик у моря сидел,
В глазах его старых — страх.
Он Эггерту Олафссону сказал:
«Неладно, глянь, в небесах».
«Не по небу я, по воде плыву,—
Ответил ему герой,—
Я верую в бога, не в чертовню,
И ветер люблю штормовой».
И, прочь уходя от воды,
Старик молвил тогда ему:
«Ты держишь на юг, но ты придешь
К господу самому».
Это он, это Эггерт Олафссон
Из Скора пускается в путь.
Он сам у руля — заставь-ка его
Сдаться и вспять повернуть!
Шторм бушевал, но лодку свою
Повел он, неустрашим.
Вихрем у борта птицу несло,
Что из Скора летела за ним.
Его молодая жена сидит,
Она смертельно бледна:
«Господи боже, до самых небес
Эта крутая волна!»
«Зарифить парус!» — крикнул герой.
Но Рок проворней людей:
Волна над скамьями нависла — и вмиг
Смыла людей со скамей.
Это он, это Эггерт Олафссон!
В дикий ревущий вал,
В Брейдафьорд навсегда погрузился он
И жену в объятьях держал.
«Это он, это Эггерт Олафссон,—
Вскричал дух нашей страны,—
Эггерт достойней скорби моей,
Чем другие мои сыны».
Если на небе мгла, и на море волна,
И над фьордом тьма — до сих пор
Горестный плач раздается здесь,
У холодной пристани Скор.
ГИМН ТЫСЯЧЕЛЕТИЮ ИСЛАНДИИ[141]. Перевод В. Тихомирова.
[141].
О бог земли, земли господь! —
Мы имя святое, святое поем.
Вкруг солнца горят легионы веков
В ореоле небесном твоем.
И день для тебя — будто тысяча лет,
И тысяча лет — будто день,
И вечность — в холодной росе первоцвет —
Перед богом ничтожная тень.
Исландии тысяча лет! —
Но и вечность — в холодной росе первоцвет —
Перед богом ничтожная тень.
Помилуй, боже, и прими
Как жертву молитву, молитву сердец,
Тобою горящих века и века,
Наш господь, наш отец и творец.
Тебя славословим мы тысячу лет,
Ибо ты сохранил нас в веках,
Тебя славословим и чтим твой завет,
Ибо жизнь наша в божьих руках.
Исландии тысяча лет! —
Но и это всего лишь холодный рассвет,
Первый солнечный луч в облаках.
О бог земли, земли господь! —
Мы тленны и слабы, как слабы цветы,
Мы вянем, утратив твой дух и твой свет,
Нас от тленья спасаешь лишь ты.
О! пошли нам поутру живительный свет,
В полдень — силы, чтоб жить и цвести,
А под вечер — твой мир, и любовь, и привет,
Да поправятся наши пути!
Исландии тысяча лет! —
Осуши наши слезы, пошли нам расцвет,
Укажи в царство божье пути.
ТОРСТЕЙДН ЭРЛИНГССОН. Перевод В. Тихомирова.
Торстейдн Эрлингссон (1858–1914). — Поэт, журналист. Его перу принадлежат стихи бунтарско-сатирического содержания, в которых поэт выступает против церкви и власти денег; писал также лирические стихи. В последние годы жизни получал от правительства пенсию за литературную деятельность. В 1897 году вышел его сборник стихов «Шипы».
НАСЛЕДСТВО.
Народ ваш и вправду безжалостно тверд,
И каждый воитель, наверное, горд,
Влача за собою из битвы
Того, кто ослаб, защищая свой дом,
Кто жил на свободе, а тут стал рабом,
Добычей военной ловитвы.
Сияньем побед озарен ваш чертог,
И пленник в оковах, ступив на порог,
Падет на колени, — и пенный
Сладимей вам кубок, чем горше ему,
И ярче ваш праздник, чем глубже во тьму
Душой погружается пленный.
Но кровь, что кипит в непокорных сердцах
Народа, влачащего рабство в цепях,
Кричит об отмщении скором.
Вас память осудит, — взгляните, вокруг
Пустыня, разруха — дела ваших рук,—
И слава затмится позором.
Оковы и цепи раба не согнут,
Пускай высекает безжалостный кнут
Горячую кровь, — этим средством
Его не удастся смирить никогда,
А ваши потомки сгорят со стыда,
Владея позорным наследством.
ДОГОВОР.
О, если не страшат тебя
Ни дьявол, ни смерть,
Когда трещит по швам сама
Небесная твердь,
Когда вскипает целый мир
Смертельной борьбой,—
Я буду эту песню петь
Вместе с тобой.
И если ты клянешь в оковах
Деспота гнет,
Когда ему толпа трусливо
Славу поет,
Когда любовь он попирает
Тяжкой стопой,—
Проклятье деспоту! — скажу я
Вместе с тобой.
И если славишь ты того,
Кто в недрах темниц
Смеется, перед палачом
Не падает ниц,
Кто и на казнь, в последний путь,
Идет, как на бой,—
Героя буду славить я
Вместе с тобой.
И если жаждешь ты познать
Все тайны миров
И превзойти букварь природы
С самых азов,
Чтоб самому сыскать ответ
К загадке любой,—
Я прочитаю эту книгу
Вместе с тобой.
И если ты решишься в бурю
Вывести челн,
Хоть и не знаешь, что найдешь
Средь пагубных волн,
И не страшат тебя ни камни,
Ни волнобой,—
Высокий парус подниму
Я вместе с тобой.
И если ночь тебя настигнет
В бурной дали,
Когда не видно ни челна,
Ни волн, ни земли
И ты в кромешной тьме один,
Глухой и слепой,—
К тебе на помощь я приду,
Я буду с тобой!
ИСПАНИЯ.
МАНУЭЛЬ ХОСЕ КИНТАНА.
Мануэль Хосе Кинтана (1772–1857). — Поэт, драматург, общественный деятель. Участвовал в войне за независимость против наполеоновского вторжения (1808–1814 гг.); после реставрации Бурбонов был за пропаганду конституционалистских идей заключен в крепость Памплоны на шесть лет. В годы революции (1820–1823) был избран в парламент, занимал высокие государственные посты. В 1823–1828 годах находился в ссылке. Со временем либеральные воззрения Кинтаны изменились, он стал воспитателем королевы Исабеллы II (которая в 1855 г. увенчала его лавровым венком) и вполне официальным поэтом.
Литературную деятельность Кинтана начал пятнадцати лет под влиянием сентименталистской французской поэзии. Расцвет его поэтического творчества совпадает с эпохой войны за независимость, когда Кинтана стал крупнейшим политическим поэтом страны. Выступал в жанре оды («К морю», 1802; «Хуан Падилья», 1808; «На изобретение книгопечатания», 1808, и др.). Писал также прозу; в юности много занимался драматургией, разрабатывая главным образом национально-патриотическую тему.
ИСПАНИИ, ПОСЛЕ МАРТОВСКОГО ВОССТАНИЯ[142]. (Фрагмент). Перевод С. Гончаренко.
[142].
Война! Война, испанцы! Древний Бетис[143]
Зрит, как Фернандо Третьего[144] восстала
Святая тень. Свое чело подъемлет
В Гранаде наш божественный Гонсало[145].
Уж Сидов[146] меч врагу являет жало,
Уже неустрашимый сын Химены
Над Пиренейскими хребтами
Могучие свои расправил члены.
В досаде хмурясь, гневными очами
Глядят на нас герои, источая
Отвагу, что была заточена
В холодной мгле гробниц их достославных,
И яростно взывают к нам: «Война!»
Так что же вы?! Взираете спокойно,
Как топчет ненасытный супостат
Богатство нив, добытых нами в войнах,
Завещанных вам сотни лет назад?
Проснись, народ героев! И к победе
Тори стезю и будь, как мы, бесстрашен!
Пусть предков имена затмят потомки,
И в вашей славе пусть померкнет наша!
Напрасно ли алтарь отчизны милой
Наперекор препонам всем
Воздвигла мощь испанской нашей длани?
Клянитесь же: «Умрем на поле брани,
Но не наденем деспота ярем!»
И я клянусь вам, праведные тени!
И чувствую, как рушатся сомненья!
Вручите ж мне копье священной мести,
Опояшьте яростным мечом;
В кровавый бой ворвусь я с вами вместе!
Пусть только трус, не ведающий чести,
Во прахе пресмыкается червем.
И может быть, что в яром токе брани,
Пучиной битвы поглощен,
Исчезну я. Так что же! Разве дважды
Дано нам умирать? И разве я
Не с избранными встречусь в лучшем мире?
Я им скажу: «Отцы испанской славы!
Узнайте же, что ваш родимый край
Один в подлунной, павшей на колена,
Восстал в крови, освободясь от плена,
И, одолев несчастный жребий свой,
Дарует вновь поверженной вселенной
Священный герб и скипетр золотой».
АНХЕЛЬ ДЕ СААВЕДРА, ГЕРЦОГ РИВАС. Перевод М. Донского.
Анхель де Сааведра, герцог Ривас (1791–1865). — Крупный поэт и драматург романтической школы. В молодости был убежденным либералом и участвовал в Войне за независимость; одиннадцать раз был ранен. В годы революции был избран депутатом парламента, голосовал за свержение короля. Приговоренный за это к смертной казни, поэт бежал в Гибралтар, жил на Мальте, в Англии и Франции. После амнистии вернулся в 1834 году на родину, позднее занимал высокие государственные посты.
Писать стихи А. де Сааведра начал в раннем возрасте под влиянием патриотической традиции; поворот к романтической поэзии произошел у него в период эмиграции (стихотворение «Изгнанник»); наиболее значительные произведения в лирических жанрах приходятся именно на этот период. Работал также в жанре драмы; создал ряд стихотворений-легенд на сюжеты национальной истории (сб. «Исторические романсы», 1841).
ХРИСТОФОР КОЛУМБ.
Беснуется бескрайний океан,
Встают валы, подобны горным кручам,
И злобно завывает ураган,
Столбы смерчей вздымая к черным тучам;
Мечтою горделивой обуяй,
Не устрашенный хаосом кипучим,
Плывет корабль. Он мал и слаб, — пусть так,—
Зато над ним испанский реет флаг!
Сжимает мощною рукой кормило,
На запад устремив орлиный взор,
Тот, избранный, чья воля укротила
Неукротимо-яростный простор;
Нездешняя руководит им сила,
И, слабости людской наперекор,
Уверенность вселяет всем он в души:
Достигнет судно вожделенной суши.
И сбудется! Упорству корабля
Разгул стихий противится напрасно…
Заря зарделась… Кормчий у руля
Встречает то, чего желал так страстно,
Победным кличем: «Вот она — земля!»
А небо, море и земля согласно
Гремят ему торжественно в ответ:
«Вот он — Колумб, открывший Новый Свет!»
ВЕРНЫЙ СПОСОБ.
Имей тщеславья много, знаний — мало,
Безусым недоучкой-адвокатом
Явись в Мадрид и стань вралем завзятым:
Болтай, знакомься, хвастай — для начала.
Пиши статьи для бойкого журнала,
Льсти беднякам и лезь в друзья к богатым;
Очки втирая людям простоватым,
В кофейнях проповедуй что попало.
Глядь — ты советник! Глядь — прошел в кортесы!
Ты держишь нити всех хитросплетений,
Сам удивлен своим подъемом быстрым.
Блюди, как встарь, свои лишь интересы,
Не знай ни совести, ни убеждений —
И скоро станешь первым ты министром.
ХОСЕ ДЕ ЭСПРОНСЕДА.
Хосе де Эспронседа (полное имя — Хосе де Эспронседа-и-Дельгадо, 1808–1842). — Крупнейший из романтиков революционного крыла в Испании. Еще тринадцатилетним гимназистом начал писать стихи и одновременно вступил в революционный кружок «нумантинцев», за что попал и заключение; с 1823 по 1826 год просидел в монастыре. Участвовал в пропаганде республиканских идей, сотрудничал в мятежных изданиях. С 1826 года вынужден был эмигрировать, жил во Франции, где познакомился с деятелями французского романтизма. На родину Эспронседа вернулся в 1833 году. В заключении он начал писать в духе классицизма трагедию в октавах «Пелайо», но не закончил ее. Следующий период его жизни проходит под знаком романтизма. При этом его больше тянуло к крупной форме (поэма «Саламанкский студент», 1839, и поэма «Мир-дьявол», 1840–1841, оставшаяся незаконченной) на сюжеты национальных легенд или — в духе Байрона — на абстрактно-философские темы. Лирические стихи Эспронседы составили сборник «Стихи» (1840), их довольно мало. Поэт обращается к традиционным тогда уже темам отчаяния и меланхолии («К Харифе»), апокалипсическим видениям гибели мира («Гимн Солнцу»), прославляет павших в революционной борьбе друзей («На смерть Торрихоса и его товарищей», «На смерть Хоакина де Пабло»).
ХАРИФЕ ВО ВРЕМЯ ОРГИИ. Перевод Э. Левонтина.
Подойди ко мне, Харифа,
Прикоснись ко лбу рукою,
Накален он огневою
Лавою страстей земных!
Пусть к губам прижмутся губы,
Пряной сладостью волнуя,
И вдохну я поцелуи
Всех возлюбленных твоих!
Что мне честь и добродетель!
Что мне правда, нежность, ласки!
Это все — из детской сказки,
Сон далекий, золотой!
Дай вина мне! Утоплю я
В нем свои воспоминанья,
Жизнь бежит, текут желанья,
Лишь в гробу найду покой…
Сердце жаркое трепещет…
Алой кровью напоенный,
Взор блуждает воспаленный,
Обжигает щеки пот…
Руки ты сплела с моими,
Взором сердце мне пронзила,
Холод проникает в жилы,
И твои лобзанья — лед.
Все вы, женщины, банальны!
Мне — всегда иного надо:
Новых ласк, другой услады,—
Иль будь прокляты они!
Ваша красота — уродство,
Поцелуи ваши лживы,
Вместо счастья принесли вы
Мне страдания один!
Я хочу любви и славы,
Неземного наслажденья,
Что одно воображенье
Может мне дарить порой…
Но настойчиво денница
Манит сладостною ложью,
И меня по бездорожью
Проводник ведет слепой…
*
Зачем не знает сердце упоенья,
И я во власти муки нечестивой,
И не покой души, а отвращенье
Я чувствую, бессильный и ленивый?
Зачем порою все ж меня тревожит
Какое-то неясное желанье?
И не пойму я: это сон, быть может,
Неверных ласк пустое обещанье!
Зачем же предаваться мне обманам,
Давать в душе приют надежде вздорной?
И почему о призраке туманном
Мечтает сердце глупое упорно?
Что, если, пробудясь, не сад счастливый
Увидишь ты, а мерзость запустенья,
Где все живет страстишкой похотливой,
Где нет любви, а только гниль и тленье?
Я на крылах фантазии кометой
Летал везде, я проносился всюду,
Искал мой разум беспокойный света,
Желал победы, радости и чуда!
И я стремил полет неукротимый
Туда, далеко, в беспредельность мира,
Но встретил там, сомненьями томимый,
Одни лишь волны зыбкого эфира!
Зачем добра и славы исступленно
Искал я на земле! И горько стало,—
Повсюду я видал лишь прах зловонный,
Да черный шлак я находил, усталый!
И женщины, сияя чистотою,
Воздушными созданьями казались,
Но только прикасался к ним рукою,
Как в злобных дев они преображались!
Мечты я в прах развеянными видел,
Желанье — ненасытно, как и было!
Я, жизнь познав, ее возненавидел,
Я верю лишь в спокойствие могилы!
А сердце жаждет наслаждений страстно,
Любви и счастья ищет в мире жадно,
Но голос вдруг доносится ужасный:
«Умри! Уйди из жизни безотрадной!
Умри, несчастный! Твой удел — терзанья!
Во власти ты сомнений бесконечных.
Нет на земле высокого дерзанья,
Есть только схватки честолюбий вечных.
Да поразит господняя десница
Того, кто по просторам шел бескрайным,
Того, кто к мудрой истине стремится,
Ища пути к непостижимым тайнам!»
*
Не хочу отныне ведать
Ни восторгов я, ни боли,
Мне страстей не нужно боле,
Сердце хочет отдохнуть.
Прочь, любовь! Сокрыли где-то
Счастье сумрачные дали.
И ни радость, ни печали
Не волнуют больше грудь!
*
О хаосом рожденный сонм видений!
Лети к другим, обманывай других!
Вы, лаврами увенчанные тени,
Прочь от меня! Пленяйте молодых!
О вы, прелестницы! Пройдите мимо,
Не расточайте тщетно ваших чар!
Неситесь, словно вихрями гонимы,
Исчезните, развейтесь, словно пар!
Разгульный пир глаза мои туманит,
Звон хрусталя, и голова в огне…
И ночь бежит! И день меня застанет
В тяжелом, словно летаргия, сне!
*
Оба страждем мы, Харифа!
Слез не льешь ты, дорогая,
Но глядишь печально, зная,
Как терзаюсь я, скорбя!
Боль одна у нас с тобою!
Плачь, любимая! Пойми ты —
Сердце у меня разбито,
Как разбито у тебя!
ПЕСНЬ ПИРАТА. Перевод П. Грушко.
На бортах — по десять пушек,
Паруса под ветром свежим
Над морским царят безбрежьем
Бригантину вдаль несут.
На носу — корсар суровый,
Нареченный кличкой «Дьявол»,
Нет морей, где он не плавал,
Правя свой пиратский суд!
За кормой луна мерцает
Серебром на зыбкой сини,
Стонет ветер в парусине,
Беспокоен волн разгул,
Слева берег европейский,
Азиатский берег справа,
И поет разбойник браво,
Грозно глядя на Стамбул:
«Парус мой, пари в лазури
Голубой!
В море ни враги, ни бури,
Ни томительные штили
Путь тебе не преградили,
Верх не взяли над тобой!
Двадцать бригов
Мы отбили
У флотильи
Англичан,
Мне несли
Свои знамена
Для поклона
Сотни стран.
Мне корабль — дороже злата,
Грозный ветер — мне судья,
Воля — божество пирата,
В море — родина моя.
За клочок земли далекой
Короли
В битве сходятся жестокой.
Я — владею невозбранно
Всею ширью океана,
Где бессильна власть земли.
Не найти
Такого порта,
Замка, форта,
Где бы враг
Стал палить
Себе на горе,
Видя в море
Черный флаг.
Мне корабль — дороже злата,
Грозный ветер — мне судья,
Воля — божество пирата,
В море — родина моя.
Только крик раздастся: „Судно!“
Видит бог,
От корсара скрыться трудно:
Я — монарх державы этой,
Убегаешь — не посетуй:
Приговор мой будет строг.
Все добытое
На месте
Честь по чести
Я делю,
Лишь красавицей
Делиться
Не годится
Королю.
Мне корабль — дороже злата,
Грозный ветер — мне судья,
Воля — божество пирата,
В море — родина моя.
Присужден властями втуне
Я к петле.
Верю я моей фортуне!
А судью — не пожалею,
Вздерну я его на рею
У него на корабле.
Не страшится
Смертной доли,
Кто в неволе
Пожил всласть,
Кто однажды
Сбросил путы,
Казни лютой
Не боясь.
Мне корабль — дороже злата,
Грозный ветер — мне судья,
Воля — божество пирата,
В море — родина моя.
Всех напевов мне милее
Норда рев,
Треск снастей и скрежет реи,
Завывание стихии,
Черных волн грома глухие,
Грозный гул моих стволов!
Что мне грохот
Небывалый,
Буря, шквалы,
Ветра стон,—
Под тайфуна
Свист разбойный
Я спокойный
Вижу сон.
Мне корабль — дороже злата,
Грозный ветер — мне судья,
Воля — божество пирата,
В море — родина моя».
ХОСЕ СОРРИЛЬЯ.
Хосе Соррилья (полное имя Хосе Соррилья-и-Мораль, 1817–1893). — Поэт и драматург. Учился медицине в университетах Толедо и Вальядолида, по врачебной практикой не занимался. Начал публиковать стихи в 1836 году («К Эльвире»); несмотря на популярность (в 1889 г. он был даже увенчан лавровым венком национального поэта), Соррилья всю жизнь бедствовал. Наследие его обширно и, помимо лирики, включает драмы, эпические поэмы («Мария», 1849; «Легенда о Сиде», 1882) и мемуары. В 1846 году Соррилья отправился во Францию, где завязал дружеские отношения с Гюго, Жорж Санд, Мюссе и Готье. Позднее он предпринял длительное путешествие в Латинскую Америку. Большая часть лирических стихотворений Соррильи вошла в сборники «Стихи» (т. 1–8, 1837–1840) и «Песни трубадура» (т. 1–3, 1840–1841). Романтическая направленность его поэзии предопределила основную тематику творчества — историческое прошлое и слава страны. Обычно выделяют так называемые «восточные» стихотворения Соррильи, посвященные периоду реконкисты (отвоевания у мавров захваченных ими испанских земель), как наиболее интересную часть его наследия.
«Долиною скачут рысью…». Перевод Б. Слуцкого.
Долиною скачут рысью
К воротам Гранады прямо
Четыре десятка всадников
Во главе с капитаном.
Едва только въехав в город,
С коня не спешившись даже,
Он к женщине обратился,
В его объятьях рыдавшей:
«Вытри глаза, христианка,
Не мучь меня, говорю я,
Тебе, моей султанше,
Новый Эдем подарю я.
Дворец мой здешний в Гранаде
Сады окружают с цветами,
И сотня бьет водометов
Из золотого фонтана.
Над Хенилем[147] башни взлетели —
Моя цитадель другая,
Что все превзойдет цитадели,
Твою красоту сберегая.
На все берега морские
Владенья мои простерты.
Ни в Кордове, ни в Севилье
Нет парка, моих просторней.
Там вместе с горящим гранатом
И горы и дол осеняют
Смоковницы с пальмой рядом,
Что тихо плоды роняет.
И там же тутовник тенистый
С орехами вместе стальными
Растут над речушкой чистой
Под стенами крепостными.
Там вязовая аллея,
Что кронами твердь пробивает;
Там, в шелковых сетках белея,
Мне птицы мои распевают.
Дворец тебе будет не тесен
С его покоями всеми.
Как скучно ушам без песен,
Без женщин скучно в гареме.
О, будь твоя добрая воля,
О, если султаншей ты будешь,
Восточные благовонья,
Кашмирские шали получишь.
Я дам тебе белые перья —
Чело ты ими украсишь,
Они белее пены
Морей восточных наших.
Ты жемчуг в волосы вденешь,
Ты в банях будешь греться.
Колье ты получишь на шею,
Любовь ты получишь для сердца».
«Мне тошно с твоими дарами,—
Ответила христианка,—
С отцом разлучил, с друзьями,
Увез из родимого замка.
Верни мне семейное лоно,
Друзья ведь меня не забыли;
Дороже мне башни Леона,
Чем гранадское изобилье».
Слеза покатилась из глаза,
Мавр затеребил бородку
И медленно и не сразу
Сказал спокойно и кротко:
«Дороже тебе твои замки
Всех наших дворцов доныне,
Цветы твои наших душистей
Лишь потому, что родные.
Из множества выбирая,
Ты рыцарю сердце вручила.
Не плачь же, гурия рая,
Тебя удержать я не в силах».
Он половину гвардейцев
С конем своим вместе ей отдал
И, отошедши в сторонку,
Ни слова больше не молвил.
* * *
«Делать нечего, Диего…». Перевод А. Голембы.
«Делать нечего, Диего,
Мой отец узнал, что в доме
Побывал мужчина, значит,
Честь мою вы замарали
Здесь, в моей опочивальне.
Но бесчестье лечат честью:
Станьте мне законным мужем
Иль забудьте обо мне».
И взглянул тогда Диего
Ей Мартинес прямо в очи
И, отбросив все увертки,
Произнес слова такие:
«Через месяц, дорогая,
Я во Фландрию отправлюсь,—
Через год, с войны вернувшись,
Под венец с тобой пойду.
Чести ты, Инес, лишилась,
Но пятно я смою честью,
Ибо честные идальго
Возвращают честь за честь».
«Поклянись!» — вскричала дева.
«Мое слово стоит больше,
Чем любые в свете клятвы».
«Ах, Диего, слово — ветер!»
«До чего же ты упряма!
Клятву я даю — и хватит!»
«Ну а мне не хватит: клятву
Ты во Фландрии забудешь».
«Господи! Чего ж ты хочешь?»
«Я хочу, чтобы смиренно
Пред распятьем дал ты клятву,
Перед образом Христовым».
Побледнел тогда Мартинес,
Но Инее, не уступая,
Отвела его в господень
Храм, что посреди долины.
В божьем храме том распятье,
Иисус в венце терновом,
Бледный, слабый, изможденный,
Исходящий темной кровью.
Пред распятьем этим, в древнем
Храме посреди долины
Горести свои и беды
Все толедцы изливают.
И к святым стопам Христовым
Подошли идальго с девой,
И она ему велела
Прикоснуться к пальцам божьим
И спросила: «Ты клянешься,
Что меня возьмешь ты в жены,
Как вернешься из похода?»
«Да, клянусь!» — ответил воин.
Дни и месяцы проходят,
Пронеслось уж больше года,
Но Диего не приходит…
Путь в Толедо не приводит
Из фламандского похода.
Плачет бедная Инес,
Возвратиться молит тщетно,
У распятья ждет чудес,
Где повеса из повес
Прикоснулся неприметно.
В час закатного багрянца
Всё она приходит в храм
И у бога просит там
Возвращения испанца,—
Пусть с войны вернется сам!
Тщетно у духовника
Дева просит исцеленья,
Ведь разлука ей горька…
Глохнут речи старика,
От любви же нет спасенья!
В золотистости картинной
Тихий час, приятный вид:
Меркнет небо над долиной,
Вьется Тахо лентой длинной,
Со стены Инес глядит.
Увидала — вдалеке,
В буром мареве тревоги
Иль в туманном молоке,
Парни, — и не налегке,—
Пыль взметают на дороге.
Вот Инее спустилась с башни,
Взор ее насторожен;
И, в смятенье невсегдашнем,
Мчится в платьице домашнем
Вдаль, к воротам Дель-Камброн.
Там, надменней всех вдвойне,
Краше всех в проеме узком,
Всадник на лихом коне,
На арабском скакуне,
Иноходце андалузском.
«Дьего!» — крикнула Инес,
В стремя впившись и рыдая;
Но повеса из повес
Молвил: «Я тебя не знаю!
Кой тебя попутал бес?!»
Услыхав такие речи,
Чувств и чести лишена,
Наземь рухнула она:
Не могла дождаться встречи,
А теперь опять одна!
Но в те времена в Толедо
По монаршему веленью
Губернаторскую должность
Исправлял старик Дон Педро,
Справедливый и отважный,
Многоопытный правитель,
Сам Руис де Аларкон.
Много лет сей добрый старец
За отечество сражался,
Пусть рука как плеть повисла,
Сердце целое зато!
В гулкой зале — стол судейский,
За столом седые судьи,
Слева — адвокат и сыщик,
Справа — пристав с булавой.
На ковре под балдахином,
Президентом трибунала,
Сам Дон Педро, сам правитель,
Сам Руис де Аларкон;
Слушает он терпеливо,
Как одышливый писака,
Скучный писарь-меланхолик
Апелляцью оглашает.
В зале публика зевает,
Убаюканная чтеньем;
Судьи дремлют, уминая
Складки скатерти камчатой,
И на солнце сушат акты
Писаря второй руки.
Вдруг, в смятении великом,
В залу женщина вбегает,
Горестна, простоволоса,
Очи красные от слез.
Голосом, от стона хриплым,
К справедливости взывает,—
Прямо в ноги к Дону Педро:
«Справедливости, сеньор!»
Обнимает ноги старца,
Молит выслушать. Зеваки
В любопытстве возбужденном
Собираются вокруг.
И учтиво ее поднял
Сам правитель королевский,
Сам Дон Педро, и промолвил,
Усмиряя праздный гомон:
«Женщина, чего ты хочешь?»
«Справедливости, сеньор!»
«Но какой?» — «Большую ценность
У меня украли!» — «Ценность?
Но какую?» — «Очень просто:
Сердце бедное мое!»
«Отдала его ты?» — «Просто
Одолжила!» — «И должник
Не вернул его?» — «Конечно!»
«А свидетелей имеешь?»
«Нет, увы, ни одного!»
«Ну, а было ль обещанье?»
«Было ль?! Господи! Конечно:
Уезжая из Толедо, клятву
Мне принес должник».
«Кто же он?» — «Мартинес, Дьего»,
«Дворянин?» — «Всенепременно,
И к тому же капитан».
«Приведите капитана:
Дворянин, он сдержит слово,
Если клялся». Все затихло,
Только вскоре в коридоре
Стук сапог раздался. Шпоры
Забренчали в такт шагам.
Тут привратник, вздернув полог,
Возвестил прегромогласно:
«Это капитан Дон Дьего!»
И вошел Диего в залу,
И глаза его пылали
Вечной гордостью и гневом.
«Вы ли капитан Дон Дьего?» —
У него спросил Дон Педро.
И, в спокойствии надменном,
Произнес Диего: «Я!»
«Эта девушка знакома
Вам?» — «О да, почти три года,
Ежели не ошибаюсь,
Мы знакомы». — «Вы клялись
Взять сию девицу в жены?»
«Нет!» — «Так, стало быть, клянетесь,
Что и вправду не клялись?»
«Да, клянусь!» — «Ступайте с богом!»
«Лжет!» — воскликнула Инес,
Плача от негодованья
И стыда. — «Подумай, право,
Что твердишь ты?» — «Я твержу,
Что он лжет! Ведь он поклялся!»
«А свидетелей имеешь?»
«Нет, увы, ни одного!»
«Капитан, ступайте с богом
И простите нас за то, что
Мы, облыжно обвинив вас,
Усомнились в вашей чести».
Повернулся тут Мартинес
С грубым удовлетвореньем,
А Инее повесе в спину
Закричала вдруг отважно:
«Позовите вновь Диего,
Вновь его вы призовите,—
Вспомнила я, есть свидетель.
Есть свидетель у меня!»
Капитан вернулся в залу;
Н опять уселся в кресло
Дон Руне де Аларкон;
И улегся в зале ропот,
И, в сознанье прав своих,
Дочь де Варгаса сказала:
«У меня свидетель есть,
Он правдив, и он разумен,
И во всем и вечно прав».
«Кто?» — «Да тот, кто издалека
Каждое словечко наше
Слышал, с высоты взирая!»
«Значит, был свидетель этот
На каком-нибудь балконе?»
«Нет, он там был, где когда-то
Испустил свой дух в мученьях!»
«Значит, мертв он?» — «Нет, он жив!»
«Спятила ты, боже правый!
Кто ж такой свидетель этот?»
«То Христос из Де-ла-Веги,
Тот, пред чьим пресветлым ликом
Некогда Дон Дьего клялся».
И, услышав имя божье,
Судьи встали, с удивленьем
Внемля в зале приутихшем
Апелляции такой.
Изумление и ужас
Стыли в тишине глубокой,
И глаза потупил Дьего
От смущенья и стыда.
Пошептался тут Дон Педро
С судьями. Затем, поднявшись,
Произнес суровым тоном:
«Что ж! Закон — для всех закон.
Твой свидетель самый лучший,
Но лишь трибунал небесный
Может выслушать признанье
От свидетеля такого.
Сделаем, что сможем. Писарь,
В час закатный у Христа,
Что находится в долине,
Отберешь ты показанья».
Вот Христос из Де-ла-Веги
На кресте своем высоком,—
От земли до стоп пронзенных
Чуть поменее аршина.
Подошел к нему судейский
Так, что нос его и брови
Оказалися примерно
Супротив святой груди.
Справа от него — Дон Дьего,
Слева же — Инее де Варгас,—
А поодаль встал правитель
Дон Руис де Аларкон,
За его ж спиною — судьи,
Стряпчие и альгвазилы.
Прочитав не раз, а дважды
Жалобу Инее де Варгас,
Молвил писарь Иисусу
Громким голосом своим:
«Иисусе, сын Марин,
Перед нами нынче утром
Выступил ты как свидетель
Жалобы Инес де Варгас.
Ты клянешься ли, что вправду
Некогда у стоп твоих
Ей принес Диего клятву
В жены взять ее, венчаться
С ней, с де Варгас, по закону?»
И, отстав от деревянной
Перекладины, на акты,
На судейские решенья,
На пергаменты — спокойно,
В отрешенности легчайшей,
Вдруг легла ладонь худая,
Пожелтевшая, сухая;
И, в безмерной вышине:
«Да, клянусь!» — раздался внятный
Голос Богочеловека.
И тогда прильнули взоры,
Отуманены испугом,
К образу святому… Губы
Словно бы зашевелились,
И рука еще дрожала,
Оторвавшись от распятья,
Избывая боль гвоздя.
РОСАЛИА ДЕ КАСТРО.
Росалиа де Кастро (полное имя — Росалиа де Кастро Мургиа, 1837–1885). — Поэтесса и романистка. Болезненный и меланхоличный ребенок, она начала писать стихи в одиннадцать лет. В 1856 году де Кастро вышла замуж за известного историка Мануэля Мургиа, который в течение многих лет уговаривал жену опубликовать ее стихи. Она дала согласие лишь в 1872 году и издала сборник «Галисийские поэмы», что принесло ей мгновенную славу. Позднее Р. Де Кастро опубликовала еще несколько сборников стихотворений — все на галисийском диалекте; только в сборник «На берегах Сара» (1884) вошли стихотворения на испанском языке. Современники особенно ценили в творчестве Росалии де Кастро глубину и свежесть лирического чувства, совершенно чуждого риторики. В XX веке было высоко оценено новаторство поэтессы в области метрики кастильского стиха.
БАСТАБАЛЬСКИЕ КОЛОКОЛА. (Из цикла). Перевод с галисийского А. Гелескула.
«Рано в утреннюю пору…».
Рано в утреннюю пору
Легче козочки, босая
Подымусь по косогору.
Чуть забрезжит на востоке,
Подымусь, чтобы услышать
Первый колокол далекий.
Самый первый, самый милый,
Ранним ветром донесенный,
Чтобы сердце не щемило.
Чтоб не плакала горюче,
Долетит он издалека,
Беспечальный и плакучий.
И, плакучий и дрожащий,
Поплывет зеленым лесом,
Пропадет в зеленой чаще.
И пойдет равниной дальней —
С каждым новым отголоском
Беспечальней, беспечальней.
* * *
«Бродит ветер, ищет брода…».
Бродит ветер, ищет брода.
Снова тучи, только тучи
Завернут в мои ворота.
Мой приют, моя лачуга,
Все ушли, а я осталась —
Ни знакомого, ни друга.
Только в поле подо мною
Светит хутор огоньками —
Я смотрю, а сердце ноет.
………………………….
Время к ночи… В час урочный
Загудели колокольни,
Чтоб молилась Непорочной.
Пусть помолится, кто может,
А меня слезами душит,
А меня все дума гложет,
Не по мне ли зазвонили.
Я тянусь тебе вдогон,
Будто заживо в могиле,
Бастабальский перезвон.
* * *
«Кто мне послал это жало…». Перевод с галисийского Б. Дубина.
Кто мне послал это жало,
В сердце навел острие?
Золотом, сталью, любовью ль — не знаю
Ранили сердце мое.
Рана все глубже, мука — все горше,
Боль неотступна и зла.
Как Магдалина, уснуть не могла я,
Слезы унять не могла.
«Боже мой всемогущий,
Силою награди
Черное жало это
Выдернуть из груди!»
Внял мне господь — и не стало
Муки моей колдовской.
Рана закрылась. Как тихо,
Боже… И странный покой…
Будто не с горем простилась, а с чем-то,
Что поминаю тоской…
Будто случайно к груди прикасаюсь
И забываюсь в слезах…
Господи, кто же поймет это тело,
Дух заключившее в прах?!
* * *
«Спят уже страсти могильными снами…». Перевод с испанского Б. Дубина.
Спят уже страсти могильными снами.
Что же со мною? Не знаю.
Жадный ли червь изнутри меня точит
Или душа моя бредит больная?
Знаю лишь радость я, полную горя,
Знаю то горе, что радует, раня,
Пламя, которое кормится жизнью,
Но без которого жизнь — умиранье.
* * *
«Все, что когда-то было надеждою моею…». Перевод с испанского Б. Дубина.
Все, что когда-то было надеждою моею,
Сегодня провожаю в далекий край закатный:
Помедлим на дороге, душа, простимся с нею
И побредем обратно:
Когда рассвет не в радость, нужнее кров убогий
И темнота вернее.
Оставьте вещей птице гнездо ее родное,
Пусть хищник под землею в покое затаится,
В забвении — унынье, умершее — в гробнице,
А я — в моей пустыне.
* * *
«Землю и небо пытаю с тоскою…». Перевод с испанского Б. Дубина.
Землю и небо пытаю с тоскою,
Вечно ищу и но знаю покоя.
Как я тебя потеряла — не знаю.
Вечно ищу, но ни шагом не ближе,
Даже когда ты мне снишься повсюду:
Тополь задену, камень увижу…
Ни на земле тебя, счастье, ни в небе.
И суждено мне сродниться с потерей,
Даже и веря: не сон ты напрасный,—
Даже и веря!
* * *
«Дремлющие в истоме оттрепетавшей плоти…». Перевод с испанского Б. Дубина.
Дремлющие в истоме оттрепетавшей плоти,
В горе немилосердном павшие на колени,—
Живы людской порукой, где на земле найдете
Вы красоту такую, чтобы не знала тленья?
Атома бестелесней, высей необозримей,
Тайное откровенье, вздох тишины небесной,
— Губы мои не смеют молвить твое имя,
И безутешен разум перед твоей бездной!
ГУСТАВО АДОЛЬФО БЕКЕР.
Густаво Адольфо Бекер (1836–1870). — Крупнейший лирик позднего испанского романтизма. Начал свой путь в литературе журналистом и переводчиком романов. До этого служил чиновником и был уволен с работы за сочинение стихов в служебное время. Первая книга его лирики, «Рифмы», появилась в 1860 году; современники отметили в ней влияние поэзии Гейне. Сборник «Легенды», принес поэту национальную известность. Влияние Бекера на последующее развитие испанской лирики очень велико, и даже поэты нашего столетия, крайне критически воспринимавшие романтическую традицию XIX века, высоко ценили его стихи.
«Всё — выбор слов…». Перевод О. Савича.
Всё — выбор слов, и тем не менее
Вовеки, как сейчас,
С тобой мы не сойдемся в мнении,
Кто виноват из нас.
Любовь со словарем не знается,—
Откуда же узнать,
Где просто гордость, где вменяется
В достоинство она?
* * *
«Подделываясь под явь…». Перевод О. Савича.
Подделываясь под явь,
Как тень пустая,
Впереди желанья идет надежда,
И ложь ее,
Как феникс, встает
Из ее же пепла.
* * *
«Одна из них мне душу отравила…». Перевод О. Савича.
Одна из них мне душу отравила,
Другая — тело; на путях своих
Они меня при этом не искали,
И я совсем не жалуюсь на них.
Земля кругла, ее круженье вечно;
И разве завтра по моей вине
В круженье том же яд других отравит?
Могу ли дать не то, что дали мне?
* * *
«Моя жизнь — пустырем идти…». Перевод О. Савича.
Моя жизнь — пустырем идти:
Опадает все, что срываю;
На моем роковом пути
Кто-то сеет зло впереди,
А я его собираю.
* * *
«Сегодня мне улыбаются земля и небеса…». Перевод М. Квятковской.
Сегодня мне улыбаются земля и небеса.
Сегодня в душе моей солнце, сегодня ушла тревога.
Сегодня ее я видел… Она мне взглянула в глаза…
Сегодня я верю в бога.
* * *
«— Что такое поэзия?..». Перевод М. Квятковской.
— Что такое поэзия? — ты вопрошаешь,
Голубые глаза твои детски чисты.
— Что такое поэзия? Неужели не знаешь?
Поэзия — это ты!
* * *
«Вздохи — всего лишь ветер…». Перевод М. Квятковской.
Вздохи — всего лишь ветер и с ветром по свету бродят,
Слезы стекают в море, ибо слезы — вода.
Открой мне, женщина, тайну: если любовь уходит,—
Не знаешь ли ты, куда?
* * *
«Как чудесно видеть, что восходит…». Перевод Н. Ванханен.
Как чудесно видеть, что восходит
Новый день в сияющей короне,
Поцелуем оживляет волны,
Зажигает свет на небосклоне!
Как чудесно осенью унылой,
В грустный час дождливого заката,
Выйдя в сад с душистыми цветами,
Надышаться влажным ароматом!
Как чудесно в день, когда неслышно
Хлопья снега кружат за дверями,
Видеть, как взволнованное пламя
Золотыми пляшет язычками!
Как чудесно сладко спать, рулады
Выводя, как певчий захудалый.
Есть… Толстеть… И до чего досадно,
Что всего рассказанного — мало!
* * *
«Вчера, сегодня, завтра…». Перевод П. Грушко.
Вчера, сегодня, завтра, — день грядущий
С минувшим схож.
Все тот же горизонт, и небо хмуро,
И ты бредешь…
Как механизм тупой, стрекочет сердце,—
Унылый гул…
Ленивый разум в закоулках мозга
Сомлел, уснул.
Душа понуро жаждет райской жизни
В тщете слепой…
Бесплодная усталость, и без цели
Морской прибой…
Немолчный голос, тянущий все тот же
Печальный звук.
С утра до ночи — монотонных капель
Усталый стук…
Так дни влачатся: где вчера, где завтра —
Не разберешь.
В них нет ни наслаждений, ни страданий, —
Одно и то ж…
Порой со вздохом вспомнишь боль былую —
Как сам не свой
Страдал… По крайней мере, знал, страдая,
Что ты живой!
* * *
«Я не спал, я странствовал по краю…». Перевод Н. Ванханен.
Я не спал, я странствовал по краю,
Где меняют вещи очертанья,
По пространствам тайным, создающим
Между сном и бденьем расстоянье.
Мысли в молчаливом хороводе
В голове без устали мелькали
И, кружась в своем бесшумном танце,
Постепенно танец замедляли.
Отблеск, проникающий снаружи,
Все еще на веках сохранялся,
Но сиял иначе мир видений —
Изнутри он светом озарялся.
Я услышал, словно в дальнем храме
Смутный шум, под сводами разлитый
В час, когда кончают прихожане,
Прошептав «аминь», свои молитвы.
И меня по имени окликнул
Чей-то голос, слабый и печальный,
И запахло сыростью и воском,
Ладаном, потухшими свечами.
Ночь пришла; упав на дно забвенья,
Я заснул; проснулся отчего-то
И вскричал: «Из тех, кого любил я,
Этой ночью, верно, умер кто-то!»
* * *
«Настала ночь, я не нашел приюта…». Перевод Н. Ванханен.
Настала ночь, я не нашел приюта,
Я пить хотел и только слезы пил.
Я голодал и, умереть желая,
Глаза закрыл!
Я был в пустыне! Издали, как прежде,
Густой толпы бурлящий гомон плыл,
А для меня весь этот мир шумящий
Пустыней был!
* * *
«Из жизни, что мне остается…». Перевод Н. Ванханен.
Из жизни, что мне остается,
Я отдал бы лучшие годы:
Узнать бы, что ты говорила
Другим про меня в стороне.
Жизнь эту и ту, что дается
За гробом, — я отдал бы обе,
Чтоб только узнать, как судила,
Что думала ты обо мне.
* * *
«Мы при вспышке молнии родимся…». Перевод Н. Ванханен.
Мы при вспышке молнии родимся
И при той же вспышке умираем:
Краток жизни час!
Ждем любви, за славою стремимся —
Тени сна мы тщетно догоняем:
Смерть пробудит нас!
* * *
«Словно взбудораженные пчелы…». Перевод Б. Дубина.
Словно взбудораженные пчелы,
Что за мною ринуться готовы,
Из потемок памяти крадутся
Тени прожитого.
Отогнать пытаешься — пустое!
Мчатся, кружат рядом, друг за другом
Прямо в сердце метят узким жалом
С бередящим ядом.
* * *
«Цвет обрывает, сыплет листвою…». Перевод Б. Дубина.
Цвет обрывает, сыплет листвою
Ветер бессонный,
И в отголосках где-то далёко
Слышатся стоны…
Там, где блуждают мысли ночные,
В прошлом теряясь, будто в тумане,—
Слышатся стоны, сыплются листья
Воспоминаний…
* * *
«Взгляд ее был неотступен и слезен…». Перевод Б. Дубина.
Взгляд ее был неотступен и слезен,
А мои губы — взмолиться готовы,
Но не дала ей заплакать гордыня,
И не сумел я промолвить ни слова.
Порознь идем; но, быть может, однажды
Вспомнит, что сердце рванулось и сжалось,
И, как твержу себе: «Что же молчал я?» —
Скажет: «Зачем я от слез удержалась?»
* * *
«Гляну в глаза…». Перевод Б. Дубина.
Гляну в глаза —
Будто читаю по книге открытой.
Взгляды не лгут,
Так для чего этот смех нарочитый?
Плачь! Не таись,
Нищенской нежности больше не пряча.
Плачь! Мы одни…
Ты посмотри: я мужчина — и плачу!
* * *
«Заря целует голубое платье…». Перевод С. Гончаренко.
Заря целует голубое платье
Залива, золоченного лучами;
Целует солнце тучу на закате
И одевает в золото и пламя;
Костер, сжимая жаркие объятья,
Ночь напролет целуется с ветрами.
И даже ива льнет к воде, целуя
Ручей, когда ее целуют струи.
* * *
«Если у тебя, у синеглазой…». Перевод С. Гончаренко.
Если у тебя, у синеглазой,
Светится улыбка в ясном взоре,
Кажется мне, будто это блещет
Луч зари в синем море.
Если у тебя, у синеглазой,
Набежали на глаза слезники,
Кажется, что это на фиалке
Вспыхнули росинки.
Если же глаза у синеглазой
В темноте озарены мечтою,
То мечта в очах ее лазурных
Кажется звездою.
* * *
«Волны морские, пенные волны…». Перевод С. Гончаренко.
Волны морские, пенные волны
Бьющего в дикие скалы прибоя,
В саван из пены меня спеленайте,
Унесите с собою!
Буйные ветры, в горном ущелье
Гнущие кроны, яростно воя,
Смерчем и вихрем меня закружите,
Унесите с собою!
Грозные тучи с молнией в чреве,
Громом взорвавшие ночь надо мною,
Волнами мрака меня захлестните,
Унесите с собою!
Унесите, молю я, туда, где стихии
Вылечить смертью мне сердце сумеют.
Унесите, молю! А иначе — что делать
Мне с болью моею?
РАМОН ДЕ КАМПОАМОР. Перевод С. Гончаренко.
Рамон де Кампоамор (полное имя — Рамон де Кампоамор-и-Кампоосорио, 1817–1901). — Один из самых популярных в Испании поэтов-романтиков. Он был избран членом Испанской Академии и занимал высокие посты. Наследие Кампоамора обширно, он пробовал свои силы в разных жанрах. Ему принадлежат эпические поэмы — «Колумб» (1853) и «Всемирная драма» (1869). Лирическое его наследие подразделяют обычно на две части: стихи и басни. Сам Кампоамор придумал собственные жанровые определения для стихов: «юморески», «печали» и «маленькие поэмы». «Что такое юмореска? — писал он. — Намеренная характерность. А „печаль“? Это юмореска, трансформированная в драму. А „маленькая поэма“? Это развернутая „печаль“».
О ПОЛЬЗЕ ГРАМОТЫ.
— Составьте, падре, мне письмо… — Ну что же,
Кому оно, куда,
Я знаю… — Вы нас видели? О, боже!
Той темной ночью? — М-да…
— Простите! — Полно, это прегрешенье
Не редкость: полночь… Он…
Подайте-ка перо. Итак, вступленье:
«Любимый мой Рамон!»
— Любимый?.. Ну, уж раз вы написали…
— Исправить? — Ах, нет, нет!
«О, как мне грустно!» Так? «В какой печали
Я без тебя, мой свет!
В какой тоске пишу тебе я нынче…»
— Всё, падре, так, ей-ей!
— Для старца, дочь моя, душа девичья
Прозрачна, как ручей.
«Мир без тебя — юдоль холодной ночи,
С тобою — райский сон».
— Святой отец! Пишите буквы четче!
Поймет ли мой Рамон?
«— Тот наш рассвет и поцелуй тот сладкий…»
Как догадались вы?
— Коль два влюбленных видятся украдкой,
То, стало быть, увы…
«И если ты не возвратишься снова,
Вконец измучусь я…»
— Измучусь? Вы смеетесь, право слово!
Да я убью себя!
— Как так «убью»? Вздор. Не гневите небо!
— Так: в омут головой!
— Ну, нет… — Вот черствая душа! Эх, мне бы
Знать грамоту самой!
ЭПИГРАММЫ.
«Да, слава — вздор…».
Да, слава — вздор пред вечностью. И все же —
Скажите: есть ли что-нибудь дороже?
* * *
«Что такое любовь?..».
Что такое любовь? Вот ответ без прикрас:
Это целая жизнь, умещенная в час.
* * *
«Как все узнали…».
Как все узнали, что она грешна?
Знать, слишком рьяно молится она.
* * *
«Едва женившись…».
Едва женившись, почему-то то и дело
Он головой жены клянется смело.
* * *
«Разят друг дружку…».
Разят друг дружку люди наповал.
И все зачем? Во имя лучшей жизни!
А в результате на роскошной тризне
Пируют ворон и шакал.
* * *
«Мне жаль тебя…».
Мне жаль тебя, мой бедный друг. Прими мое участье
Несчастный! Говорят, нашел ты в браке счастье!
* * *
«Искусный волокита…».
Искусный волокита знает: иногда
Три тихих «нет» — синоним «да».
* * *
«О том, что жизнь…».
О том, что жизнь — господний дар,
Навряд ли спорить стоит.
Но стоит ли она того,
Чего нам стоит?
* * *
«Я был безумцем…».
Я был безумцем, чтоб мне провалиться,
Сводя с ума безумную девицу!
* * *
«Все прелести твои…».
Все прелести твои благообразно
Пусть защищает платья бастион.
У тайного соблазна свой закон:
Где тайны нет, там не ищи соблазна.
* * *
«На том построен…».
На том построен точный твой расчет,
Что слыть расчетливой сегодня не расчет.
* * *
«Сия эпитафия…».
Сия эпитафия — многим урок:
«Был тем он, кем стал, а не тем, кем бы мог».
* * *
«Любить хладнокровно?..».
Любить хладнокровно? Рассудочно? Дудки!
Кто любит умом — тот не в здравом рассудке!
* * *
«Коль в руки попал к ней…».
Коль в руки попал к ней, терпи и не плачь:
Вчерашняя жертва — отменный палач.
* * *
«Она насквозь лукава…».
Она насквозь лукава, не упорствуй:
Притворно все в ней — даже и притворство.
ИТАЛИЯ.
КАРЛО ПОРТА. Перевод Е. Солоновича.
Карло Порта (1776–1821). — Бурно проведя молодость в Венеции, зрелые годы поэт прожил в Милане; горький опыт чиновничьей службы лег в основу многих его сонетов. Патриотизм Порты сделал его ярым противником всего французского, что в эпоху наполеоновских итальянских походов неоднократно подвергало его опасностям. Воспитанный в традициях Просвещения, поэт стал одним из провозвестников романтизма в Италии.
Сонеты Карло Порты в совокупности — галерея сатирических портретов и сценок городской жизни. Порта по преимуществу поэт-антиклерикал, враг ханжества, социального неравенства; во многих его сонетах звучит сострадание к беднякам. Его сонеты написаны на миланском диалекте.
С древних времен и по наши дни каждая историческая область Италии сохраняет свой особый диалект; фонетические и лексические различия между диалектами настолько велики, что итальянцы одной провинции с большим трудом могут понять, что говорит житель другой. Это явление вызвано в первую очередь вековой раздробленностью Италии. Но мощную поддержку диалектам оказало то, что крупнейшие из них не только создали свою литературную традицию, но дали замечательных поэтов (миланский, например, — Порту, римский — Белли и т. д.) и драматургов. Вне языковой формы — а через нее и многообразных связей с местными традициями, бытом и культурой — понять творчество этих мастеров невозможно; для них диалект не орнаментальный материал, а сама плоть их творений. Итальянская языковая ситуация, с этой точки зрения, для Европы нового времени — исключительна, и переводчики итальянских диалектных текстов на другие языки не располагают ресурсами для их адекватной передачи.
КАК ВАШЕМУ СИЯТЕЛЬСТВУ УГОДНО[148].
[148].
Как Вашему Сиятельству угодно:
Не спорю, в положении моем
Хозяин вправе звать меня дерьмом
И даже хлеще — это нынче модно.
Серчать на вас в ответ неблагородно,
Напротив — грудь я выгну колесом,
Как будто трапезундским королем
Меня вы объявили всенародно[149].
Назвать меня навозом все равно,
Что предсказать удачу в лотерее,
Поскольку жить стихами мудрено.
Посмотришь, вы богаты, и весьма,
И министерство платит все щедрее,—
Ну чем не хороша судьба дерьма!
ДА, ГОСПОДИН МАРКИЗ.
Да, господин маркиз, вы сверхмаркиз,
Наимаркиз, и я вам не чета:
Миланец Карло перед вами скис,
Затем что кровь его не столь чиста.
Вы гладите животик сверху вниз
И чешете пониже живота;
Диван под вашей задницей провис,
А у меня в желудке — пустота.
В письмо и в чтенье вы ни в зуб ногой,
И красноречья вы не образец,
Но перед вами спину гнут дугой.
А я, не поднимая головы,
Пишу, и мне бы, на худой конец,—
Поклон такого олуха, как вы.
УГО ФОСКОЛО.
Уго Фосколо (настоящее имя — Никколо Фосколо, 1778–1827). — Отец поэта — итальянец, мать — гречанка. Его бурная жизнь пламенного патриота и солдата, пылкого влюбленного и вечно не удовлетворенного своими созданиями поэта — истинная жизнь романтического художника. Бился под наполеоновским знаменем, был ранен. Надежды на восстановление великой и независимой Италии рассеялись, и Фосколо переменил свое отношение к Наполеону. Когда же в Италии вновь установилось австрийское господство, поэт покинул родную землю; умер в Лондоне.
Первый поэт итальянского романтизма, Фосколо именно в поэзии во многом классицист. Новым для итальянской словесности был романтический пафос, пронизывающий произведения Фосколо. он ярко сказался и в его романе «Последние письма Якопо Ортиса».
К ФЛОРЕНЦИИ[150]. Перевод Е. Витковского.
[150].
Хвала тебе, о брег, — тебя в долине
Ласкает Арно[151] столько лет подряд,
Степенно покидая славный град,
В чьем имени рокочет гром латыни[152].
Здесь вымещали гнев на гибеллине
И гвельфу воздавали[153] во сто крат
У твоего моста[154], который рад
Прибежищем служить поэту[155] ныне.
Ты, милый берег, мне милей вдвойне:
На эту почву поступью небесной
Ступала та, что всех дороже мне,—
Здесь я впервые встретил чистый взгляд,
Здесь я вдохнул — мне прежде неизвестный —
Ее волос волшебный аромат.
АВТОПОРТРЕТ. Перевод Е. Витковского.
О ком мне плакать, как не о себе.
Петрарка.
Я худ лицом, глаза полны огня;
Пытливый взор страданием отмечен;
Уста молчат, достоинство храня;
Высокий лоб морщинами иссечен;
В одежде — прост; осанкой — безупречен;
Привязан ко всему не доле дня;
Угрюм, приветлив, груб, чистосердечен:
Я отвергаю мир, а мир — меня.
Не манит ни надежда, ни забава;
Как радость, одиночество приемлю;
Порою доблестей, труслив порой,—
Я робко голосу рассудка внемлю,
Но сердце бурно тешится игрой.
О Смерть, в тебе и отдых мой, и слава.
ГРОБНИЦЫ[156]. (Фрагменты). Перевод А. Архипова.
[156].
Посвящается Ипполито Пиндемонте.
Под сенью кипарисов, в хладных урнах,
Слезами скорби и тоски омытых,
Быть может, смертный сон не столь уж тяжек?
Когда не для меня теплом и светом
Разбудит солнце вновь цветы и травы,
Когда виденья будущего тщетно
Меня придут посулами смущать,
Когда твоим стихам, мой друг бесценный,
Я не смогу внимать с былым восторгом,
Когда и для меня утихнет голос,
Звучавший мне с высокого Парнаса,
Какое утешенье обрету
Я под плитой, которая отделит
Мой прах от той золы, что высевает
На море и на суше злая Смерть?
Увы, мой Пиндемонте, и Надежда
Бежит гробниц, последняя Богиня,
И пеленою черной облекает
Забвение все то, что было в мире,
Когда нет сил противиться ему;
И человека, и его могилу —
Последнее о нем воспоминанье —
Все Время уничтожит под конец!
Но почему, скажите мне, умерший
Терять захочет малую надежду,
Что даже прах его любимым дорог?
Пусть, погребенный, он не видит света,
Но в тех, кому он дорог был, живет
Заветный свет его угасшей жизни.
Небесный дар ниспослан человеку —
Хранить воспоминанья о любимых,
Незримые, они живут средь нас,
И если дорогое нам созданье
Земля вскормила и приют последний
Ему, как мать, участливо дала,
Так пусть она священные останки
От нечестивых ног и непогоды
С такою же любовью сохранит,
Да не сотрется имя на могиле,
И пусть сей прах в покое пребывает
В тени больших задумчивых ветвей.
…………………………
Теперь указ предписывает мертвых
За городской чертою хоронить
В могилах безымянных и огромных.
О Талия, и твой вернейший жрец[157]
Вот так лежит в могиле безымянной;
В своем жилище тесном и убогом
Тебе он песнопенья возносил,
И ты в награду голову поэта
Украсила венком вечнозеленым
И диктовала песенки, смеясь.
Они кололи, словно злое жало
Того Сарданапала из Милана[158],
Который в Лоди праздно и беспечно
Все дин свои в бездействии провел.
О Муза, где ты? Я не ощущаю
Тот дивный трепет — самый верный признак,
Что ты опять, незримая, пришла.
Нет, я один под темными ветвями
О доме материнском размышляю…
Ему под этой липой ты являлась,
Теперь ее листы шумят тревожно.
О, почему, Богиня, не ласкают
Его могилу тенью и прохладой
Вот эти ветви, — ведь в былое время
Он здесь любил подолгу размышлять?
Быть может, ты, за городом блуждая,
На кладбище безмолвном и огромном
Все тщишься прах Парини отыскать?
Так знай, о Муза, что не только мирта
Не посадил над этим прахом город,
Своею грязной похотью вскормивший
Скопцов-поэтов, тварей бесталанных,
Но даже дат не выбил на плите;
И, может быть, какого-нибудь вора
Разрубленная шея кровоточит
И рядом светлый прах собой сквернит.
Послушай, как сырую землю роет
Бездомный пес, слоняясь по могилам,
И завывает с голоду протяжно.
Взгляни — вон там из черепа пустого
Является удод, как черный призрак,
С креста на крест во тьме перелетая
По полю скорби, и гнусавым свистом
Он звезды милосердные клянет
За то, что позабытые могилы
Они сияньем кротким освещают.
Но тщетно ты пытаешься, Богиня,
У беспристрастной ночи утешенья
Для своего поэта испросить.
Увы, увы! Над этою могилой,
Что вырыта без капли состраданья,
Ни одного цветка не расцветет.
С тех самых пор, как проповедью страстной
С высоких алтарей зверье людское
Призвали к состраданию жрецы,
Живые милосердно отправляют
Покойников безгласные останки
В тот душный смрад и темноту слепую,
Где каждый то, что должен, обретет.
Могилы предков, праведно проживших,
Являлись алтарями для потомков,
С них Лары людям волю возвещали,
И с трепетом внимал благоговейным
Любой решенье предка своего.
Обряды почитания останков
Сквозь тьму веков дошли теперь до нас.
Когда не под плитою окропленной
Зарыто тело бренное бывает,
Когда над прахом ладан не курится
И запах тлена тягостно томит,
Когда изображения скелета
Смутить живущих страхом не умеют,
Лишь матери в тревоге непонятной
Глубокой ночью руки простирают,
Ища головку сына дорогого,
Страшась того, что вновь с тоской застонет
Мертвец, прося, чтоб к небу вознесли
За упокой души его молитву.
Когда же над могилами любимых
Колышет ветер ветви кипарисов,
Растущих здесь, как знак любви извечной,
И над плитою слезы пролились,
Тогда усопший ведает блаженство.
Друзья подчас у солнца урывают
Луч света, чтобы вечный мрак могильный
Не столь зловещим был для погребенных,
Ведь люди, умирая, смотрят в небо,
Пытаясь свет с собою унести.
Вода святая из ключей заветных
Фиалки, гиацинты, амаранты
Лелеяла на холмиках печальных,
И тот, кто, у могил любимых сидя,
Рассказывал о горестях и бедах,
Вдыхал благоухания такие,
Какими, верно, полон светлый рай.
…………………………
Когда впервые я плиту увидел,
Где прах сокрыт того, кто не страшился[159]
Правителей принизить всемогущих,
Подрезав им лавровые венки,
И указать народам, сколько крови
И сколько слез им стоит самовластье,
Когда я пред могилой преклонился
Того, кто в Риме древнем возносил
Высокий купол нового Олимпа[160],
Когда остановился я пред прахом
Того, кто в поднебесье разглядел[161]
Планеты с неподвижным ярким солнцем
(А это Бритту верную дорогу[162]
Открыло к тайнам всех небесных тел!),
О, как благословенна ты[163], вскричал я,
Страна, где ветры силой жизни полны,
Которую с восторгом орошают
Ручьи, стекая с гордых Апеннин!
Лупа, тобой пленившись, разливает
По склонам зеленеющим сиянье,
В котором виноградины прозрачны,
И пряный фимиам твои долины
Возносят к небу с тысячи цветов!
Флоренция, ты первой услыхала[164]
Великий гимн, в котором воспевал
Свой лютый гнев Отвергнутый тобою!
Ты научила сладостным речам
Достойного собрата Каллиопы[165],
Который всемогущего Амура,
Нагого в Риме, в Греции нагого,
В пресветлые одежды облачил
И возвратил небесной Афродите!
Вдвойне благословенна, сберегая
Под сводами прекраснейшего храма
Свою былую славу! Пусть тебя
Седые Альпы плохо защищали,
Пусть ты была теснима не однажды,
Разграблена, поругана, гонима,
Но о своем былом воспоминанья
Ты сквозь века сумела пронести!
И если может гордое стремленье
К высокой славе разум наш зажечь,
Нам должно здесь внимать благим советам.
Витторио[166] испрашивал не раз
У этих плит холодных вдохновенья
И, полон гнева на богов бесстрастных,
В молчании на сонный берег Арно,
Оглядывая дали, выходил.
Ничто не веселило взор поэта,
И бледность на челе его суровом
Еще бледней казалась при луне.
……………………………..
И вот меня, которого изгнали
В края чужие время, честь и совесть,
Меня к себе призвали хором Музы
И повелели гимн сложить суровый
Во славу всех, достойных вечной славы.
Когда своими льдистыми крылами
Седое время тщится уничтожить
И превратить в развалины гробницы,
Хранительницы Музы нежным пеньем
Способны оживить пустыню скорби —
Их сладостное пенье нарушает
Глубокое молчание веков!
Сюда пришла Кассандра в день зловещий,
Когда жрецы велели ей поведать,
Какой конец для Трои уготован,
Здесь плач ее пророчеством звучал,
Которому со страхом все внимали:
«Вотще искать свой город вы придете,
Коль небо вас задумает вернуть
Из дальнего похода, эти стены,
Воздвигнутые здесь руками Феба,
Увидите дымящимися вы.
Но Трои неусыпные Пенаты
В могилах этих сохранят потомкам
Ее героев славный ряд имен.
Вы, ветви пальм и стройных кипарисов,
Посаженных невестками Приама,—
Увы, увы! — вы скоро разрастетесь,
Сумеете ли вы своею тенью
Моих отцов останки защитить?
Тому, кто отведет топор жестокий
От вас, блюдя былое благочестье,
Не местом скорби станут их могилы,
Но самым драгоценным алтарем».
АЛЕССАНДРО МАНДЗОНИ.
Алессандро Мандзони (1785–1873). — Писатель прожил долгую покойную жизнь, всю ее отдав литературе, но его художественное творчество прекращается в конце 20-х годов, когда он занялся филологическими сочинениями. Шестнадцати лет Мандзони воспел французскую революцию в поэме «Торжество свободы»; в его ранних стихах очевидно было ученичество у мастеров-классиков, его взгляды складывались под влиянием французских энциклопедистов. В 1810 году поэт обратился в католичество; глубокая религиозность сказалась на всем последующем творчестве Мандзони; однако взгляды писателя были далеки от какой бы то ни было реакционности. Его лирика, драматургия и проза знаменовали собою победы романтизма в Италии. Верность времени, раскрывающему судьбы человечества полнее и глубже любого вымысла, — девиз Мандзони. Ярче всего свое кредо он воплотил в историческом романе «Обрученные» (1825–1827, русский перевод 1833 г.). Герои писателя — народ и люди из народа, им отдано его сочувствие и любовь. Шедевр Мандзони определил развитие итальянского литературного языка в XIX веке. На историческом материале построены две романтические трагедии Мандзони — «Граф Карманьола» (1820) и «Адельгиз» (1822); собственно поэтическое наследие Мандзони невелико, но и «Священные гимны», и политические оды — высшие достижения итальянской поэзии прошлого века.
К ФРАНЧЕСКО ЛОМОНАКО[167]. Перевод Е. Солоновича.
[167].
Как Данте обрекла скитанью Флора[168]
По краю, где природы благодать
Померкла перед ужасом раздора,
Где трудно славу добрую снискать,—
Изгнанник сам[169], предметом разговора
По праву ты избрал: тебе ль не знать,
Что лучшим нет на родине простора,
Что мачеха она для них, не мать?
Италия, вот от тебя достойным
Награда! А потом ты прах лелеешь,
Превознося пустые имена.
Что пользы от рыданий над покойным?
Ты о своих ошибках сожалеешь,
Ты каешься — и вновь себе верпа.
К МУЗЕ. Перевод Е. Солоновича.
Неторный путь мне укажи, о Муза,
Чтоб не угас огонь, что ты зажгла,
И нерушимость нашего союза
Плоды неповторимые дала.
С трубою — Данте[170], лебедю Воклюза[171] —
Милее лира; нет другим числа:
Недаром Флора Аскру[172] догнала,
Оробии не стоит Сиракуза[173].
Любимец Мельпомены италийской[174],
Ты нынче первый, или ты, что смелый
Подъемлешь бич[175], плектрону отдых дав[176]?
О Муза, если на стезе аскрийской[177]
Я упаду, одно хотя бы сделай —
Пусть на своих следах лежу, упав.
РОЖДЕСТВО[178]. Перевод С. Ошерова.
[178].
Обвалом шумным сверженный
С вершины поднебесной,
Стремнинами кремнистыми
Во мрак долины тесной
Упал утес могучий
И, грянувшись под кручей,
Недвижимо на дне
Лежал, пока столетия
Текли чредою длинной,
И солнце не касалося
Главы его старинной, —
Доколь благая сила
Утес не утвердила
На прежней вышине.
Так же с высот низвержены,
Грехопаденья чада
Коснели, злом согбенные,
Поднять не в силах взгляда
К обители желанной,
Откуда несказанный
Исторг их божий гнев.
Средь Господом отринутых
Кто вправе был отныне
С мольбою о прощении
Воззвать к Его святыне?
Завет поставить новый?
Разрушить ада ковы,
Геенну одолев?
Но се — Дитя рождается,
Ниспослано любовью.
Трепещут силы адские,
Едва он двигнет бровью.
С благой пришедший вестью,
Он — паче прежней — честью
Возвысил падший род.
Родник в надзвездной области
Пролился щедрой влагой,
Поит обитель дольнюю,
Всем племенам во благо.
Где тёрном дебрь кустилась,
Там роза распустилась
И дубы точат мед.
Предвечный сын предвечного!
С начала дней какое
Столетье вправе вымолвить:
Ты начался со мною?
Ты вечносущ. Вселенной,
Тобою сотворенной,
Нельзя вместить Творца.
И ты облекся низменной
Скуделью плоти тварной?
За что сей жребий выспренний
Земле неблагодарной?
Коль благость Провиденья
Избрала снисхожденье,
Тогда ей нет конца!
В согласье с предсказаньями
Прийти случилось Деве
В Ефрафов город[179] с ношею
Блаженною во чреве;
Где предрекли пророки,
Там и сбылися сроки,
Свершилось рождество.
Мать пеленами бедными
Рожденного повила
И, в ясли уложив его,
Колена преклонила
В убежище убогом
Перед младенцем-Богом,
Спеша почтить его.
И, к людям с вестью посланный,
Гонец небес крылатый
Минул надменной стражею
Хранимые палаты,
Но пастухов безвестных,
Смиренно-благочестных,
Нашел в степном краю.
К нему слетелись ангелы
Толпою осиянной,
Глухое небо полночи
Наполнили осанной.
Так точно перед взором
Творца усердным хором
Поют они в раю.
И, гимнам вслед ликующим
Взмывая к небосклонам,
Сокрылись сонмы ангелов
За облачным заслоном.
Святая песня свыше
Неслась все тише, тише —
И всякий звук исчез.
И пастухи, не мешкая,
Указанной дорогой,
Счастливые, отправились
К гостинице убогой,—
Где в яслях для скотины
Лежал, повит холстиной,
И плакал Царь небес.
Не плачь, Дитя небесное,
Не плачь, усни скорее!
Стихают бури шумные,
Тебя будить не смея,
Бегут во мрак кромешный
С земли, доселе грешной,
Лишь Твой завидят лик.
Усни, Дитя! Не ведают
Народы в целом свете,
Что Тот пришел, который их
В свои уловит сети,
Что здесь, в пещерке тесной,
Лежит в пыли безвестной
Владыка всех владык.
МАРТ 1821 ГОДА[180]. (Ода). Перевод Е. Солоновича.
[180].
СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ТЕОДОРА КЕРНЕРА[181], ПОЭТА И БОРЦА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ ГЕРМАНИИ, ПАВШЕГО В БИТВЕ ПОД ЛЕЙПЦИГОМ ОКТЯБРЯ 18 ДНЯ ЛЕТА MCCCXIII, ЧЬЕ ИМЯ ДОРОГО ВСЕМ НАРОДАМ, СРАЖАЮЩИМСЯ ЗА ОТЕЧЕСТВО.
Переправились через Тичино
И, назад обратясь, к переправе,
О единой мечтая державе,
Непреклонные древним под стать,
Дали клятву они, что пучиной
Меж чужими двумя берегами,
Меж двумя берегами-врагами
Больше этой реке не бывать.
Дали клятву — и верные братья
Отвечали им, полны отваги,
Обнажая незримые шпаги,
Что сегодня на солнце горят.
И, священный обет подкрепляя,
Протянулась десница к деснице.
О, товарищ в жестокой темнице!
О, в свободном отечестве брат!
Кто двух рек соименных[182] и Орбы,
Отразившей древесные своды,
Кто Тичино и Танаро воды
Сможет в По многоводном найти;
Кто отнять у него сможет Меллу,
Волны Ольо, течение Адды
И журчащие струи прохлады,
Что она вобрала по пути,—
Тот сумеет народ возрожденный
Разобщить вопреки провиденью
И ничтожные толпы мученью
Беспощадному снова обречь:
Если вольный народ — значит, вольный,
Если раб — то от Альп и до моря,
Радость общая, общее горе,
А не только — природа и речь.
На лице выраженье страданья,
Униженье в потупленном взгляде,—
Словно нищий, что милости ради
На чужбине находит приют,
Жил в родимом пределе ломбардец:
Жребий собственный — тайна чужая,
Долг — пришельцам служить, угождая,
И молчать — или насмерть забьют.
О пришельцы! Италия ныне,
Отвергая господство чужое,
Обретает наследье былое.
О пришельцы! Снимайте шатры!
Трепещите! От Альп и до Сциллы[183]
Вся она под ногой супостата
Возмущенною дрожью объята,
Недвижимая лишь до поры.
О пришельцы! На ваших штандартах
Знак позора — печать фарисейства,
Вы тайком замышляли злодейство,
Лицемерно о воле крича[184];
Всем народам пророча свободу,
Вы набатом гремели в то время:
Да уйдет иноземное племя,
Незаконны законы меча!
Если ваша земля, где под гнетом
Вы стенали[185] — под вражеской силой,
Угнетателям стала могилой
И пришел избавления час,
Кто сказал, что не знать италийцам
Избавленья от муки гнетущей?
Кто сказал, что господь всемогущий,
Внявший вам, не услышит и нас?
Он, кто красные волны обрушил[186],
Чтоб они египтян поглотили,
Он, кто в руку вложил Иаили
Молоток[187] и направил удар,
Кто вовеки не скажет германцу:
Получай этот край на поживу —
Не тобою взращенную ниву,
Мною щедро ниспосланный дар.
О Италия, всюду, где слышен
Голос муки твоей безысходной,
Где надежда души благородной
Не погибла еще до конца,
Там, где вольность сегодня в расцвете,
Там, где втайне пока еще всходит,
Где страдание отклик находит,
Ты не можешь не трогать сердца.
Сколько раз на альпийских вершинах
Знамя дружбы тебе представало!
Сколько раз ты к морям простирала —
К двум пустыням — отчаянный взор!
День пришел — закаленными болью
Ты гордишься своими сынами,
Что встают под священное знамя,
Чтобы дать иноземцу отпор.
О, бесстрашные, время настало!
По пришельцу открыто ударьте:
Жребий родины вашей на карте,—
Пусть решительной будет война!
Или родина вольной воспрянет,
Дав исполниться тайной надежде,
Или, больше забита, чем прежде,
Впредь под палкой пребудет она.
О, возмездия час долгожданный!
Жалок тот, кто о дерзостной вспышке
Должен будет судить понаслышке,
Кто смущенно вздохнет неспроста,
Сыновьям о борьбе повествуя,—
«Я там не был», — чуть внятно прибавит;
Кто в торжественный час не восславит
Стяг победный — святые цвета[188]!
ПЯТОЕ МАЯ[189]. (Ода). Перевод Е. Солоновича.
[189].
Его не стало. Замерло
Беспамятное тело,
Едва душа с дыханием
Последним отлетела,—
И замер мир, известием
Внезапным потрясен.
Рукою рока властного
Была его десница,
Земля молчит, не ведая,
Когда еще родится,
Кто с ним сравнится участью
И прогремит, как он.
Свидетель славы пламенной,
Я не сказал ни слова,
Когда он пал, поверженный,
Воспрял и рухнул снова,
Когда восторги слышались
И брань со всех сторон.
Далек от раболепия
И суеты злорадной,
Звучит о гордом светоче
Мой стих над урной хладной,
Что, может быть, забвению
Не будет обречен.
На Рейне и в Испании
И над брегами Нила
Живая эта молния,
Сверкнув, тотчас разила;
Он лавры чужестранные
В венец победный вплел.
Он славен был. По праву ли? —
Решат потомки. Мы же
Перед всесильным господом
Главы склоняем ниже,
Что духом созидательным
Его не обошел.
Расчет и упоение
Надеждой величавой,
Стремленье сердца страстное
Подняться над державой,—
О чем мечтать безумие,
Он наяву обрел.
Он все познал: растерянность
И славы ликованье,
Победу, отступление,
Империю, изгнанье,
Два раза в бездну брошенный,
Два раза — на престол.
Он имя возгласил свое —
И два враждебных века,
Как перед властью жребия,
Пред волей человека
Смирились, справедливости
Увидя в нем жреца.
Он дни окончил в праздности
Среди природы дикой,
Предмет глубокой зависти
И жалости великой,
Неистребимой ярости
И веры до конца.
Как над пловцом вздымается
Кипящий вал, которым
Он перед этим поднят был
И тщетно жадным взором
Искал, не видно ль берега,
Отдав надежде дань,—
Так образы минувшего
Над сей душой нависли!
Не раз потомкам брался он
Свои поведать мысли,
Но на страницу падала
Безжизненная длань.
Не раз безмолвным вечером,
Невольник праздной скуки,
Глаза потупя жгучие,
Крестом сложивши руки,
Стоял он — и прошедшее
Теснило дух его.
Он вспоминал походные
Шатры, огонь, редуты,
Лавину грозной конницы
И в жаркие минуты
Сухие приказания
И планов торжество.
Он должен был отчаяться,
Душой изнемогая,
Но нет! Нашла несчастного
Рука небес благая,
Подняв его решительно
Над берегом чужим,
И душу повлекла его
Дорогою цветущей
К награде уготованной,
К полям мечты зовущей,
Туда, где слава прежняя —
Пустое слово, дым.
О вера благодатная!
В веках себя прославя,
Ликуй, к триумфам признанным
Еще один прибавя,—
Ведь не был равным гением
Позор Голгофы[190] чтим.
Усталый прах заботливо
Храни от поношенья:
Господь, дающий смертному
И боль и утешенье,
Один к одру изгнанника
Пришел и сел над ним.
ДЖАКОМО ЛЕОПАРДИ. Перевод А. Ахматовой.
Джакомо Леопарди (1798–1837). — Детские и юношеские годы поэт провел в доме отца, человека деспотичного, крайне реакционного, страстного собирателя книг и манускриптов. Неосуществимым мечтам юноши о личной свободе отвечали только безграничные горизонты книжного моря; познания юного Леопарди в древних литературах, в истории итальянской словесности были глубоки и обширны; сам он начал писать в отрочестве, много переводил с классических языков. Упорная работа подорвала его хрупкое от рожденья здоровье; после того как в 1822 году Леопарди вырвался из родного дома, тяжелые недуги не оставляли его до самой смерти.
Формальные требования классической традиции всегда были непреложными для Леопарди, среди современников на родине он слыл «архаистом». Но унаследованной формой Леопарди владел блистательно, под рукой мастера она превращается в полноценную романтическую форму. Леопарди развил свой личный вариант распространенной в романтической Европе философии «мировой скорби» («Маленькие нравственные сочинения», 1827, и др.). Для него основной закон мировой жизни — «несчастье»; его атеистический пессимизм бескомпромиссен и безысходен: любые устремления человека к счастью и совершенству обречены величественной игрой неумолимых законов природы на неудачу. Если в ранних поэтических произведениях — в канцонах «К Италии», «На памятник Данте» — Леопарди еще отдает дань патриотическому и свободолюбивому пафосу будущего, то позже его пессимизм захватывает и социальную сферу. Его «Палинодия» — одно из самых ядовитых в европейской литературе осмеяний буржуазного бездумного утопического оптимизма. От предыдущего столетия Леопарди отстал именно в том, что связывало «век нынешний и век минувший» (см. ниже комментарий к упоминанию Вольтера в «Палинодии»); и своего века Леопарди не принял в корне: он оказался поэтом тяжкой уединенности. Но в ней Леопарди обрел неограниченную свободу неприятия язв исторической действительности и неповторимый голос личного страдания, создавшие его единственную книгу — «Песни» (1845).
К ИТАЛИИ.
О родина, я вижу колоннады,
Ворота, гермы, статуи, ограды
И башни наших дедов,
Но я не вижу славы, лавров, стали,
Что наших древних предков отягчали.
Ты стала безоружна,
Обнажены чело твое и стан.
Какая бледность! Кровь! О, сколько ран!
Какой тебя я вижу,
Прекраснейшая женщина! Ответа
У неба, у всего прошу я света:
Скажите мне, скажите,
Кто сделал так? Невыносимы муки
От злых цепей, терзающих ей руки;
И вот без покрывала,
Простоволосая, в колени пряча
Лицо, она сидит, безмолвно плача.
Плачь, плачь! Но побеждать
Всегда — пускай наперекор судьбе,—
Италия моя, дано тебе!
Двумя ключами будь твои глаза —
Не перевесит никогда слеза
Твоих потерь, позора.
Вокруг все те же слышатся слова:
Была великой ты — не такова
Теперь. О, почему?
Была ты госпожой, теперь слуга.
Где меч, который рассекал врага?
Где сила, доблесть, стойкость?
Где мантий, лент златых былая слава?
Чья хитрость, чьи старанья, чья держава
Тебя лишила их?
Когда и как, ответь мне, пала ты
Во прах с неизмеримой высоты?
И кто защитник твой?
Ужель никто? — Я кинусь в битву сам,
Я кровь мою, я жизнь мою отдам!
Оружье мне, оружье![191]
О, если б сделать так судьба могла,
Чтоб кровь моя грудь итальянцам жгла!
Где сыновья твои?[192] Я слышу звон
Оружья, голоса со всех сторон,
Литавры, стук повозок.
Италия моя, твои сыны
В чужих краях сражаются[193]. То сны
Я вижу или явь:
Там пеший, конный, дым и блеск мечей,
Как молний блеск? Что ж трепетных очей
Туда не обратишь?
За что сражаются, взгляни в тревоге,
Там юноши Италии? О, боги,
Там за страну чужую
Италии клинки обнажены!
Несчастен тот, кто на полях войны
Не за отчизну пал,
Семейного не ради очага,
Но за чужой народ, от рук врага
Чужого; кто не скажет
В час смерти, обратись к родному краю:
Жизнь, что ты дал, тебе я возвращаю.
Язычества блаженны времена:
Единой ратью мчались племена
За родину на смерть;
И вы, превозносимые вовеки
Теснины фессалийские[194], где греки,
Немногие числом,
Но вольные, за честь своей земли
И персов и судьбу превозмогли.
Я думаю, что путник
Легко поймет невнятный разговор
Растений, и волны, и скал, и гор
О том, как этот берег
Был скрыт грядою гордой мертвых тел
Тех, кто свободы Греции хотел.
И прочь бежал тогда
За Геллеспонт Ксеркс низкий и жестокий,
Чтобы над ним смеялся внук далекий;
На холм же, где, погибнув,
Они нашли бессмертье, Симонид[195]
Поднялся, озирая чудный вид.
Катились слезы тихие со щек,
Едва дышать, едва стоять он мог
И в руки лиру взял;
Кто о самом себе забыл в бою,
Кто за отчизну отдал кровь свою,
Тот счастье испытал;
Вы, Грецией любимы, миром чтимы,
Какой любовью были одержимы,
Какая страсть влекла
Вас под удары горького удела?
Иль радостным был час, когда вы смело
Шаг сделали ужасный,
Что беззаботно улыбались вы?
Иль не могильные вас ждали рвы,
А ложе пышных пиршеств?
Тьма Тартара и мертвая волна
Вас ждали там; ни дети, ни жена
Вблизи вас не стояли,
Когда вы пали на брегу суровом,
Ничьим не провожаемые словом.
Но там и Персию ждала награда
Ужасная. Как в середину стада
Кидается свирепый лев,
Прокусывает горло у быка,
Другому в кровь загривок и бока
Терзает — так средь персов
Гнев эллинов ярился и отвага.
Гляди, средь мертвых тел не сделать шага,
И всадник пал, и конь;
Гляди, и побежденным не пробиться
Чрез павшие шатры и колесницы;
Всех впереди бежит,
Растерзанный и бледный, сам тиран;
Гляди, как кровью, хлынувшей из ран
У варваров, облиты
Герои-эллины; но вот уж сами,
От ран слабея, падают рядами.
Живите, о, живите,
Блаженными вас сохранит молва,
Покуда живы на земле слова.
Скорее возопят из глубины
Морской созвездья, с неба сметены,
Чем минет, потускнев,
О нас воспоминание. Алтарь —
Гробница ваша[196]: не забыв, как встарь
Кровь проливали деды,
С детьми в молчанье матери пройдут.
О славные, я простираюсь тут,
Целуя камни, землю;
Хвала и слава, доблестные, вам
Звучит по всей земле. Когда бы сам
Я с вами был тогда,
Чтоб эту землю кровь моя смягчила!
Но коль судьба враждебная решила
Иначе, за Элладу
Смежить не дозволяя веки мне
В последний раз на гибельной войне,—
То пусть по воле неба
Хоть слава вашего певца негромко
Звучит близ вашей славы для потомка!
ВЕЧЕР ПРАЗДНИЧНОГО ДНЯ.
Безветренная, сладостная ночь,
Среди садов, над кровлями, безмолвно
Лежит луна, из мрака вырывая
Вершины ближних гор. Ты спишь, подруга,
И все тропинки спят, и на балконах
Лишь изредка блеснет ночной светильник;
Ты спишь, тебя объял отрадный сон
В притихшем доме, не томит тебя
Невольная тревога; знать не знаешь,
Какую ты мне рану нанесла.
Ты спишь; а я, чтоб этим небесам,
На вид столь благосклонным, и могучей
Природе древней, мне одну лишь муку
Пославшей, — чтобы им привет послать,
Гляжу в окно. «Отказываю даже
Тебе в надежде я, — она сказала,—
Пусть лишь от слез блестят твои глаза».
День праздничный прошел, и от забав
Теперь ты отдыхаешь, вспоминая
Во сне о том, быть может, скольких ты
Пленила нынче, сколькими пленилась:
Не я — хоть я на то и не надеюсь —
Тебе являюсь в мыслях. Между тем
Я вопрошаю, сколько жить осталось,
И на землю бросаюсь с криком, с дрожью.
О, как ужасны дни среди цветенья
Такого лета! Но невдалеке
С дороги песенка слышна простая
Ремесленника, поздней ночью — после
Вечернего веселья в бедный домик
Идущего; и горечь полнит сердце
При мысли, что на свете все проходит,
Следа не оставляя. Пролетел
И праздник, а за праздником вослед
Дни будние, и все, что ни случится
С людьми, уносит время. Где теперь
Народов древних голоса? Где слава
Могучих наших предков? Где великий
Рим и победный звон его оружья,
Что раздавался на земле и в море.
Все неподвижно, тихо все, весь мир
Покоится, о них забыв и думать.
В дни юности моей, когда я ждал
Так жадно праздничного дня, — и после,
Когда он угасал, — без сна, печальный,
Я крылья опускал; и поздно ночью,
Когда с тропинки раздавалась песня
И замирала где-то вдалеке,—
Сжималось сердце так же, как теперь.
К СЕБЕ САМОМУ[197].
[197].
Теперь ты умолкнешь навеки,
Усталое солнце. Исчез тот последний обман,
Что мнился мне вечным. Исчез. Я в раздумиях ясных
Постиг, что погасла не только
Надежда, но даже желанье обманов прекрасных.
Умолкни навеки. Довольно
Ты билось. Порывы твои
Напрасны. Земля недостойна
И вздоха. Вся жизнь —
Лишь горечь и скука. Трясина — весь мир.
Отныне наступит покой. Пусть тебя наполняют
Мученья последние. Нашему роду
Судьба умереть лишь дает. Презираю отныне,
Природа, тебя — торжество
Таинственных сил, что лишь гибель всему предлагают,
И вечную тщетность всего.
ПАЛИНОДИЯ[198]. Маркизу Джино Каннони[199].
[198]. [199].
И в воздыханье вечном нет спасенья[200].
Петрарка.
Я заблуждался, добрый Джино; я
Давно и тяжко заблуждался. Жалкой
И суетной мне жизнь казалась, век же
Наш мнился мне особенно нелепым…
Невыносимой речь моя была
Ушам блаженных смертных, если можно
И следует звать человека смертным.
Но из благоухающего рая
Стал слышен изумленный, возмущенный
Смех племени иного. И они
Сказали, что, неловкий неудачник,
Неопытный в усладах, неспособный
К веселью, я считаю жребий свой
Единственный — уделом всех, что все
Несчастны, точно я. И вот средь дыма
Сигар, хрустения бисквитов, крика
Разносчиков напитков и сластей,
Средь движущихся чашек, среди ложек
Мелькающих блеснул моим глазам
Недолговечный свет газеты. Тотчас
Мне стало ясно общее довольство
И радость жизни смертного. Я понял
Смысл высший и значение земных
Вещей, узнал, что путь людей усыпан
Цветами, что ничто не досаждает
Нам и ничто не огорчает нас
Здесь, на земле. Познал я также разум
И добродетель века моего,
Его науки и труды, его
Высокую ученость. Я увидел,
Как от Марокко до стены Китайской,
От Полюса до Нила, от Бостона
До Гоа[201] все державы, королевства,
Все герцогства бегут не чуя ног
За счастьем и уже его схватили
За гриву дикую или за кончик
Хвоста. Все это видя, размышляя
И о себе, и о своей огромной
Ошибке давней, устыдился я.
Век золотой[202] сейчас прядут, о Джино,
Трех парок веретёна. Обещают
Его единодушно все газеты —
Везде, на разных языках. Любовь
Всеобщая, железные дороги,
Торговля, пар, холера, тиф прекрасно
Соединят различные народы
И климаты; никто не удивится,
Когда сосна иль дуб вдруг источат
Мед иль закружатся под звуки вальса.
Так возросла, а в будущем сильней
Мощь кубов перегонных возрастет,
Реторт, машин, пославших вызов небу,
Что внуки Сима, Хама и Яфета[203]
Уже сейчас летают так свободно
И будут все свободнее летать.
Нет, желудей никто не будет есть,
Коль голод не понудит; но оружье
Не будет праздным. И земля с презреньем
И золото и серебро отвергнет,
Прельстившись векселями. И, как прежде,
Счастливое людское племя будет
Кровь ближних проливать своих: Европа
И дальний брег Атлантики[204] — приют
Цивилизации последний — будет
Являть собой кровавые поля
Сражений всякий раз, как роковая
Причина — в виде перца, иль корицы,
Иль сахарного тростника, иль вещи
Любой другой, стать золотом способной,
Устроит столкновенье мирных толп.
И при любом общественном устройстве
Всегда пребудут истинная ценность
И добродетель, вера, справедливость
Общественным удачам чужды, вечно
Посрамлены, побеждены пребудут —
Уж такова природа их: всегда
На заднем плане прятаться. А наглость,
Посредственность, мошенничество будут
Господствовать, всплывая на поверхность.
Могущество и власть (сосредоточить
Или рассеять их) — всегда во зло
Владеющий распорядится ими,
Любое дав тому названье. Этот
Закон первейший выведен природой
И роком на алмазе, и его
Своими молниями не сотрут
Ни Вольта, ни Британия с ее
Машинами, ни Дэви[205], ни наш век,
Струящий Ганг из новых манифестов.
Вовеки добрым людям будет плохо,
А негодяям — хорошо; и будет
Мир ополчаться против благородных
Людей; вовеки клевета и зависть
Тиранить будут истинную честь.
И будет сильный слабыми питаться,
Голодный нищий будет у богатых
Слугою и работником; в любой
Общественной формации, везде —
Где полюс иль экватор — вечно будет
Так до поры, пока земли приюта
И света солнца люди не лишатся.
И зарождающийся золотой
Век должен на себе нести печать
Веков прошедших, потому что сотни
Начал враждебных, несогласий прячет
Сама природа общества людского,
И примирить их было не дано
Ни мощи человека, ни уму,
С тех пор как славный род наш появился
На свет; и будут перед ними так же
Бессильны все умы, все начинанья
И все газеты наших дней. А что
Касается важнейшего, то счастье
Живущих будет полным и доселе
Невиданным. Одежда — шерстяная
Иль шелковая — с каждым днем все мягче
И мягче будет. Сбросив мешковину,
Свое обветренное тело в хлопок
И фетр крестьяне облекут. И лучше
По качествам, изящнее на вид
Ковры и покрывала станут, стулья,
Столы, кровати, скамьи и диваны,
Своей недолговечной красотой
Людские радуя жилища. Кухню
Займет посуда небывалых форм.
Проезд, верней, полет, Париж — Кале,
Оттуда — в Лондон, Лондон — Ливерпуль
Так будет скор, что нам и не представить;
А под широким ложем Темзы будет
Прорыт тоннель[206] — проект бессмертный, дерзкий,
Волнующий умы уж столько лет.
Зажгутся фонари, но безопасность
Останется такою же, как нынче,
На улицах безлюдных и на главных
Проспектах городов больших. И эта
Блаженная судьба, и эта радость —
Дар неба поколениям грядущим.
Тот счастлив, кто, покуда я пишу,
Кричит в руках у бабки повивальной!
Они застанут долгожданный день,
Когда определит научный опыт,—
И каждая малютка с молоком
Кормилицы узнает это, — сколько
Круп, мяса, соли поглощает город
За месяц; сколько умерших и сколько
Родившихся записывает старый
Священник; и когда газеты, — жизнь
Вселенной и душа ее, источник
Единственный познанья всех эпох,—
Размножившись при помощи машин
Мильонным тиражом, собой покроют
Долины, горы и простор безбрежный
Морей, подобно стаям журавлиным,
Летящим над широкими полями.
Как мальчик, мастерящий со стараньем
Дворец, и храм, и башню из листочков
И щепок, завершив едва постройку,
Все тотчас рушит, потому что эти
Листочки, щепки для работы новой
Нужны, так и природа, доведя
До совершенства всякое свое,
Искусное подчас, сооруженье,
Вмиг начинает разрушать его,
Швыряя вкруг разрозненные части.
И тщетно было бы оберегать
Себя или другого от игры
Ужасной этой, смысл которой скрыт
От нас навеки; люди, изощряясь
На тысячи ладов, рукой умелой
Деянья доблестные совершают;
Но всяческим усильям вопреки
Жестокая природа, сей ребенок
Непобедимый, следует капризу
Любому своему и разрушенье
Все время чередует с созиданьем.
И сонм разнообразных, бесконечных,
Мучительных недугов и несчастий
Над смертным тяготеет, ждущим тупо
Неотвратимой гибели. Внутри,
Снаружи злая сила разрушенья
Настойчиво преследует его
И, будучи сама неутомимой,
Его терзает до поры, пока
Не упадет он, бездыханный, наземь,
Сраженный матерью своей жестокой.
А худшие несчастья человека,
О благородный друг мой, — смерть и старость,
Которые рождаются в тот миг,
Когда губами нежного соска,
Питающего жизнь, дитя коснется.
Мне кажется, что это изменить
Век девятнадцатый (и те, что следом
Идут) едва ли более способен,
Чем век десятый иль девятый. Если
Возможно именем своим назвать
Мне истину хоть иногда, — скажу,
Что человек несчастен был и будет
Во все века, и не из-за формаций
Общественных и установок, но
По непреодолимой сути жизни,
В согласье с мировым законом, общим
Земле и небу. Лучшие умы[207]
Столетья моего нашли иное,
Почти что совершенное решенье:
Сил не имея сделать одного
Счастливым, им они пренебрегли
И стали счастия искать для всех;
И, обретя его легко, они
Хотят из множества несчастных, злых
Людей — довольный и счастливый сделать
Народ; и это чудо, до сих пор
Газетой, и журналом, и памфлетом
Не объясненное никак, приводит
В восторг цивилизованное стадо.
О, разум, о, умы, о, выше сил
Дар нынешнего века проницать!
Какой урок познанья, как обширны
Исследованья в областях высоких
И в областях интимных, нашим веком
Разведанные для веков грядущих,
О Джино! С верностью какой во прах
Он в обожанье падает пред теми,
Кого вчера осмеивал, а завтра
Растопчет, чтоб еще чрез день собрать
Осколки, окурив их фимиамом!
Какое уваженье и доверье
Должно внушать единодушье чувств
Столетья этого, вернее года!
Как тщательно нам надобно следить,
Чтоб наша мысль ни в чем не отклонилась
От моды года этого, которой
Придет пора смениться через год!
Какой рывок свершила наша мысль
В самопознанье, если современность
Античности в пример готовы ставить!
Один твой друг[208], о досточтимый Джино,
Маэстро опытный стихосложенья,
Знаток наук, искусства критик тонкий,
Талант, да и мыслитель из таких,
Что были, есть и будут, мне сказал:
«Забудь о чувстве. Никому в наш век,
Который интерес нашел лишь в том,
Что обществу полезно, и который
Лишь экономикой серьезно занят,
До чувства нету дела. Так зачем
Исследовать сердца свои? Не надо
В себе самом искать для песен тему!
Пой о заботах века своего
И о надежде зрелой!» Наставленье,
Столь памятное мне! Я засмеялся,
Когда комичный чем-то голос этот
Сказал мне слово странное «надежда» —
Похожее на звуки языка,
Забытого в младенчестве. Сейчас
Я возвращаюсь вспять, иду к былому
Иным путем — согласен я с сужденьем,
Что, если хочешь заслужить у века
Хвалу и славу — но противоречь
Ему, с ним не борись, а повинуйся,
Заискивая: так легко и просто
Окажешься средь звезд. И все же я,
Стремящийся со страстью к звездам, делать
Предметом песнопений нужды века
Не стану, — ведь о них и так все больше
Заботятся заводы. Но сказать
Хочу я о надежде, той надежде,
Залог которой[209] очевидный боги
Уже нам даровали: новым счастьем
Сияют губы юношей и щеки,
Покрытые густыми волосами.
Привет тебе, привет, о первый луч
Грядущего во славе века. Видишь,
Как радуются небо и земля,
Сверкают взоры женские, летает
По балам и пирам героев слава.
Расти, расти для родины, о племя
Могучее. В тени твоих бород
Италия заблещет и Европа,
И наконец весь мир вздохнет спокойно.
И вы, смеясь, привет пошлите, дети,
Родителям колючим и не бойтесь
Слегка при этом поцарапать щеки.
Ликуйте, милые потомки[210],— вам
Заветный уготован плод — о нем
Давно мечтали: суждено увидеть
Вам, как повсюду воцарится радость,
Как старость будет юности счастливей,
Как в локоны завьется борода,
Которая сейчас короче ногтя.
ДЖУЗЕННЕ ДЖУСТИ.
Джузеппе Джусти (1809–1850). — Один из самых популярных поэтов в Италии XIX века. Горячий патриот и пылкий сторонник объединения Италии, Джусти прославился сатирическими стихотворениями на политические темы: он высмеивал австрийских императоров и итальянских князьков, клерикалов, аристократов и пройдошливых буржуа — новоиспеченных дворян и кавалеров. В зрелые годы поэт придерживался умеренно-либеральных взглядов и написал несколько сатир на представителей левого крыла итальянского национально-освободительного движения. В целом в его творчестве доминируют вкус и готовность уловить и заострить нелепость реальных политических событий, их абсурдность перед судом абстрактных общечеловеческих нравственных правил и здравого смысла. Джусти блестяще владел народными песенными формами, его язык ориентирован на живую народную речь; его часто называли «итальянским Беранже».
ПАРОВАЯ ГИЛЬОТИНА[211]. Перевод Е. Солоновича.
[211].
Бесподобную машину
Сделал всем на страх Китай —
Паровую гильотину,
Что за три часа, считай,
Сотню тысяч обезглавит,
Зла убавит.
Эта штука нашумела,
И прелаты в том краю
Смотрят в будущее смело,
Верят в избранность свою.
Европейцу — как до рая,
До Китая.
Князь почти лишен коварства,
Малость алчен[212], глуповат,
Но родное государство
Обожает, говорят.
И талантов тот правитель —
Покровитель.
Среди подданных народов
Был один, что всех мутил,
Не хотел давать доходов,
Плохо подати платил.
И сказал ему владыка:
«Погоди-ка!»
Поплатился неприятель.
Что за славный инструмент!
Нет, палач-изобретатель
Получил не зря патент,
Став любимым всем Пекином
Мандарином.
«Окрестить по нашей вере
Палача!» — кричит чернец.
Плачет моденский Тиберий[213]:
«Жаль, талантливый творец
Не в моей стране родился —
Заблудился».
УЛИТКА[214]. Перевод Е. Солоновича.
[214].
Хвала красавице,
Улитке слава
За основательность
И скромность нрава!
Она не хвастает,
А между прочим,
Мысль гениальную
Внушила зодчим —
И план ступеней
Стал совершенней[215].
Хвала красавице!
Улитка — гений!
Существование
Ее отменно.
Как не сослаться тут
На Диогена?
Простыть возможностей
Не так уж много,
Когда на белый свет
Глядишь с порога.
Ей все знакомо —
До окоема.
Хвала красавице,
Сидящей дома!
Иные с голоду
Не дохнут чудом,
Тая пристрастие
К заморским блюдам.
Она, довольствуясь
Необходимым,
Спокойно кормится
В краю родимом
Едой отрадной —
Травой прохладной.
Хвала красавице!
Хвала нежадной!
Как много бешеных
И сколь нелепы
Ослы, которые,
Как львы, свирепы!
Она при случав
Вберет рога,
Она, безмолвствуя,
Смирит врага
Красноречивой
Слюной брезгливой.
Хвала красавице
Миролюбивой!
О ком заботливей
Пеклась природа,
Дав привилегию
Такого рода?
Палач, усилия
Твои — впустую:
Обрящет голову
Она другую[216].
Пример разительный
И заразительный.
Хвала красавице
Предусмотрительной!
Сычи премудрые,
В науках доки,
Чьи поучения
Не есть уроки,
И вы, что смотрите
С такой приязнью
На всех, страдающих
Водобоязнью,—
Займите рвенья
Для песнопенья:
Хвала красавице —
Венцу творенья!
ТРИДЦАТИПЯТИЛЕТИЕ. Перевод А. Архипова.
Мой Гросси, мне сегодня тридцать пять,
Со мной произошла метаморфоза,
Минули дни чудачеств и психоза,
Смиряет их теперь седая прядь.
Пора мне жизнь иную начинать —
Полупоэзии и полупрозы,
Еще милы мне светские курьезы,
И все ж милей покоя благодать.
А там, ступая тихо в темноте,
Смерть явится и скажет — час отмерен,
Придет конец житейской суете,
Но думаю, что труд мой не потерян,
Когда на гробовой моей плите
Прочтут слова: «Он знамени был вереи».
ДЖУЗЕННЕ ДЖОАКИНО БЕЛЛИ.
Джузеппе Джоакино Белли (1791–1863). — Свои литературные силы Белли впервые испытал на общенациональном литератур, ном языке, но свое истинное призвание поэт нашел в сонетах, написанных на римском диалекте (о значении диалектных традиций в итальянской литературе см. выше, в заметке о творчестве К. Порты). Всего Белли написал почти две с половиной тысячи римских сонетов. Пережив в конце 40-х годов духовный кризис, Белли стал ревностным клерикалом и намеревался уничтожить своп сонеты; но они разошлись по рукам в десятках списков и остались в памяти у многих. Первое — шеститомное — издание сонетов Белли вышло посмертно, в 1886–1889 годах.
Белли говорил, что его цель — создать «памятник тому, что представляет собою сегодня римское простонародье. Передать римское слово таким, каким оно срывается с уст римлянина повседневно, без украшательства, без какого бы то ни было искажения». В его стихах нет авторской речи: это голос толпы, каждый сонет — отдельная реплика или рассказ человека из толпы, сценка из жизни Рима во всем ее разнообразии и пестроте. Сонеты Белли высоко ценил «русский римлянин» Н. В. Гоголь.
РОЖДЕНИЕ. Перевод Е. Солоновича.
Скажи, соседка, разве не дурной,
Кто сдуру дал себе на свет явиться?
Гораздо лучше было удавиться
Или зарезаться, — не спорь со мной!
Не струсит только, может быть, тупица,
Когда прочтет при входе в мир земной:
«Всегда в продаже перец и горчица
И счастье, прикрепленное слюной».
Все детство розга человека учит,
У молодых — завистников полно,
Приходит старость — несваренье мучит.
Хотя при нашей доле не до смеха,
Уж то одно, что живы мы, смешно,
Но это тоже слабая утеха.
РИМСКИЕ ПОКОЙНИКИ. Перевод Е. Солоновича.
Когда покойник среднего достатка
И все по нем вздыхают тяжело,
Его в последний путь везет лошадка
Средь бела дня, — так издавна пошло.
Другие, у кого поцепче хватка,
Тузы, персоны важные зело —
Сторонники иного распорядка
И едут в ночь, чтоб солнце не пекло.
О третьих надобно сказать особо,
Посмотришь — жалко божьего слугу:
Бедняжка едет без свечей, без гроба.
И мы с тобой из этих, Клементина,
С утра, чуть свет, такую мелюзгу
Бросает в яму заспанный детина.
МАЛЕНЬКАЯ СЛАБОСТЬ. Перевод Е. Солоновича.
А знаешь, после папы и творца
Что мне всего милей на свете? Бабы!
Антонио, я набрехал бы, кабы
Монаха корчил или же скопца.
Могу поймать любую на живца!
Будь столько женщин, сколько звезд, хотя бы,
Увидишь, все передо мною слабы,—
Кто-кто, а я мастак пронзать сердца.
Красавицы, одна другой почище,
Испробовали эту чехарду,
Да вот тебе и списочек, дружище:
Замужних — сорок, непорочных — восемь,
Вдовиц — двенадцать. Кто на череду?
Не знаю сам. Давай у неба спросим.
РЫНОК НА ПЛОЩАДИ НАВОНА. Перевод Е. Солоновича.
Что в среду можно здесь купить парик,
Засов, кастрюлю с крышкой и без крышки,
Одёжу, кое-что из мелочишки,
К тому давно любой из нас привык.
Но ставят каждый раз меня в тупик
Книгопродавцы, их лотки и книжки.
Помилуй бог, да это же излишки!
Что можно выудить из разных книг?
Допустим, ты с книженцией уселся
Не емши… Так, ну а теперь скажи:
Ты голоден? Или ужо наелся?
Не зря священник говорил намедни:
«Нет ничего в книжонках, кроме лжи!
Великий грех читать все эти бредни!»
КАРДИНАЛ — ЛЮБИТЕЛЬ ПОКУШАТЬ. Перевод Е. Солоновича.
А кардинал-то мой горазд пожрать!
И выпить не дурак, — а для чего же
На свете есть вино? Сосет, дай боже!
Так налегает, что не удержать!
Он три монастыря и даже пять
Объест один. Что, будто не похоже?
Проглотит печь, да и кухарку тоже,
Вола упишет, прежде слопав кладь.
Но то что съесть, но и представить жутко
С утра три фунта жареной трески —
Голодный завтрак для его желудка.
И в извинение чревоугодья
За грешным чревом следуют кишки —
Радетели земного плодородья.
ДОБРЫЕ СОЛДАТЫ. Перевод Е. Солоновича.
Едва какой-то из царей найдет,
Что повод есть для новой свистопляски,
Как он кричит, закатывая глазки:
«Мой враг— твой враг, о верный мне народ!»
И чтобы царских избежать щедрот —
Решетки, а не то и большей ласки,
Его народ, как будто писем связки,
До Франции, до Англии дойдет.
А после драки из чужого края
Овечки возвращаются в загон,
Кто за башку держась, а кто хромая.
Захочет двор — и лезешь на рожон,
Как будто смерть, такая-рассякая,
Не подождет до будущих времен.
ЧИХ. Перевод Е. Солоновича.
Ей-богу, отродясь не знал, с чего
Желают: будь здоров или здорова —
Чихающим и ничего такого
При кашле не слыхать ни от кого.
«Апчхи!» — «Будь здрав, богатого улова
Твоей мошне, дай бог тебе всего,
Желаю сына — и не одного»,—
И правильней не отвечать ни слова.
Я нынче слышал в лавке, будто мы,
Ужасные невежи по природе,
Любезны стали со времен чумы.
Что ж, может, правду люди говорят,
И нас чума воспитывает, вроде
Как заповеди грешников плодят.
БОЛЕЗНЬ ХОЗЯИНА. Перевод Е. Солоновича.
Бедняга до того отменно плох,
Что все вокруг ему осточертело,
И даже я. Болезнь в мозгах засела,—
Считает лекарь. (Чтобы он подох!)
Во всем больному чудится подвох,
Он хнычет… он бранится то и дело:
Уже в гробу свое он видит тело
И радостный в аду переполох…
Я говорю хозяйке: «Вам виднее,
Но, может, от лекарства слабый прок.
А что как есть другое, посильнее?»
Она молчит, — видать, переживает:
Пожав плечами, села в уголок
И на платке цветочки вышивает.
СВЯЩЕННИК. Перевод Е. Солоновича.
Стал человек священником — и враз
Уже святой. Из новоиспеченных.
И прихожан, грехами отягченных,
Корит, при том что сам в грехе погряз.
Сказать, что каждый попик душу спас,—
Как заточить в темницу заточенных,
Как отлучить от церкви отлученных,
Как трех воров спросить: «А сколько вас?»
При всем воображенье небогатом
Иных вещей доподлинная соль
Открыта только перед нашим братом.
Как ни крути, а видит только голь
Священников насквозь. Аристократам
Всегда горохом кажется фасоль.
ОДИН ЛУЧШЕ ДРУГОГО. Перевод Е. Солоновича.
Вшиварь, Затычка, Живоглот, Шептун,
Мадера, Кляча, Самозвон, Громила,
Хорек, Упырь, Кат, Рукосуй, Шатун,
Хамелеон, Гермафродит, Зубило,
Змей, Требуха, Репей, Снохач, Колтун,
Припадочный, Сороконожка, Шило,
Прыщ, Недоносок, Чистоплюй, Колдун,
Фитиль, Безносый, Куродав, Кадило,
Кот, Пукнивнос, Педрило, Скопидом,
Гнус, Боров, Кривопис, Гонимонету,
Кобель, Иуда, Козырь, Костолом —
Счастливчики, которым равных нету,
На площади перед Святым Петром[217]
Впряглись на праздник в папскую карету.
КРЕЩЕНИЕ СЫНА. Перевод А. Рогова.
Как разоделся ты, аж злость берет!
В наряде новом едешь ты в карете,
И сласти ты раздариваешь детям,
И созываешь в гости весь народ.
Тупой осел, безмозглый обормот,
Все деньги ты вложил в крестины эти;
Что ж, радуйся, прибавилось на свете
Одним слугой у папы и господ.
В разгаре пир, стаканов слышен звон.
Пьют за того, кто суп из чечевицы
С рожденья есть, быть может, осужден.
Несчастные, поймете вы иль нет,
Что чем у нас в стране на свет родиться,
Уж лучше вовсе не увидеть свет.
ГРЕШНИК. Перевод А. Рогова.
Мне? Каяться? Напрасны уговоры.
Граф надругался над моей сестрой.
За честь ее я отомстил с лихвой
И в ад отправил знатного синьора.
Пускай я буду обезглавлен скоро,
Но участи не надо мне другой.
Куда страшнее вместе с головой
Весь век носить на лбу клеймо позора.
Но, если есть за гробом жизнь иная,
Вы, судьи подлые, изведаете страх,
Ночами сна и отдыха не зная.
Я буду к вам являться до рассвета
С отрубленною головой в руках
И требовать за смерть мою ответа.
ОБЪЯСНЕНИЕ КОРОЛЕВСКОЙ ВЛАСТИ. Перевод А. Рогова.
Все на Земле имеет свой резон,
И короли от бога правят нами.
Он создал их, благословил их он
И сам с небес глаголет их устами.
И надо быть воистину ослами,
Чтобы плевать на их священный трон.
Так будем мирно жить под королями
И воздадим всевышнему поклон.
Без них не жить нам, как без головы,
И бунтовать, синьоры, не годится.
Напрасно так бесчинствуете вы.
Оставьте бесполезную борьбу.
Ведь всяк король на белый свет родится
Готовеньким — с короною на лбу.
СВЯТЫЕ ОТЦЫ. Перевод А. Рогова.
Вы, люди неразумные, простые,
Додуматься не можете никак,
На кой нам черт нужны отцы святые?
Так вот, послушай и молчи, дурак.
Ты пялишься на кольца золотые?
Так то святого обрученья знак.
Зачем часы нужны им дорогие?
Чтоб вас к обедне созывать, бедняг.
Ну, а мешки со звонкою монетой?
У каждого такой здоровый куль…
То — хлеб для бедных. Помни и не сетуй.
Корысти нету в них. Но потому ль
Под круглою скуфьей, на плешь надетой,
Мы видим нуль, помноженный на нуль.
ДЕНЬ СТРАШНОГО СУДА. Перевод А. Рогова.
Подымут трубы из литого злата
Четыре ангела — небес гонцы,
И протрубят они во все концы,
И крикнут: «Выходи, пришла расплата!»
Под звуки трубные и гул набата
Из всех могил полезут мертвецы,
И все пойдут — глупцы и мудрецы,
Гуськом, как за наседкою цыплята.
Наседкой будет сам господь святой.
Он грешников загонит в пламень ада,
Блаженным даст на небесах покой.
Когда ж людское разбредется стадо,—
Слетит на землю ангелочков рой,
Погаснет свет, и будет все, как надо.
ТЮРЬМА. Перевод А. Рогова.
По случаю избранья папы Льва
Был из тюрьмы отпущен в тот же день я.
Так вот, скажу я вам, что лжет молва,—
Сидеть в тюрьме — сплошное наслажденье.
Сидишь спокойно: в этом заведенье
Долги с тебя не взыщут — черта с два!
И вволю пьешь, и ешь до объеденья.
Бесплатно все — квартира и жратва.
Там нет дождя, и снега тоже нету,
Там нет властей, попов — никто не рвет
Из рук твоих последнюю монету.
Работы нет, от всех тебе почет,
Живешь, как бог, и знаешь, что за это
В тюрьму тебя никто не упечет.
ГРОЗА 23 ЯНВАРЯ 1835 ГОДА. Перевод А. Рогова.
Шло время к полночи, как вдруг над нами
Разверзлись небеса и грянул гром.
О, ужас! Задрожал наш старый дом,
И стекла лопнули в оконной раме.
И стало небо страшным очагом,
В котором были молнии дровами,
И не вода — лилось на землю пламя,
Как будто не на Рим, а на Содом.
Мир не видал еще подобных гроз:
Свист ветра, грохот, ужас и тревога!
Звон колокольный прошибал до слез.
Святой отец и тот струхнул немного,
Но в Риме сдох один бродячий пес,
А папа жив — христьяне, славьте бога!
ДЖОЗУЭ КАРДУЧЧИ.
Джозуэ Кардуччи (1835–1907). — Поэт стяжал все возможные лавры: и поклонение читателей, для которых многие десятилетия его имя покрывало собою понятие «современная итальянская поэзия»; и официальное признание — в 1890 году звание сенатора; и международную славу — и 1906 году Нобелевская премия. На смену католическому романтизму Мандзони поэт принес героизм богоборчества, языческое поклонение природе, республиканский пафос. Хрестоматийными стали стихи поэта, славящие Дж. Гарибальди и борьбу за единство Италии, ее прошлое и будущее величие. Эрудированный филолог, Кардуччи создал мощно звучащий риторический стиль; громадное впечатление на современников производила великолепная версификация поэта и его язык, выработавший некую новую классическую меру. Однако стихам Кардуччи присуще любование темой творчества или самим актом поэтического вдохновения.
ВОЛ. Перевод К. Бальмонта.
Люблю тебя, достойный вол, ты мирной
И мощной силой сердце мне поишь,
Как памятник, ты украшаешь тишь —
Полей обильно-вольных мир обширный.
К ярму склоняя свой загривок смирный,
Труд человека тяжкий ты мягчишь:
Бодилом колет, гонит он, но лишь
Покой в твоих очах, как будто мирный.
Из влажно-черных трепетных ноздрей
Дымится дух твой, и, как гимн веселый,
Мычанье в ясном воздухе полей;
И в вольном оке — цвета мглы морей —
Зеленое молчанье, ширь и долы
В божественной зеркальности своей.
МАРТИН ЛЮТЕР. Перевод А. Архипова.
Угрюмый Лютер двух врагов имел
И одолел за тридцать лет[218] сражений,—
Печальный дьявол просто захирел
От всех его псалмов и обвинений,
А беззаботный папа оробел,
Когда, Христовым словом, грозный гений,
Его сразив, на чресла меч надел
И дух свой окрылил до воспарений.
«Оружье наше — всемогущий бог! —
За ним народ вопил неугомонно.—
Мы супостатов победим, собратья!»
А он вздыхал и думал утомленно:
«Прими меня, господь, я изнемог,
Не в силах я молиться без проклятья!»
ПЛАЧ ИЗВЕЧНЫЙ[219]. Перевод А. Архипова.
[219].
Зеленых свежих веток
Рукою ты касался,
Он и тогда казался
Кровавым, этот цвет…
Гранат наш снова зелен
В саду пустынном этом,
Как он прекрасен летом,
Когда теплом согрет.
А ты, мой бедный отрок,
Поникший стебелек мой,
Всей этой жизни блеклой
Навек увядший цвет,
Лежишь в земле холодной,
Зарыт в могиле черной,
О, этот необорный
Щемящий, лютый бред…
САН-МАРТИНО. Перевод А. Архипова.
Туман плывет над седыми
Взъерошенными холмами,
Мистраль воюет с волнами,
И пенное море ревет,
А в маленьком городишке
Народ веселится чинный,
Удушливый запах винный
Дурманит и в голову бьет.
Со скрипом вращается вертел,
Под ним догорает колода,
Охотник стоит у входа
И словно кого-то ждет,
Глядит он, как в небе багровом
Птиц стаи кружатся темных,
Как мыслей тяжких, бездомных
Блуждающий хоровод.
ПЕРЕД СОБОРОМ. Перевод А. Архипова.
Солнце царит, затопляя
Землю потоками света.
Встало огромное лето
В огненной вышине.
В городе раскаленном
Тени соборов сини,
Площади, как пустыни,
В душном томятся огне.
В каплях горячего пота,
В тяжкой усталости зноя
Жуткою желтизною
Лица людей бледны.
Лишь в полутемных нефах
Урны белеют прохладно —
Праху великих отрадно
В сумраке тишины.
ЭЛЛИНСКАЯ ВЕСНА[220]. Перевод А. Ахматовой.
[220].
(I. Эолийская).
Лина, зима подступает к порогу,
В холод одетый, подъемлется вечер,
А на душе у меня расцветает
Майское утро.
Видишь, как искрится в розовом свете
Снег на вершине горы Федриады[221],
Слышишь, как волны кастальских напевов
В воздухе реют.
В Дельфах священных с треножников медных
Пифии громко и внятно вещают,
Слушает Феб среди дев чернооких
Щелк соловьиный.
С хладного брега к земле Эолийской,
Льдистыми лаврами пышно увитый,
Рея на лебедях двух белоснежных,
Феб опустился.
Зевсов венец на челе его дивном,
Ветер играет в кудрях темно-русых
И, трепеща, ему в руки влагает
Чудную лиру.
Возле пришедшего бога, ликуя,
Пляской встречают его киприады,
Бога приветствуют брызгами пены
Кипр и Цитера.
Легкий корабль по Эгейскому морю
С парусом алым стремится за богом,
А на корме корабля золотится
Лира Алкея.
Сафо, дыша белоснежною грудью,
Ветром наполненной встречным, в томленье
Нежно смеется, и волосы блещут,
Темно-лиловы.
Лина, корабль остановлен, повисли
Весла, взойди на него поскорее;
Я ведь последний среди эолийских
Дивных поэтов.
Там перед нами страна золотая,
Лина, прислушайся к вечному звону.
И убежим мы от темного брега
К весям забвенья.
ГОРНЫЙ ПОЛДЕНЬ. Перевод К. Бальмонта.
В великом круге гор, среди гранита,
Бесцветно-бледны, ледники отвесны,
Молчание в тишь безглаголья влито,
Полдневное безгласие лучей.
Без ветра сосны словно бестелесны,
Подъяты к солнцу, в воздух тот редчайший,
И лишь журчит, как цитры звук тончайший,
Вода, златясь чуть зримо меж камней.
ДЖОВАННИ ПАСКОЛИ. Перевод С. Ошерова.
Джованни Пасколи (1855–1912). — Крупнейший итальянский поэт рубежа XIX и XX веков. В молодости увлекался социалистическими идеями, сотрудничал в социалистической печати, подвергался аресту (1878 г.). Дальнейшая жизнь поэта протекает в размеренных занятиях преподавателя средней школы, университетского профессора, в 1906 году унаследовавшего кафедру Дж. Кардуччи вместе со званием первого поэта Италии. Для Пасколи слово только тогда ценно, когда оно вобрало в себя все оттенки личных переживаний поэта, стало вполне его плотью и кровью. Предельной значительностью насыщается у него каждодневность, простые предметы действительности, ежесекундность жизненного волнения; стих обретает неподдельность естественной речи; мир оказывается бесконечным воспоминанием или сном поэта, вещи становятся символами, а их отношения раскрываются в мифе. Эти принципы поэтики Пасколи оказали большое влияние на крупнейших итальянских поэтов XX века, таких как Г. Гоццано, У. Сабо, Э. Монтале.
МЫСЛИ. (Из цикла). С итальянского.
ТРИ ГРОЗДИ.
Три грозди есть на лозах винограда:
В одной — освобожденье от скорбей,
В другой — забвенья краткого отрада,
А в третьей… Но не пей
Ты сок ее, сулящий сон глубокий:
Знай, стерегут могильный этот сон
Бессонное страданье — страж стоокий
И тайный тяжкий стон.
ПИРШЕСТВО ЖИЗНИ.
О жизни гость, не медли ни мгновенья!
Покуда льется в чаши рдяный ток,—
Насытив голод, но без пресыщенья
Покинь пиров чертог.
Пусть розы и гиметского тимьяна
Еще струится сладкий аромат
И все друзья ликуют неустанно
В сиянии лампад,—
Ступай! Печально за столом постылым
Смотреть, как меркнут яркие огни,
Печально одному путем унылым
Брести в ночной тени.
ЛАСТОЧКИ. С итальянского.
I.
На холмике стоял среди полей,
На дудочке играя, Доре. Слива
Цвела; был цвет ее еще белей
Среди хлебов зеленого разлива.
И персик цвел, весь — как один цветок,
А там — другой, нарядный и счастливый,
И был деревьев розовый рядок,
Как облака на утреннем просторе,
Когда гряду их озарит восток
И с Альп они впервые видят море.
Жужжали пчелы. Голоса ветвей
Слились, казалось, в низком гулком хоре
Приветствуя приход весенних дней.
Еще не зацветали только лозы —
И плакали об участи своей.
В себе вмещали солнце эти слезы.
II.
Под сливою цветущей у сарая
Поутру Доре ласточек скликал,
На дудочке каштановой играя.
Из ветки сочной мальчик извлекал
Звук, будто долетавший издалёка —
Вдруг первый вестник в небе замелькал
И вслед — другой. За желоб водостока
Две ласточки спустились — и опять
Исчезли прочь. И во мгновенье ока
Слетелись птицы — три, четыре, пять,
Все — парами. (Ведь ласточки когда-то
Распятого пытались утешать,
И с этих пор для нас их стаи святы.)
Они вели о гнездах разговор,
Легко кружась над кровлею покатой.
Тут Роза вышла из дому во двор.
III.
Касатки здесь! И в марте, что в июне,—
Каштан в соку. А слива — вся бела!
Услышав говор юрких щебетуний,
Шагнув, застыла Роза, как была —
С корзиною на локте. Полон воздух
Мельканьем птичьих пар. Весна пришла
Цветут деревья, и касатки в гнездах!
НОЧНОЙ ЖАСМИН. С итальянского.
Раскрываются к ночи цветы жасмина.
Я грущу, о близких моих вспоминая.
Из аллеи, оттуда, где калина,
Прилетает бабочка ночная.
Затихают крики, недвижен воздух,
Только дом никак не угомонится.
Опускаются на птенцов в гнездах
Крылья, как на глаза — ресницы.
Все сильней от цветущей заросли жасминной
Пахнет спелой клубникой полевою.
Загорается свет в гостиной.
Зарастают могилы травою.
Жужжит пчела, возвратившись поздно,—
Свободной ячейки найти не может.
В синеве, недавно беззвездной,
Вечер светила множит.
Всю ночь разлетается с ветром
Аромат по саду густому.
На второй этаж поднялись со светом…
Погасили огни по всему дому…
Светает. Цветы закрываются, подбирая
Чуть вянущие лепестки, — но не время опасть им.
Таинственная чаша до края
Наполняется новым счастьем.
СОЛОН[222]. С итальянского.
[222].
Без песни пир уныл, как храм без блеска
Златых даров — обетных приношений,
Затем что сладостно внимать рапсоду,
В чьем голосе — Неведомого отзвук.
Нет, говорю вам, ничего отрадней,
Чем слушать пение, бок о бок сидя
В спокойствии за пирными столами,
Где белокурый хлеб и дым от мяса,
Покуда отрок черпнет из кратера
Вино, чтобы разлить его по чашам,
И повторять слова священных гимнов
Под рокот струн кифарных, благостно звучащих,
Иль наслаждаться жалобною флейтой,
Чье горе претворяется тотчас же
В блаженство у тебя в душе.
«Солон, сказал ты: счастлив тот, кто любит,
Тот, у кого есть конь твердокопытный,
Борзые псы и друг в краях заморских.
Теперь ты старец, и тебе, о мудрый,
Заморские друзья, и псы, и кони
С копытом крепким, и любовь не в радость.
Теперь отраду ты обрел другую:
Вино — чем старше, песню — чем новее.
Две новых — с первым после бурь затишьем
И с первой стаей птиц — заморских песни
В Пирей завезены женой эресской[223],
И здесь она». — «О Фок[224], открой же двери
И ласточку впусти!» — Солон ответил.
Был праздник Антестерий[225]. Открывают
В тот день кувшин и пробуют вино.
В чертог вошла — с весенним ярким светом,
С дыханием соленым волн Эгейских —
Певица, знавшая две новых песни:
Одну — о смерти, о любви — другую.
Вошла задумчиво. Ей Фок скамейку
С узором золотых гвоздей поставил
И чашу протянул. Она уселась,
Держа в руках певучую пектиду[226],
Потом безмолвно трепетных коснулась
Перстами струн — и песню начала:
«Яблоневый сад[227] под луной блистает,
Чуть дрожат цветы в серебристом свете,
В синих, словно туча, горах летает
Яростный ветер.
С громким воем ветер в ущельях реет,
Крепкие дубы под обрывы рушит.
Ветерок любви, лишь чуть-чуть повеет,
Силы иссушит.
Пусть вдали, как солнце, я вижу злато
Милых мне кудрей, — но лучей касанья
Жгут… Краса их — солнце, но в час заката,
В миг угасанья.
Расточиться! Стать огневого диска
Отблеском я жажду, сияньем алым,
В пору, когда солнце склонится низко
К волнам и скалам.
Манит низойти сумрак благодатный,
Солнце в глуби водной находит отдых.
Неразлучный с ним, гаснет и закатный
Отблеск на водах».
Воскликнул старец: «Это смерть!» — но гостья
Ответила: «Нет, о любви я пела»,—
Коснулась струн и песню начала:
«Плакать здесь грешно: ты в дому поэта!
Кто сказал, что он на костре сгорает?
Над атлетом плачь: красота атлета
С ним умирает.
Тленна доблесть тех, кто под клич военный
Врубится во вражеский строй глубоко,
Тленна грудь — о да! — Родопиды[228], тленно
Кормчего око.
Но нетленна песнь, что к лазурной тверди
На крылах взмывает, презревши Лету.
А доколе песня бессмертна, смерти
Нет и поэту.
Пеплос твой не рви: не для нас могила.
Что здесь вопля скорбного неуместней?
Наша жизнь, душа, красота и сила —
Все станет песней.
Пусть, кто хочет свидеться вновь со мною,
Песнь мою споет и струны коснется,—
И опять, блестя красотой земною,
Сафо проснется».
Услышав песнь о смерти, молвил старец:
«Дай заучить ее — и умереть!»
ОБВЕТШАЛЫЙ ХРАМ. С латинского.
Какой бессмертный или бессмертная
Тобой владели, храм обвалившийся,
Когда в тени обширной рощи
Высился ты средоточьем таинств?
Кто чтил тебя? Каков этот был народ
Одеждой, речью, верой и нравами?
Привержен праву иль оружью
И на любое готов нечестье?
Одним ответы скрыты молчанием.
Народ и бог погублены временем.
Упал камнями храм, и скоро
Самые камни земля засыплет.
Здесь часто буду думать о бренности
Всего земного, буду беседовать
С лишенным племени и храма
Богом-скитальцем, для нас безвестным.
ИЗ «МАЛЫХ СИЛЬВ[229]» ЯНУСА НЕМОРИНА[230]. С латинского.
[229]. [230].
Знаю: в землю когда лягу под тяжкий гнет,
Свет дневной позабыв и позабыв себя,
Лед ли ранит чело, мыслей лишенное,
Из груди ли моей солнце взрастит цветы,—
Будут взором искать преданным юноши
В молчаливых снегах легкую тень мою,
Будут девы глядеть вечером в светлый час,
Не пройду ли я вдоль луга шафранного.
Кто бы ни был тогда — отрок ли блещущий
Или дева, красой ярко цветущая,—
Знаю, будут ловить оба сквозь мглу слова,
Что сложил под напев тонкой цевницы я.
Нет, не весь я умру, если есть новые
Ароматы, и лес песней неслыханной
Вновь звучит, и над ним нас не забывшее
Небо полнится вновь щебетом ласточек.
НИДЕРЛАНДЫ.
ВИЛЛЕМ БИЛДЕРДЕЙК. Перевод Е. Витковского.
Виллем Билдердейк (1756–1831). — Поэт и ученый. Юные годы Билдердейка были целиком посвящены изучению древних и современных языков, математики, астрономии, геологии, военного дела. Окончив Лейденский университет, он в 1782 году становится адвокатом в Гааге. В 1795 году из-за отказа принести клятву верности новым властям поэт вынужден был покинуть Нидерланды, жил в Гамбурге, затем — в Лондоне, зарабатывая на жизнь частными уроками. В 1806 году Билдердейк вернулся на родину и получил должность придворного учителя нидерландского языка короля Людовика Бонапарта; он занимал также кафедру в королевском институте. После окончательного поражения Наполеона поэту было отказано в кафедре.
Поэтическое наследие Билдердейка огромно, он выступал во многих литературных жанрах, снискав себе славу как один из лучших нидерландских переводчиков, филологов и пропагандистов национальной литературы; при его непосредственном участии увидели свет собрания сочинений Марланта, Хейгеиса и многих других писателей прошлого. Билдердейк выступал против классицистических канонов поэзии XVII века и считал, что в поэзии «должно расцветать чувство».
Из стихотворных сборников Билдердейка можно назвать «Молитву» (1796), «Недуг ученых» (1807), «Поэтическое искусство» (1809), «Прощание» (1810), «Покаяния грешников» (1826).
РОЗЫ.
Весной, на рассвете,
Я видел в расцвете
Те розы, что ныне поникли в пыли:
Познавшие горе
В забвенье, в позоре —
Былые владычицы щедрой земли.
Сияли бутоны,
Как перлы короны,
Как россыпь алмазов весенних дождей,—
Но свянули, сгнили
Цветы, что пьянили
Своим ароматом просторы полей.
Взираю в печали
На все, что вначале
Меня покоряло своей красотой,—
Она ненадежна,
Пред горем — ничтожна,
Вдвойне — на закате дороги земной.
И пляски и пенье
Уносит мгновенье,
Рыданий и скорби приходят часы.
День краток, он прожит —
Цветы уничтожит,
Как легкие капли рассветной росы.
И сердце грубеет,
И разум слабеет,
Печаль, словно зимний туман, глубока.
Смежаются очи
В предчувствии ночи —
И жизнь отлетает, как запах цветка.
1812.
СОВЕСТЬ.
Что ты еси? Творца премудрая забава?
Непостижимости незыблемая суть?
Тебя приносит ночь, — ты рвешься к нам прильнуть
И нам продиктовать — что право, что неправо.
Ты, эфемерная над бездной переправа,
Что ты еси, вещай! В тупик ведущий путь?
Вращенье шестерен, что не дает уснуть?
Томлений и надежд всечасная облава?
Где пребываешь ты? Внутри или вовне?
Царишь ли наяву? Мерещишься ли мне?
Иль отраженье ты чужих страстей, не боле?
И до ответа мне Всевышний снизошел:
«Я есмь все то, что есть, и совесть — мой глагол,
И он гласит тебе: страшись Господней воли».
СВЕРЧОК.
Чудесно бытие
Твое:
Порою сенокосной
Ты, славный полевой сверчок,
С травинки нежной на сучок
Спешишь за каплей росной.
Пшеничное зерно
Давно
В амбары лечь готово;
Ты слышишь — в поле серп звенит,
Ты малой долей будешь сыт
Обилия земного.
На жатве, в молотьбе
Тебе
Крестьяне услужают:
И твой веселый разговор,
И звонкий лягушачий хор
Их уши ублажают.
Ты не взыскуешь бед,—
О нет! —
Как злобные невежды,—
Спешишь высоко ты вознесть
О лете радостную весть,
Селянам дать надежды.
Заслушались, любя,
Тебя
Бессмертные богини,
Венерой ты благословен,
Напевом чистым слух камен
Ты услаждаешь ныне.
Не прерывай игру!
В миру
Удела нет чудесней:
Ты, малая земная тварь,
Взнесен над смертными, как царь,
И продолжаешь песни.
АНТОНИ КРИСТИАН ВИНАНД СТАРИНГ. Перевод И. Озеровой.
Антони Кристиан Винанд Старинг (1767–1840). — В студенческие годы находился под влиянием немецких сентименталистов, а также Я. Фейта, нидерландского поэта того же направления; позднее от подобной поэтики отошел. В позднем творчестве Старинга интересны прежде всего сюжетные стихи; поэт нередко обращается к образам народной сказки, в его стихах появляются карлики, ведьмы, домовые. Симптоматичней, однако, что наряду с этим он писал стихи о паровых машинах, воплощавших для него высшее достижение цивилизации. На поэзию Старинга оказали решающее воздействие поэты XVII века — «золотого века» нидерландской поэзии — Р. Фиссер, К. Хепгенс, Я. Катс. Его стихи на исторические темы (в частности, публикуемая в настоящем томе ода на русскую тему) основаны на хорошо изученном материале. Поэтический дар Старинга был высоко оценен Э.-И. Потгитером (см. ниже). Однако современникам стиль его казался вычурным, и широкой популярностью поэт не пользовался. Наиболее значительное поэтическое произведение Старинга — цикл «Яромир» (1820).
МОРОЗ.
Мороз, хотя седобород,
Кровь с молоком старик.
Со вкусом ест, в охотку пьет,
Спешить он не привык.
Над каждым саженцем в саду
Кряхтит, весь день отдав труду.
Коль все цветы защищены,
Сорвет он поцелуй весны.
Когда скует озера лед,
Дорожкой станет беговой,—
Он на коньках добыть почет
Спешит, как будто молодой.
На санках с девушкой скользит
И, как повеса, егозит.
Бежит с обветренным лицом
За иноходцем с бубенцом.
Снежинки, как пчелиный рой,
К нему летят со всех сторон.
С печалью свыкнувшись, порой
Без устали хохочет он.
Водить он любит хоровод
Иль долгой ночью напролет
Играть в головоломки слов,
Не замечая бой часов.
Вот ветер западный возник —
И сразу оттепель и грязь.
Тогда в поэзии старик
С погодою находит связь.
Боль в наслажденье перейдет —
Восточный ветер верх берет.
Дорогу снова лед мостит,
Как мост, друзей соединит.
От злоязычных прочь речей!
Жизнь у Мороза нелегка.
Короче сон его ночей,
Все тает скарб у старика.
Мы поднесем ему в свой срок
Из веток пальмовых венок.
Хотим, чтоб голос струн вознес
Наш клич: «Да здравствует Мороз!»
ПАРОВЫЕ МАШИНЫ.
Столетиями мчал нас по дорогам конь;
Но разум тайна странная томила.
И слабым смертным дал обузданный огонь
Все силы покоряющую силу.
Не зная устали, стихии укротив,
Несет сокровища из глубины бездонной.
Повозки без коней, просторы проглотив,
Бегут по колее бессонной.
Бьют лопасти колес и движут корабли,
Освобожденные от парусов и весел,
И поршни, как сердца, одушевить смогли
Тупую тяжесть всех ремесел.
О Нидерланды! Вы — распахнуты морям,
От ила и песка освобождайте воды,
Пусть золото зерна моря приносят к вам,
Понявшим таинство природы.
Невежества покой всегда ведет в тупик,
А разума заря — светла и неизбежна,
Пусть век чудес пока к литаврам не привык,
Его венчают лавры нежно.
Веди, стремление! Все ближе высота,
Где слово вещее слышнее в скромном храме.
Пока еще мой прах не давит немота,
Я славлю знание, как знамя!
И будущего мглу пронзает зоркий взор.
Каким величием его чревато лоно!
Лишь предрассветный сумрак до сих пор
Я чтил коленопреклоненно.
ЗАЛОЖЕНИЕ ОСНОВ МОРСКОГО МОГУЩЕСТВА РОССИИ, ТОРЖЕСТВЕННО ОТПРАЗДНОВАННОЕ ПЕТРОМ ВЕЛИКИМ 23 АВГУСТА 1723 ГОДА.
Смотрите, гордые князья,
Отбросив скипетр и державу,
На победителя по праву —
Не вам венок сплетаю я.
Тому, кто невский склеп болот
Разрушил жизнью многотонной,
Тому, кто в варварстве рожденный
Был призван просвещать народ;
Учитель, плотник, воин, жрец!
Его приветствую! И славу
Пою его крутому нраву,
И вторит мне оркестр сердец.
Вот ботик, что познал почет,
Когда был юн его создатель,
На праздник, словно зачинатель,
По волнам трепетным плывет.
Он — прародитель тех судов,
Чьи кили глубину пронзили,
Что вслед за ботиком проплыли,
Расправив крылья парусов.
Мир чествует, как господина,
Того, кто замер у руля,
От скал, где Новая Земля,
До плещущихся волн Эвксина.
На вас, на ваше торжество,
На воинство свое морское
Он смотрит с гордостью мирскою,—
И видит весь народ его.
Подходит ботик! Все суда
Честь отдают ему с почтеньем,
Морская гладь полна волненьем,
Своею ношею горда.
«Да здравствует!» — звучит вокруг,
Кроншлот грохочет над гранитом,
И медь сияет под зенитом,
И барабанный бой упруг.
Гром пушек с самого утра,
И дым, как флаг, окутал клотик:
Приветствуют петровский ботик,
Любимый первенец Петра.
Но Петр за маленьким рулем
Застыл, грядущее провидя…
Любя, воюя, ненавидя,
Там шел народ своим путем.
По мановению судьбы
Мгновенно обострилось зренье,
И он увидел восхожденье
К вершинам славы и борьбы.
Фундамент прочен, ведь не зря
Его своим скрепил он потом,
Свой город каменным оплотом
Народу русскому даря.
Не дрогнул русский великан
Под западным суровым шквалом,
Над белым снегом следом алым
Чужой рассеялся туман.
И снова праздновал народ
Петровскую годину чести,
И с победителями вместе
Тогда, казалось, Петр идет.
Когда взмахнул мечом тиран
Над синим Средиземным морем —
Его отвага стала горем,—
Не врачевали лавры ран.
И в Дон и в Неман кровь текла
Грабителей, в бою сраженных,
В московском полыме сожженных,
Не стало крыльев у Орла.
Но вновь клинки обнажены —
Теперь султан считает раны,
А благодарные Балканы
Россией освобождены.
Вот что увидел взгляд Петра —
Строителя и полководца…
Вокруг звучит иль в сердце бьется
Несокрушимое — ура!
И вот он руку подает —
Искатель и знаток талантов —
Помощнику из Нидерландов!
С ним Кройс. Моя душа поет!
ЭВЕРХАРД ЙОХАННЕС ПОТГИТЕР. Перевод Е. Витковского.
Эверхард Йоханнес Потгитер (1808–1875). — Поэт, прозаик, критик. С 1837 года — один из основателей и редакторов литературно-критического журнала «Вожатый», с 1843 по 1865 год — его руководитель. Поклонник и пропагандист поэзии ушедшего «золотого века», Потгитер вошел в историю нидерландской литературы как страстный борец против мещанской косности и самоуспокоенности; под различными псевдонимами Потгитер выступал на страницах своего журнала, отдавая весь свой дар делу пропаганды национальной литературы. Целый отдел журнала был посвящен молодым писателям и поэтам, доселе неизвестным или малоизвестным.
Стиль Потгитера отличается изощренностью формы и нарочитой архаичностью языка. Первый его стихотворный сборник — «Север в набросках и картинах» — вышел в 1836 году. Известность принес поэту сборник «Песенки Бонтеку» (1840), подчеркнуто стилизованный под поэзию «золотого века». Из других книг Потгитера интересны «Государственный музей в Амстердаме» (1844), «Флоренция» (1865), «Поэзия» (1868).
МАТИЛЬДА.
Голос лютни тихострунной
Прозвучал Матильде юной
Сквозь вечернее окно:
Не закрыты были ставни,
Схлынул вал жары недавней,
Так прохладно, так темно!
Ветерок скользил над нею,
Гладил волосы и шею,
Гладил плечи, осмелев,
И струились из прохлады
Сладкозвучные рулады
И пленительный напев.
Под окно из лунной пущи
Вышел юноша поющий,
Посреди ночных теней
Дерзостно представши взору,—
В дом, за шелковую штору,
Пожелал проникнуть к ней.
Все же деве было ясно,
Что впускать небезопасно
По ночам певцов к себе.
Сердце тает, словно свечка:
Береги свое сердечко,
Не ответствуй их мольбе!
Но стоял певец влюбленный
На лужайке на зеленой,
С лютней звонкой на весу,—
Он не пел: «Склонись поближе!»
Не шептал: «Впусти, впусти же!»
Нет, он пел ее красу.
Пел певец: «Какие брови!
Как сдержу волненье крови,
Если на уста взгляну?
Каждый взгляд ее недаром
Полон сладостным нектаром!»
Как не подбежать к окну?
Пусть доказало бесспорно,
Что весьма любовь злотворна,
Преисполнена тщеты —
Но как сладостно, как славно
Слышать, что на свете равной
Не найдется красоты!
И в окно она взглянула,
И мигнула, и кивнула,
И, смущения полна,
Опуская взоры долу,
Напевая баркаролу,
Закружилась у окна.
Но певец, упрям и зорок,
Видел: меж оконных створок
Показалась щель как раз…
Хрустнул куст, расцветший пышно…
Кто в окно скользнул неслышно —
Неизвестно. Свет погас.
СОЛДАТ ЕГЕРСКОГО ПОЛКА.
Эх, егерек, бедняга,
Седеющий солдат,
Слуга того же флага,
Что сорок лет назад!
Ты хворями тревожим,
Но койка в доме божьем
Не для твоих седин,—
Твой жребий безотраден,
Казенный кошт не даден,
Ты брошен, ты один.
Пускай трешкот разгромлен,
Влекомый бечевой,—
Неужто так же сломлен
И дух высокий твой?
Питомцы неудачи,
Вы вдоль дорог, как клячи,
Влачитесь, егерьки,
Шагаете без счета —
Помог бы вам хоть кто-то,
Да, видно, не с руки.
Упрямый, седоглавый,
Плетешься тяжело;
Со дней военной славы
Две сотни лет прошло:
Голландия, свободной
Воспряв из пены водной,
Поднять могла в гербе
Ветрило с бечевою,—
Отмстившая с лихвою,
Благодаря тебе!
Страна копила силу
Врагам наперекор,
Канату и ветрилу
Покорствовал простор,
Был величав и четок
Приказ луженых глоток,
И барки строем шли
Вдоль берегов прекрасных
Земель новоподвластных
И вдоль родной земли!
Но неудачный жребий
Нам выпал в те года,—
Зашла, как видно, в небе
Счастливая звезда.
Упрямо шли к победе
Чванливые соседи —
Поди, останови!
Хвала тебе, бедняге!
Лишь ты огонь отваги
Сумел сберечь в крови.
Эх, егерек, не ты ли
Отчизне был слугой?
Ты дряхнешь, ты в могиле
Стоишь одной ногой.
Но есть иное благо,
Есть честь и гордость флага,
И вновь грядет рассвет:
Над крепостною башней
Не свял еще вчерашний
Венец твоих побед!
Еще настанет битва,
Ты первым будешь в ней,—
Да сбудется молитва
Твоих тяжелых дней!
Былые помни войны,
Храни огонь, достойный
Наследья твоего,—
И в старости превратной
Блюди свой опыт ратный,
Живое мастерство!
Эх, егерек убогий,
Эх, егерек седой!
Озарены дороги
Счастливою звездой!
И вдаль с тобою мчится
К рассвету колесница,
Ты, гордый и прямой,
Стоишь в мундире новом,
Стоишь в венке лавровом —
Прими же грошик мой!
ТАК И ЭТАК.
О, радость юного огня,
Когда, усилий не ценя,
Я в горы шел, — когда меня
Манили кручи,—
Чтоб там, в тени густой сосны,
Познать величье вышины,
Где с осени и до весны
Гнездятся тучи.
Воистину бывал я рад,
Когда летел на землю град,
Небес багряный маскарад
Мне был по нраву,—
Но гром стихал, редела мгла,
Заря благую весть несла:
Ушла зима, весна сошла
На мир по праву!
Почтеннейшие! Навсегда
Умчались юности года,—
Как их воспомню без стыда
И сожалений?
В конюшне стоя без седла,
Была лошадка весела,
Она не грызла удила
В горячей пене.
Сияли зеленью леса,
Сверкала на траве роса,
Мне улыбались небеса
В начале мая,
Так звонко пели соловьи,
Но мне хотелось в забытьи
Оплакать горести свои,
Весне внимая.
О, встреча с морем и волной,
Когда палит июльский зной
И жаждет лист во тьме ночной
Почуять влагу,
Но вал морской к прибрежью льнет,
Прибой под скалами ревет,—
Веди ладью в водоворот,
Яви отвагу!
Как юный бог, спеша вдохнуть
Грозу в подставленную грудь,
Плывешь, победоносный путь
Во тьму нацеля,
Чтоб без руля и без ветрил
Скользить, покуда хватит сил,
Лететь, покуда не испил
Весь кубок хмеля!
О, роскошь — в поле иль в лесу
С ружьем тяжелым на весу
Умело выследить лису —
Хвала добыче!
А если крупно повезет —
Под вечер сбить тетерку влет,
Кто в восхищенье не придет
От доброй дичи?
О, роскошь юношеских лет,
Когда вела меня чуть свет
За раненым самцом вослед
Тропа оленья,
О, как он взоры мне ласкал,
И посреди отвесных скал
Величья гибели искал,
А не спасенья!
Крыла у юности легки:
Как сладостно надеть коньки
И с ветром наперегонки
Лететь свободно,
Бежать по брызжущему льду,
Забыть печаль на холоду,
В философическом бреду
Не гнить бесплодно!
Быть может, мне претил покой,
Я рвался в море сквозь прибой,
Меня над бездною морской
Валы качали;
Вернувшись, я лишался сил,
Меня смущал мой юный пыл,—
В забавах я не схоронил
Свои печали.
Звенел смычок в вечерний час,
Шли косари в веселый пляс,
Неужто счастье каждый раз
Лишь в танцах было?
Благоухал высокий стог,
В нем до зари проспать я мог,
А на хрустальный ручеек
Луна светила.
Порой из ближнего села
Навстречу мне девчонка шла,
Тропа всегда узка была
Среди пшеницы,
А нынче — сколько ни шумят
Цветы, но их покров не смят,
Навек увял роскошный сад
Моей денницы.
Чуть свет с постели я вставал,
Скорей, чем рог к охоте звал,
Но нет, я весел не бывал,
Охотясь в чаще,—
Печально брел по лесу я
И слышал только гром ружья,
И крики соек у ручья,
И стон щемящий.
О чем я думал в те года?
При свете солнечном всегда
Зеркальная равнина льда
Всего чудесней,—
Звенела песня над катком:
«Взгляни кругом, беги бегом»,—
Но не томился ль я тайком
При звуках песни?
О, как сверкает окоем,
Когда с подружкою вдвоем
То спуск встречая, то подъем,
Скользишь с опаской,
И на бегу почуешь вдруг
Касание горячих рук,
И, слыша шуточки вокруг,
Зальешься краской.
Нет, много лучше было мне
С друзьями — иль наедине —
Сидеть в домашней тишине
И беззаветно
Впивать живительный родник
В словах проникновенных книг,
Последних истин каждый миг
Взыскуя тщетно.
ВИЛЛЕМ КЛОС. Перевод Е. Витковского.
Виллем Клос (1859–1938). — Изучал классическую филологию в Амстердаме. Один из основателей журнала «Новый вожатый» (1885). Принадлежал к движению «восьмидесятников», чье значение далеко выходило за пределы нидерландской литературы (в частности, целое поколение индонезийских писателей начала XX в. выросло под их влиянием). В конце 80-х годов Клос был признанным главой нидерландской литературы. Клос находился под сильным влиянием поэтики Шелли и Китса; сонеты немецкого поэта Августа Платена и рано умершего нидерландского «восьмидесятника» Жака Перка были для него эталоном поэтической формы. Один из лучших сборников Клоса — его «Книга Младенца и Бога» (1888), состоящая из сонетов. После 1890 года поэт обращается к созерцательным философским стихам. Широкой известностью пользовались три сборника Клоса «Строфы» (1894, 1902 и 1913).
МЕДУЗА.
Взирает юноша с мольбою страстной
На божество, на лучезарный лик,
И тяжких слез течет живой родник,
Но изваянье к горю безучастно.
Вот обессилел он, и вот — напрасно —
Он рвется в смертный бой, но через миг
Он побежден, и вот уже поник,—
А камень смотрит хладно и ужасно.
Медуза, ты, лишенная души, —
Верней, душа твоя прониклась ядом
В бесслезной, нескончаемой тиши,—
Пускай никто со мной не станет рядом,
Но я склоню колени — поспеши
Проникнуть в душу мне последним взглядом.
ВЕЧЕР.
Куртина в ясных сумерках бледна;
Цветы еще белей, чем днем, — и вот
Прошелестел за створками окна
Последней птицы трепетный полет.
Окрашен воздух в нежные тона,
Жемчужной тенью залит небосвод;
На мир легко ложится тишина,
Венчая суеты дневной уход.
Ни облаков, ни ветра нет давно,
Ни дуновенья слух не различит,
И все прозрачней мрак ночных теней,—
Зачем же сердце так истомлено,
Зачем оно слабеет, — по стучит
Все громче, все тревожней, все сильней?
* * *
«О море бурное…».
О море бурное, что бьется в страсти дикой,
Зерцало, данное изменчивой судьбе,
О море, вечное в неверности великой,
Даритель красоты, неведомый себе.
Одето влажною лазурного туникой,
Преображенное в немыслимой волшбе,
Оно грядет к брегам толпой тысячеликой,
И в ярости ревет, и сетует в мольбе.
О, если бы моя душа вострепетала,
Как море синее, светла и хороша,
Я не томился бы в тщете земной устало,—
С презреньем низкие заботы отреша,
Благой покой познав, душа бы морем стала —
У моря нет границ, — так стань же им, душа!
* * *
«Я — царь во царстве…».
Я — царь во царстве духа своего.
В душе моей мне уготован трон,
Я властен, я диктую свой закон
И собственное правлю торжество.
Мне служат ворожба и колдовство,
Я избран, возведен, провозглашен
И коронован лучшей из корон:
Я — царь во царстве духа своего.
Но все ж тоска порою такова,
Что от постылой славы я бегу:
И царство и величие отдам
За миг один — и смерть приять смогу:
Восторженно прильну к твоим устам
И позабуду звуки и слова.
ABE МАРИЯ.
Была ночная синева нежна;
Я грезил; из неомраченной дали
Златые звезды ласково сияли;
Дремала утомленная луна.
И грезою предстала мне Она —
Созвездия, столь ясные вначале,
Над ней слились в подобие вуали,
Струящейся, как чистая волна.
Возлюбленная, Ты явилась мне!
Мария, аве! — к небу возлетая,
Возник мой голос в воздухе ночном,—
Исчезли мысли обо всем ином:
Я видел, как стоишь Ты, Пресвятая,
В златом дожде, висящем в вышине.
* * *
«Деревья в позднем золоте стоят…».
Деревья в позднем золоте стоят
И ждут зимы недальнего прихода.
Как бы вершит осенняя погода
Прощанья с жизнью медленный обряд.
Любовью и поэзией объят
Я был всю жизнь, — мне не лгала природа, —
Но в окончанье бытия и года,
Как понял я, никто не виноват.
И невозможно сделаться покорней,
Чем из бегущей жизни вырвав корни,
И помыслы становятся просты:
Небытие придет на смену яви,
Ожить не вправе мертвые цветы —
Но я в своем стихе воскреснуть вправе!
АЛЬБЕРТ ВЕРВЕЙ. Перевод Е. Витковского.
Альберт Вервей (1865–1937). — Поэт, критик, историк литературы. Один из виднейших участников движения «восьмидесятников». В 1901 году Вервей основывает журнал «Двадцатый век», в 1905 году журнал «Движение». В 30-е годы А. Вервей выступил с осуждением фашизма.
Ранняя поэзия Вервея находится под сильным влиянием Шелли, Китса, Гете, а также Стефана Георге, с которым поэт состоял в многолетней переписке. Поздний Вервей обращается к жанру философских раздумий.
Наиболее известны сборники Вервея «„Персефона“ и другие стихотворения» (1885), «О любви, имя которой — дружба» (1885), «Земля» (1886), «Новый сад» (1898).
ТЕРРАСЫ МЕДОНА.
Далекий город на отлогих склонах,
Ни шороха в легчайшем ветерке.
Прислушался — услышал смех влюбленных,
Гуляющих вдвоем, рука в руке.
Неспешным взором тщательно ощупал
Незыблемые профили оград,
Отягощенный облицовкой купол,
Старинный водоем, осенний сад.
И на руинах каменных ступеней
Болезненно осознаю сейчас,
Что мертвые предметы совершенней
И, как ни горько, долговечней пас.
МЕРТВЫЕ.
В нас мертвые живут, мы кровью нашей
Питаем их, — в деяньях и страданьях
По равной доле им и нам дано.
Мы вместе с ними пьем из общей чаши,
Дыханье их живет у нас в гортанях,
Они и мы — вовеки суть одно.
Да, мы равны — но мертвые незрячи;
Одним лишь нам сверкает свет Вселенной,
Одним лишь нам дороги звезд видны.
Вовеки — так, и никогда — иначе,
И оттого для них вдвойне бесценна
Мечтательная тяжесть тишины.
СОЗВЕЗДИЕ.
Была темна дорога, словно ров.
Он знал, что в зарослях таятся змеи.
Бледнел закат полоской вдалеке.
И он ступил, спокоен и суров,
На узкий путь — и разве что сильнее
Свой виноградный посох сжал в руке.
И мнилось, что огромную змею
Он убивает в тусклом звездном свете,
На небе встав над нею в полный рост.
И там, у эмпирея на краю,
Его обвили золотые плети
Мерцающего лабиринта звезд.
АСТРОНОМУ.
Ты знаешь звезды и в ночную пору
Глядишь на карту, а не в глубь небес,
И твоему внимательному взору
Ясны размеры звезд, их яркость, вес.
Вокруг тебя в непостижимой дрожи
Сомкнулся Космос обручем одним,
Но нет на свете ничего дороже,
Чем образ, — он в твоей душе храним:
Там, в сельском доме, где сердца влюбленных
Сейчас ведут неспешный разговор,—
Стирают мысль о солнцах и эонах
Веселый детский смех и женский взор.
* * *
«Скорби и плачь…».
Скорби и плачь, о мой морской народ!
Еще недели две, тревожных даже,—
Продав улов, при целом такелаже,
Себя счастливым счел бы мореход.
Но тени над прибрежиями виснут,
И воет шторм, за валом вал валя,
Что возразит скорлупка корабля,
Когда ее ладони шквала стиснут?
Трещит канат, ломается бушприт,
Летят в пучину сети вместе с рыбой,
На борт волна ложится тяжкой глыбой
И дело черное во тьме творит.
Пусть вопль еще не родился во мраке,
Лишь пена шепчется, сводя с ума,
Но борт хрустит, ломается корма…
Качай, насос! Вода на полубаке!
Придет рассвет, но нет спасенья в нем,
Кораблик вверх глядит пробитым трюмом.
И женщины с усердием угрюмым
Глядеть на море будут день за днем.
Лишь гулкой тишиной полны просторы.
Мы — нация бродяг в стране морской,
Нам неизвестны отдых и покой,
И зыбко все, и нет ни в чем опоры.
СЕМЕРО ПЛУТОВ.
Король и верный полицай
Как-то направились вдаль.
Полицай перчатками гордо сверкал,
Король же — кушал миндаль.
И увидал король: в лесу
Прячутся семь плутов.
И молвил король: «Не дремли, полицай,
Ты, надеюсь, к делу готов!»
Полицай сказал: «Наручников нет,
Однако есть шнурок!»
Но молвил король: «Все равно вяжи,
Дадим плутам урок!»
И первому плуту тогда
Сказал полицай: «Прости,
Любезный, свяжи-ка руки себе
И остальным шести!»
Всех семерых шнурком связал
И молвил: «Что ж, идем!
К эшафоту бегите, семь плутов,
Между мною и королем!
Повесить вы себя должны —
Вас виселицы ждут!
Позор не смыт, покуда в стране
Есть хоть единый плут!»
И к виселице семь плутов
Направились гурьбой,
И в них король все время бросал
Миндальной скорлупой.
Но возле виселицы — шнурку
Нашлась иная роль:
На нем повешен был полицай,
А вместе с ним — король.
НОРВЕГИЯ.
ЮХАН СЕБАСТЬЯН ВЕЛЬХАВЕН.
Юхан Себастьян Вельхавен (1807–1873). — Поэт-романтик. Родился в семье священника. Получил богословское образование. В противоположность Х.-А. Вергеланну (см. о нем ниже), утверждая общность духовной жизни и культуры Дании и Норвегии. От художнике поэт требовал ясности и стройности изложения. Литературная полемика Вельхавена с Вергеланном отразилась в стихотворении «К Хенрику Вергеланну» (1830) и в целом ряде других произведений. Основное вклад Вельхавена в норвежскую поэзию — сборник сатирических сонетов «Рассвет над Норвегией» (1834), критикующих состояние норвежской духовной жизни и адресованных Вергеланну. Лирика Вельхавена, собранная и книгах «Стихи» (1839), «Сборник стихов» (1860), посвящена главным образом изображению норвежской природы и душевной жизни человека. Поэт внес существенный вклад в сокровищницу национальной культуры.
На русском языке произведения Вельхавена публикуются впервые.
ТЕРНОВНИК. Перевод А. Шараповой.
Ты любишь дерево — но без шипов.
А ты ведь знаешь, сколько есть врагов
У неокрепшей поросли, но редко
Ты перевяжешь раненую ветку,
Заметив кровь на лепестках цветов.
Но терние — лишь след зажившей раны.
И древу, как тебе, пришлось страдать,
Чтобы потом цветами запылать
И обрасти листвой благоуханной.
Когда весной я через рощу шел,
То дерево, склоняя гибкий ствол,
Шептало мне: «О милый, ненавидя
Меня за каждый маленький укол,
Не вспоминал ты о моей обиде!»
БЕРГЕНСКИЙ ОКРУГ. Перевод И. Озеровой.
Ветер подул с востока,
В листьях лип вздохнул одиноко,
Туча на запад плавно плывет,
Грусть унося с собою,
Туда, где в пене прибоя
Детство стареет за годом год.
Детства дни золотые —
В книжке старинной картинки цветные,
Каждой картинки напев узнаю,
Все, что грезилось, — рядом:
Под пенистым водопадом
Мне Хульдра[231] вручила арфу свою.
Знаешь ты влажные нивы?
Словно храм, они молчаливы,
Безымянны, безлюдны, бесплодны они.
Над речками цвета стали
Березы мне подсчитали
Всех утрат моих черные дни.
Видел ты лес, нависший
Над рекой, над волной наивысшей
В тяжеловесной графике скал?
Там, на полянах цветочных,
Счастья глубинный источник
Под птичьими гнездами я отыскал.
У ограды райского сада
Вечной стражи сурова преграда:
Хребты рассекли небосвод, как клинки,
Но на доспехи героя
Дисе[232] роняет порою
Всех беззащитных роз лепестки.
Там берега пустынны,
К ним плывут киты-исполины —
В шторм даже их защищает земля,
Флаги над бухтами реют,
Фрукты червонные зреют
Около мачт твоего корабля.
Там создал господь на пробу
Тень бессмертья для смертной особы.
Там лес и залив звучат, как хорал,
Песни дрозда повторяя,
Эхо сурового края.
Слышится в храме сводчатых скал.
Мечта не знала заката
В моих светлых дубравах когда-то,
Где качалась моя колыбель в тишине;
От страшного сновиденья,
От тяжкого пробужденья
Память лучше лекарств помогает мне.
Душа Норвегии, здравствуй!
В зимних бурях опасных странствий
Ты как титан, закаленный в борьбе;
Но под броней тяжелой
Вижу тебя веселой,
Бьется сердце любви в тебе.
СИЗИФ[233]. Перевод А. Шараповой.
[233].
Счастливые могли сойти гурьбою
В Элизиум[234], где медленная влага
Бесшумных рек и полнота покоя
Напоминала им земные блага.
Но мне открылась даль иного мифа:
Зеленый куст, склонившийся над Летой[235],
Стон музыки и немота Сизифа.
Проходят дни. Зима сменяет лето.
Счастливые несутся пестрой стаей.
Ничтожные бредут толпой унылой.
Он рвется вверх, безмерно вырастая —
Еще гордясь закабаленной силой.
Уже вот-вот он будет на вершине,
Толпа теней его припомнит имя.
Но камень рухнул — и опять в долине
Его следы пересеклись с другими,
Высот не испытавшими следами.
И сам себе он кажется безвольным
Ничтожеством: он не осилил камень,
Который мог бы стать краеугольным.
Нагорный храм мог сделаться итогом
Его мечты, возвысившись над бездной…
Несчастный грешник, ты осмеян богом —
Ты побежден в сраженье с бесполезным.
Но каждым низвержением гранита
Ты давишь змей, крадущихся по склонам.
Храм не воздвигнут, но змея убита.
Ты победил в стремленье непреклонном.
ВЕСЕННЯЯ НОЧЬ. Перевод И. Озеровой.
Ночи весенней смутные сны
Дарят долинам покров тишины,
Реки протяжные песни поют
В ритме ночных колыбельных минут.
Словно в идиллии,
Молят у лилии
Эльфы: «Позвольте остаться нам тут!»
Скоро взойдет молодая луна,
Свет серебристый рассыплет она,
И проплывут над землей облака
Сном лебединым, неясным пока.
Вскоре, лучистые,
Девственно-чистые,
Высветят чувства картину слегка.
Так пробудись! Как бесценнейший клад,
Память живую отыщет твой взгляд.
Здесь ты один. Созови на совет
Воспоминания прожитых лет.
Тихо, как облако,
Призраком облика
Время проступит сквозь пепельный свет.
Слышишь, как птицы поют в сосняке…
Все, что мечтал ты услышать в тоске,
Опытом прожитой жизни измерь
Все, что открыл ты в природе теперь,—
В лунном свечении
Лед облегчения
Прежних страданий твоих и потерь.
ХЕНРИК АРНОЛЬД ВЕРГЕЛАНН. Перевод И. Озеровой.
Хенрик Арнольд Вергеланн (1808–1845). — Крупнейший поэт-романтик. Родился в семье священника, изучал в университете теологию, историю, ботанику и медицину. Выражал радикально-демократические взгляды, был сторонником крестьянской демократии. В 1830–1839 годах издавал журнал «Для общины»; с 1838 года до последних лет жизни — журнал «Для рабочего класса». В сборниках «Стихи, первый цикл» (1829) и «Стихи, второй цикл» (1833), проникнутых идеями политического свободомыслия, стремлением к национальному освобождению Норвегии и со культурной независимости от Данни и Швеции, поэт живо откликается на события, происходящие в Европе. Свое политическое и духовное кредо Вергеланн выражает в поэме «Создатель, человек и мессия» (1830); обличая тиранию королевской власти и гнет религии, он провозглашает идеал народной республики. В 1844 году в повой редакции этой поэмы Вергеланн утверждает свою веру в победу добра и справедливости над царством тираним и лжи. Стих Вергеланна отличается яркой метафоричностью и смелостью образов; поэт часто обращается к свободному стиху. В конце 30-х — начале 40-х годов Вергеланн создает ряд прозаических и драматических произведений. Умер от туберкулеза.
Творчество Вергеланна оставило яркий след в истории норвежской культуры и оказало большое влияние на писателей последующего поколения, в том числе на Б. Бьёрнсона и Г. Ибсена.
На русском языке стихи Вергеланна публикуются впервые.
ВЕСНЕ.
Весна! Спаси меня, весна!
Тебя любил я всех нежнее.
Трава ценней, чем изумруд,
И анемоны — сердце года,
Хотя наступит время роз.
Они порою снились мне,
Ко мне склонялись, как принцессы.
Но Анемона, дочь весны, всегда душой моей владела.
О Анемона, подтверди, как я склонялся пред тобою!
Ты, мать-и-мачеха, и ты, бездомный пыльный одуванчик,
Скажите, как я вас ценил — превыше злата неживого.
Ты, ласточка, поведай всем, как для тебя я пир устроил,
Когда вернулась из скитаний
Ты, как посланница весны.
Скажи холодным облакам, чтоб не вонзали больше иглы
В мою израненную грудь…
Ты, старый дуб, как божество
Мной почитаемый, я ночки
Твои воспел, как жемчуга!
Хотелось стать мне юным кленом
И крону нежную мою связать с твоим бессмертным корнем!
Скажи, старик, что это правда,
Ты патриарх — тебе поверят.
Ты защити, а я вином поить весною корни стану
И бескорыстьем поцелуя все шрамы вылечу твои.
Весна! Старик давно охрип,
У анемон устали руки,
Простертые к тебе с мольбой,—
Спасти того, кто любит верно.
МОЕЙ ЛАКФИОЛИ.
Когда ты блеск утратишь свой,
Я не прощусь с твоей листвой,
Я буду там, где мы росли,
Как часть земли.
Тебе я шлю последний крик,
Последний взгляд к тебе приник;
И в трепете воздушных струй
Последний поцелуй.
Я дважды прикоснусь к устам,
Сначала попрощаюсь сам,
А роз моих любимых куст
Твоих коснется уст.
С ним разминусь, уйду во тьму…
Ты передай привет ему,
Пусть на могиле зацветет,
Когда пора придет.
Хочу, чтоб на груди моей
Лежала роза новых дней…
Прошу, в дом смерти призови
Ты только свет любви.
АРМИЯ ПРАВДЫ.
Слово? Кто услышит слово,
Боль стихов?
Вечна беззащитность слов.
И когда слова готовы
В бой идти, где им силы наскрести?
Правдой мир пренебрегает.
Но пред ней
Небо блеск своих огней
В молнии переплавляет.
Это весть, что величье правды — есть.
Почему ж в сраженье этом
Не видна
Та, что небом рождена
И одета звездным светом?
Что ж вперед на врага нас не ведет?
Почему не разбивает
Войск шатры
Там, где в бой идут миры,
Где героев убивают?
Тем, кто должен пасть,
Дай над жизнью власть.
Войско тьмы сломить не просто.
Так прочны
Суеверия опоры, так черны,
Что от люльки до погоста
Краток путь.
Трудно тьму перешагнуть.
Но — вперед! — сквозь боль и беды,
Войско слов!
Ведь творцом в конце концов
Вам обещана победа.
До конца —
С правдой, детищем творца.
Слово! Правды славный воин!
Ты храбрец!
Из достойнейших сердец
Будет храм тебе построен.
Мир простер
Над тобой небес шатер.
Слово! Приоткрой забрало
И — вперед.
Сила слова все растет,
Хоть порою сил так мало.
Лишь тебе
Вечность суждена в борьбе.
Потому, малыш отважный,
Не ропщи,
В пораженье отыщи
Отблески победы важной.
В мраке лжи
Тропку правды подскажи.
Я САМ.
Неужто я не в духе, Моргенблад[236]? Хоть мне необходимо только солнце,
Чтобы от счастья громко рассмеяться…
Вдохнув листвы нежно-зеленый запах, я, как от легкого вина, пьянею
И забываю бедность и богатство, друзей моих и недругов не помню.
О щеку трется кошка неяшой шерстью и ссадины душевные врачует;
И глазах собаки, как на дне колодца, топлю я беды горькие мои.
Плющ под окном мне на ладонях листьев
Приносит разные воспоминанья, которые не надо бы хранить.
Прошепчут капли первого дождя мне имена людей, меня предавших,
И лабиринты дождевых червей они отравят, соскользнув на землю.
Меня, кто сто восторгов испытал от центифолии столепестковой,
Меня всего один листок газетный принудить хочет, чтобы я убил
Секунду радости.
А это — словно коварное убийство беззащитных небесно-нежных
И пурпурно-пышных беспечных бабочек;
Подобный грех бессмыслен и до дна души пронзает.
И еще — попытка серым пеплом седины мне волосы до срока опалить,
Стряхнуть жемчужины секунд счастливых, которые усердно сеет время.
Нет, горе-борзописцы! Лисьи когти напрасно вы вонзаете в скалу,
Цветы и мох соскабливая с камня.
Как в раковине злобная песчинка, жемчужиной нападки станут в сердце,
И диадему крепнущего духа они однажды радостно украсят.
Где ненависть? На тысячу локтей ее уносят, улетая, птицы,
Она, как снег, под вешним солнцем тает и растворяется в морской пустыне.
Но почему бы крови не кипеть в живущих жилах?
Разве справедливо лишить ландшафт кипящего ручья?!
Вы, ивы высочайшие, терпите, когда ручья стремительная пена
Среди камней омоет ваши корни.
Мне не по праву вечно голубое, похожее на круглый глаз глупца,
Извечно одинаковое небо.
И разве небо хуже оттого, что в нем живут изменчивые тучи —
Необъяснимые вассалы солнца?
И если бы я был совсем один,
То разве стал бы менее великим тогда господь наедине со мной?
Не жалуйся на беспросветность жизни, на звезды глядя,—
Ведь они, мерцая, о вечности беседуют с тобой.
Сегодня ярко светится Венера! У неба тоже, может быть, весна?
О ней мечтали звезды зимней ночью; теперь они сияют: Аллилуйя!
У смертных множество богатств несметных!
Душа, цветеньем неба наслаждаясь, приветствует цветение земли.
Она прекрасней, чем весною звезды, хотя зенит цветенья не настал.
Я обнажаю голову пред ликом звезды вечерней.
Словно дождь хрустальный, она на землю изливает свет.
В родстве с душою звезды.
По вселенной идет душа, лицо, как маску, сбросив
И грубый грим морщин стерев легко.
Потом в душе застынет звездный свет, напоминая алебастр покоя.
Как статуя, душа внутри меня; внимательно в ее черты вглядитесь!
Теперь они, наверное, такие, как вам хотелось. Да, они застыли
В немом сарказме.
У моей души — отныне кроткая улыбка трупа. Так почему же вы
Опять боитесь?
О, черт! Под алебастром сердце бьется, смеется и трепещет.
И не в силах к нему вы жадность дланей протянуть.
БЬЁРНСТЬЕРНЕ БЬЁРНСОН.
Бьёрнстьерне Бьёрнсон (1832–1910). — Один из крупнейших норвежских писателей-реалистов. Родился в семье сельского священника. Занимался журналистикой. Принимал активное участие в борьбе за независимость Норвегии, за создание норвежского литературного языка, выступал против милитаризма. Широкую известность Бьёрнсону-прозаику принесли повести из крестьянской жизни «Синневе Сульбаккен» (1857), «Веселый парень» (1860) и др. В эти же годы Бьёрнсон создает ряд романтических пьес на исторические сюжеты, пишет поэмы и лирические стихотворения. Поэзия Бьёрнсона проникнута духом борьбы за свободу; в ней звучат мотивы любви к родине, ее природе, к норвежскому народу. Драмы Бьёрнсона 70-х годов «Банкротство» и «Редактор» знаменовали собой наряду с пьесам Г. Ибсена рождение реалистической социальной драмы в Норвегии. Острая критика буржуазной действительности, характерная для этих произведений, продолжается и в драмах Бьёрнсона («Перчатка», «Свыше наших сил» и др.). В 1903 году Бьёрнсон становится лауреатом Нобелевской премии.
Творчество норвежского писателя оказало большое влияние на развитие литературы в Норвегии и других скандинавских странах. В России оно получило высокую оценку Л. Н. Толстого и А. М. Горького. Произведения Бьёрнсона неоднократно переводились на русский язык.
МЫ ЛЮБИМ ЭТОТ КРАЙ. Перевод В. Левика.
Да, мы любим край родимый,
Край лесистых круч,
Море, ветер нелюдимый,
Небо в хлопьях туч.
Любим дым родного дома,
И отца, и мать.
Стужи бодрость нам знакома,
Солнца благодать.
Гаральд здесь набегам вражьим
Положил предел.
Хокон был нам верным стражем,
Эйвин песни пел.
Начертал здесь кровью Олаф
Крест на склонах гор.
Сверре вел из этих долов
С новым Римом спор.
На врага точили бенны
Топоры свои.
Торденскьольд в поход священный
Выводил ладьи.
Жены защищали кровью
Честь родной земли
И без жалоб участь вдовью
До конца несли.
Правда, нас немного было,
Но хватало все ж,—
Коль валила вражья сила,
Все брались за нож!
Лучше сжечь гнездо родное,
Чем отдать врагу.
Я напомнить вам, герои,
Фредриксхалл могу!
Но насупилась погода,
И пришла беда.
Синеглазая Свобода
Родилась тогда.
С нею все легко, и что там
Голод иль война!
Даже смерть для нас почетом
Сделала она!
Враг бежал, покинув сечу,
Но, подняв булат,
Вышел нам визирь навстречу,
Наш названый брат.
Огорчась, без чувства мести
Спор вели мы с ним,
И теперь, три брата, вместе
Мы навек стоим!
Славь, Норвегия, свой жребий,
Ибо в дни тревог
Бог тебя услышал в небе
И тебе помог,—
Чтоб не жертвою кровавой,
Не ценой войны
Отстояли мы и право,
И покой страны.
Да, мы любим край родимый,
Край лесистых круч,
Море, ветер нелюдимый,
Небо в хлопьях туч,
И, как бились наши деды —
Гордость наших лир,—
Будем биться до победы,
Но за вечный мир!
ПРИНЦЕССА. Перевод В. Левика.
Принцесса в высокой светелке сидит,
А парень проходит и в дудку дудит.
«Эй, малый, зачем разыгрался? Уймись!
Когда б не мешал ты, мечтой бы я ввысь
Под солнце взлетела».
Принцесса в высокой светелке сидит,
А парень идет и уже не дудит.
«Эй, малый, ты что ж не играешь? Стыдись!
Когда б заиграл ты, мечтой бы я ввысь
Под солнце взлетела».
Принцесса в высокой светелке сидит,
А парень проходит и снова дудит.
Но в сумраке, плача, вздыхает она:
«О чем я тоскую? Я, видно, больна,
И солнце уж село».
О, ЕСЛИ Б ТЫ ЗНАЛА! Перевод В. Левика.
Не смею с тобой завести разговор,
Не смеешь ты кинуть мне ласковый взор,
Брожу здесь, и думаю все об одном,
И вижу тебя за высоким окном,
И мысли плывут, словно челн без причала,
А нам ни спросить, ни взглянуть, как бывало,
О, если б ты знала!
Когда я стоял тут на страже всегда,
Была ты со мной холодна и горда.
Стал редким я гостем, но видел не раз,
Что ты не отводишь от улицы глаз.
Два глаза людей погубили немало.
Лишь тех, кто не сдался, беда миновала.
О, если б ты знала!
Но ты не узнала, и в горькой судьбе
Стихи, как письмо, написал я тебе.
С каким бы восторгом взлетело оно
Туда, где ты, нежная, смотришь в окно!
Уйду — чтоб не видела ты, не слыхала.
Храни тебя небо от лютого шквала!
О, если б ты знала!
МОРЕ ВСКРЫЛОСЬ. Перевод В. Левика.
Море вскрылось, море вскрылось!
Как зимою долги ночи,
Ждать весны не стало мочи!
Скоро ль синью вспыхнет море?
Час — как месяц! То-то горе!
Море вскрылось, море вскрылось!
Любострастник, лед скрипучий,
Просит ласки солнца жгучей.
Солнце греет — весь он млеет,
Солнце прочь — и он твердеет.
Море вскрылось, море вскрылось!
Шторм, ведь есть же лето где-то,
Выбрось нам волнами лето!
Приходи! Взмети буруны!
Пусть поспорят с бурей шхуны!
Море вскрылось, море вскрылось!
Виден парус, пароходы,
Небо ясно, ясны воды.
Мир нам шлет благие вести,
В мир мы шлем деянья чести.
Море вскрылось, море вскрылось!
Солнце, зной ли, дождь, прохлада —
Вся земля поет, им рада,
И, влюбленный, обновленный,
Дух ликует просветленный.
МНЕ ВСЕ В АПРЕЛЕ МИЛО. Перевод В. Левика.
Мне все в апреле мило.
Уходит то, что старо,
И новому черед.
А коль начнется свара,
Так ведь покой гнетет.
В желанье — вот где сила!
Мне все в апреле мило,
И лед, под солнцем зыбкий,
И штормы, и ветра,
Надежды, сны, улыбки,
Все говорит: пора!
И лето прикатило!
НОРВЕЖСКАЯ ДЕВУШКА. Перевод А. Шараповой.
Ты со смущеньем и насмешкой
От этих слов уходишь вдаль,—
Но я люблю тебя, норвежка,
Чья прелесть тоньше, чем вуаль.
Твой взгляд скользит легко и странно,
Как свет луны в полночный час,
И есть ли лес такой туманный,
Где б я не видел этих глаз?
Я так люблю твой профиль гордый,—
Как яснозвездная зима,
Он чист. И все изгибы фьорда
В загадках твоего ума;
И эти пряди — белокуры,
Обвиты лентой позади,
Как в сказках древности амуры,
Трепещут на твоей груди;
Люблю твой гибкий стан в движенье,
Когда за свадебной фатой
Ты прячешь смутное влеченье,
Играя властью озорной;
И ножки — им дано природой
Нести с победой дни твои
Из царства силы и свободы
В обитель долга и любви.
И эти губы — для счастливых
Оберегает их Эрот.
Корабль трофейный при отливах
Моряк удачливый берет.
Люблю! Но вот судьбы насмешка:
Ты не признаешь свой портрет.
Не верит ни одна норвежка
Всему, что говорит поэт.
МАРШ РАБОЧИХ. Перевод Э. Александровой.
Раз, два! Строй! Равненье!
Строй — залог удач в сраженье!
В строй — и масса станет целым,
Слабый — сильным, робкий — смелым!
Веселей в строю дорога,
Цель видней в строю намного:
Предстает нам четкой, близкой,
Как в бинокль артиллерийский!
Раз, два! Строй! Равненье!
Строй — залог удач в сраженье!
Если сотня выйдет строем,
Кое-кто кошель раскроет;
Если тысячи сплотятся,
Шум такой начнется, братцы,
Что от этакого шума
Содрогнутся толстосумы!
Раз, два! Строй! Равненье!
Строй — залог удач в сраженье!
Если встанем, строй равняя,
Все, от края и до края,
От границы до границы,
Недруг силе покорится,
И тогда, простой народ,
Все у нас на лад пойдет.
ПЕР СИВЛЕ. Перевод О. Чухонцева.
Пер Сивле (1857–1904). — Поэт, прозаик, журналист. Родился в семье сельскохозяйственного рабочего. В юности намеревался стать священником. Религиозные настроения Сивле нашли свое отражение в первом сборнике стихов — «Мечты поэта» (1878); участие в рабочем движении помогло поэту избавиться от религиозных воззрений. Агитационная политическая лирика Сивле, гневно протестующего против угнетения трудящихся, принесла ему широкую известность. Под влиянием социалистических идей Сивле в 1881 году создает роман «Забастовка. Рабочий роман» (издан в 1891 г.) — первое в Норвегии произведение, посвященное рабочему классу. В конце 90-х — начале 900-х годов выходят в свет новые сборники стихов поэта «Норвегия. Национальные стихи» (1894), «Песня Улава» (1901) и др. В своих произведениях, проникнутых глубоким патриотическим чувством, Сивле обращается к темам национальной истории, изображает жизнь норвежских трудящихся. Лирика Сивле отличается тонким психологизмом и художественной выразительностью. Многие стихи Пера Сивле написаны на диалекте.
На русский язык стихи Сивле переводятся впервые.
ЖАВОРОНОК.
Вон жаворонок,
Он мал, да удал:
Чтоб кочку сыскать,
Он точкою стал
И песню запел,
Запел в вышине,
Видать по всему,
Поверил весне:
— О хай! о хи! о тирилити!
Вон жаворонок
Взлетел за лучом,
Чтоб солнце достать
И стать богачом,
И так его трель
Трепещет светло,
Как будто не снег
В полях, а тепло:
— О хай! о хи! о тирилити!
Вон жаворонок
Пропел — и пропал,
На вереск слетел,
Зерна поклевал,
А как поклевал —
Прощайте! —
И вот всевышнему он
Хвалу воздает:
— О хай! о хи! о тирилити!
Пошли тебе бог,
Невидимый птах,
Всего на земле
За трель в небесах!
И мне, если мрак
И снег на пути,
Дай веру твою,
Чтоб песню найти:
— О хай! о хи! о тирилити!
СОЛНЦЕ.
Нет, только взгляните,
Как блещет огнем
Над кручами шапка седая.
Там солнце струится
Златящим дождем,
Нам теплый привет посылая.
И тысячи взглядов,
От сна отходя,
Стремятся напиться
Сухого дождя.
Да, всем нужно солнце,
Но солнечный свет —
Не ясное небо, где облачка нет.
Зима беспощадна, и крут ее гнет,
Глухим навалившийся снегом.
Но жизнь и под снегом
Неслышно идет
Навстречу весенним побегам.
Цветной и муравый
Ковер расцветет,
И бабочка день свой
Легко проживет.
— Им всем нужно солнце,
Но солнечный свет —
Не ясное небо,
Где облачка нет.
Мы господа славим,
И наша хвала
С молитвой возносится в небо.
Мы господа просим,
Чтоб столько тепла
Послал, сколько нужно для хлеба.
Дай солнца нам, боже,
Оно в вышине
И в праздники — праздник,
А в будни — вдвойне.
Дай солнца нам, боже!
— Но солнечный свет — не ясное небо,
Где облачка нет.
ТОРД ФОЛЕСОН[237].
[237].
У стен Стиклестада
Сошлись тяжело
Отжившее время
И то, что прошло,
Сошлись не на шутку
И то, что погинет,
И то, что на смену
Знамена поднимет.
Мечи обнажили
Для схватки всерьез
Король — добрый Улаф
И Туре — злой пес.
Рога затрубили,
И кони заржали,
И копья взлетели,
И стрелы упали.
И был один воин,
Кто славу стяжал,
Он Улафа знамя
Достойно держал —
Торд Фолесон смелый.
С тех пор и доныне
Норвегия помнит
О доблестном сыне.
Спроси кого хочешь —
Расскажет любой,
Как, раненный насмерть,
Он бросился в бой,
Да, прежде, чем рухнуть,
Рванулся без страха,
Древко в поле битвы
Вонзая с размаха.
И в саге поется,
И мы подтвердим:
Торд рухнул — но знамя
Стояло над ним.
И каждый так должен
За знамя бороться
По первопримеру
Того знаменосца.
Кто умер за знамя,
Тот пал как герой,
Но знамя не дрогнет
Над нашей землей.
И каждому ясно,
Что правда — за нами,
Коль держит и мертвый
Победное знамя.
УКРОЙ МЕНЯ, МАТЬ!
Ребенок к груди материнской припал,
Ему хорошо — и малыш задремал.
Проснувшись, играть побежит он во двор.
Вот страшная туча идет из-за гор.
От страха дрожа, прибежит он домой
И с ревом уткнется в подол головой:
— Укрой меня, мама, спрячь!
По белому свету бредет пешеход,
Куда бы ни шел — он по кругу идет.
И если однажды устанет идти,
И если почувствует: все позади,
Бессильный, лежит он неведомо где,
Тоскуя, как птица о теплом гнезде:
— Укрой меня, мать-земля!
Ребенком я был — и мужчиною стал,
Мечтал о большом — и мечты растерял.
В скитаньях бывала и жизнь не мила,
Да перед глазами дорога была.
Но сердце устало, и ночь впереди,
И вырвется вздох из усталой груди:
— Укрой меня, мать-земля!
ПОЛЬША.
КАЗИМЕЖ БРОДЗИНСКИЙ. Перевод А. Ревича.
Казимеж Бродзинский (1791–1835). — Поэт и критик. Писал в духе позднего сентиментализма, был одним из предшественников романтического направления в польской литературе. В молодости служил в польских войсках, сражавшихся на стороне Наполеона, в 20-е годы преподавал литературу и эстетику в Варшавском университете. Чуждый политического радикализма, он и в литературных спорах занимал примиренческую позицию, признавая достоинства и классицизма и романтизма; призывал к созданию оригинальной национальной поэзии, основанной на обращении к старопольской традиции и к народному творчеству. Интересом к фольклору, простонародному быту (рисуемому в идиллических тонах) отмечены и собственные произведения Бродзинского (особенно известна поэма «Веслав», 1820).
КРАКОВЯКИ.
Подбоченился, притопнул, поклонился чинно.
Всякий раз, как песню кончат, кружит в танце девку
И опять на землю ставит, лишь начнут запевку.
К солнышку — подсолнух, вкруг земли — светило,
Вкруг тебя вращаюсь, так приворотила;
К солнышку — подсолнух, вкруг земли — светило,
Что же взор отводишь, очи опустила?
Яблочко румяно — путь заказан к саду,
Хороша Олехна — рядышком не сяду.
Как без речки рыбка мается, бедняжка,
Так с твоей красою мне расстаться тяжко.
Конь мой из конюшни вырвался на волю,
Сам к тебе помчался по широку полю;
Без меня найдет он верную дорогу,
Мне ж забыть тропинку к твоему порогу.
Пышен цвет весною, пташки распевают,
Всем весна в усладу, всем лучи сияют.
Я пока что молод, ты еще прекрасна,
Но краса и младость — все пройдет напрасно.
Долы задрожали, солнце туча скрыла,
Когда ты другому взгляд свой подарила.
Ой, моя Олехна, светик мой вчерашний,
Нет меня с тобою — с кем заводишь шашни?
Зря словам я верил, зря теперь тоскую,
Речь твоя — на ветер, песнь моя — впустую.
Сгину — не заплачешь, вижу: бессердечна,
Но тебя, покинув, буду помнить вечно.
Прежде, чем покину, — слышишь, дорогая? —
Замолчат потоки, смолкнет шелест гая.
Мотылек — к росинкам, рыба рвется в речку,
Я стремлюсь, Олехна, к твоему сердечку.
Засветите плошки и поставьте с краю,
А не то подружку в танце потеряю,
Нет уж, не светите, лучше сгинем оба,
Чтоб со мной осталась навсегда зазноба.
КУСТУ, ЦВЕТУЩЕМУ НА РАЗВАЛИНАХ.
Из каких сторон родимых
Ветер семечко принес,
Чтоб в руинах нелюдимых
Ты, цветущий куст, возрос?
Век твой тяжек в этих голых,
Хладных скопищах камней;
В плодородных, щедрых долах
Ты бы цвел куда пышней.
Но тебя живит росою
И лучом нещедрый край;
Лепестков своих красою
Эти камни осыпай.
Хоть сурова и капризна,—
Здесь теперь твоя отчизна.
АНТОНИЙ МАЛЬЧЕВСКИЙ.
Антоний Мальчевский (1793–1826). — Вошел в польскую литературу как автор поэмы «Мария» (1825), написанной на склоне жизни. Поэт родился на Волыни, служил в армии Княжества Варшавского, участвовал в наполеоновских войнах, в 1816–1821 годах жил за границей, познакомился с Байроном, первым из поляков совершил восхождение на Монблан, после возвращения на родину занялся литературой. «Мария», вместе с поэмами Мицкевича, положила начало жанру «поэтической повести» в польском романтизме. В ней изображена жизнь шляхты на Украине (XVII в.) и в романтическом духе трактуются проблемы современного мира (всесилие зла, трагизм человеческой доли и т. д.). В приводимом отрывке описан визит ряженых в шляхетский дом с целью похитить и убить дочь хозяина, на которой против воли отца женился магнатский сын.
МАРИЯ. (Фрагмент). Перевод М. Живова.
1.
Может, в Венеции на карнавале
Вы погуляли, вы побывали?
Весело днем там и весело ночью,
Люди хохочут, музыка грохочет,
Лица, как в сказках,
В причудливых масках,
Дож престарелый
С матроною зрелой,
Ксендз в длинной рясе,
А с ним лоботрясы
Ищут отрады,
Ищут услады,
Крытые лодки,
А в лодках красотки.
Смех и веселье царят на канале.
Вот как в Венеции на карнавале!
2.
Мы по-иному, едем куликом[238],
Едем санями с гиком и криком,
Едем мы в масках
На наших салазках.
Кто мы такие, знать вы хотите?
С нами садитесь, с нами катите.
В гости охота —
Настежь ворота!
Строятся в пары
Юный и старый,
Ксендзы, краковянки,
Евреи, цыганки,
Ведьмы-гадалки, веселые черти,
Только мошенников нету, поверьте.
Едем санями, все дале и дале.
Вот как на польском у нас карнавале!
— К нам в гости сегодня зайти не придется,
Пан Мечник[239] с татарами нынче дерется,—
Слуга им ответил, взор бросил суровый,
Плотней на воротах задвинул засовы.
Но вот уж играют, поют и хохочут,
Гремит барабан, погремушки грохочут,
Ведут хороводы веселые маски,
Сверкают нарядов веселые краски,
Кружатся, и в воздух взлетают проворно,
И в воздухе ножки мелькают задорно.
Глядит и не может слуга надивиться,
Уж в пляс самому захотелось пуститься,
Старик изумленно глазами моргает,
Глядит с любопытством, глядит и с опаской,
Как движутся парами маска за маской.
Но вот, протрубивши в рога из картона,
Застыла на месте танцоров колонна.
Звук флейты разнесся над вольным простором,
И песню запели неслаженным хором:
«Так уж бывает, Смерть все хватает,
Роза в цвету, а уж червь подползает.
Если вдруг в душу вкрадется тревога,
Бурю в душе поднимая,
Если по воле сурового бога
Праведный смертный стоит у порога
Светлой обители рая,—
Пусть на мгновение скроется Злоба,
Раны ножом не коснется,
Пусть прозвучит ему вещее слово:
„Радость вернется — вернется!“
Так уж бывает, Смерть все хватает,
Роза в цвету, а уж червь подползает.
Если бы чудо свершилось большое,
Ангела небо послало,
Чтобы унес он сердце больное,
Взор потускневший закрыв пеленою,—
Прежде чем смерть не настала.
Пусть не звучит в утешенье больного
Песня, что в праздник поется,
Разве что будет в ней вещее слово:
„Ангел вернется — вернется!“
Так уж бывает, Смерть все хватает,
Роза в цвету, а уж червь подползает.
В помощи ближним кто видит отраду,
Сам же за них погибает,
Может, доставит тем Зависти радость;
Зло от Добра отличите не сразу —
Суд в небесах пусть решает.
Что же, порою и разум здоровый,
Тьмою объятый, споткнется,
Пусть же раздастся прощальное слово:
„Радость вернется — вернется!“
Так уж бывает, Смерть все хватает,
Роза в цвету, а уж червь подползает.
Если, вернувшись из дальней дороги,
Путник примчится к любимой,
Чтобы в объятьях забыть все тревоги,
Но убедится уже на пороге:
Дом перед ним нелюдимый,
И под ударом предчувствия злого
Сердце в груди содрогнется,—
Пусть прозвучит утешения слово:
„Друг твой вернется — вернется!“
Так уж бывает, Смерть все хватает,
Роза в цвету, а уж червь подползает».
— Ах, стало быть, вовсе вы не привиденья,
И маски надели вы для развлеченья!
Куликом не раз уже к нам приезжали,
И вас приглашаем, как тех приглашали.
Хозяин вернется, но хоть его нету,
Гуляйте и пейте, друзья, до рассвета. —
И пара за парой вошли, поклонились,
Кругом оглянулись и расположились.
СЕВЕРИН ГОЩИНСКИЙ.
Северин Гощинский (1801–1876). — Наиболее отчетливо выразил в своем творчестве революционно-бунтарские стремления польского романтизма. Уроженец Украины, он смолоду участвовал в создании подпольных патриотических организаций, в восстании 1830–1831 годов. Революционно-демократические настроения отразились в его лирике 20-х годов и поэме «Каневский замок» (1828), посвященной крестьянскому восстанию на Украине в 1768 году («колиивщине»). В начале 30-х годов Гощинский вел конспиративную работу в Галиции, затем был одним из деятелей демократической эмиграции, выступал как критик, поэт, прозаик. В 40-е годы увлекся мистицизмом; под конец жизни поселился во Львове. Гощинского, как и Мальчевского, относят к «украинской школе» в польском романтизме.
ИСХОД ИЗ ПОЛЬШИ[240]. Перевод М. Живова.
[240].
В тот день журавли в поднебесье летели,
Высоко летели в небесной синели.
Полями, лесами повстанцы брели…
Без песен солдатских шагают, угрюмы,
Безмолвно в свои погруженные думы,
И думы мрачны их, и лица в пыли.
— Куда вы бредете? — кричат журавли.—
Идете с оружьем, военной колонной,
А вид не солдатский, а вид похоронных!..
— Сегодня еще мы с оружьем своим,
Но завтра мы немцам его отдадим.
С пустыми руками уйдем мы в скитанье
И мыкаться будем средь чуждых людей,
Как нищие, будем просить подаянье
Во имя распятой отчизны своей.
Вы в наши края, журавли, полетите,
Родные там наши, тревоги полны.
Солдатские слезы на крылья возьмите
Для матери бедной, для милой жены.
Пусть вымолят матери, выплачут жены,
Чтоб наши вернулись в отчизну колонны.
Из Вислы напьетесь вы, кровь наша в ней,
Поля вас накормят, от трупов тучней.
А мы ведь не скоро из Вислы напьемся,
Не скоро, но все мы на Вислу вернемся…
Летите же в Польшу, а мы — в дальний путь,
Чтоб Польше свободу и счастье вернуть.
Прусская Граница, 1831 Г.
ЮЛИУШ СЛОВАЦКИЙ.
Юлиуш Словацкий (1809–1849). — Крупнейший, наряду с Мицкевичем, польский поэт-романтик, убежденный демократ, выдающийся мастер стиха. Родился в Кременце на Украине, учился в Виленском университете, рано начал писать, известность приобрел патриотическими произведениями, изданными в дни восстания 1830–1831 годов. Последующие годы провел в эмиграции (Франция, Швейцария, Италия; в 1836–1837 гг. совершил путешествие на Ближний Восток) и умер в Париже. Несмотря на отрыв от родины, слабое здоровье, неблагожелательное отношение критики (начиная с двухтомника ранних поэм и драм 1832 г.), отсутствие контакта с широким читателем, Словацкий обнаруживает поразительную творческую энергию, публикует ряд поэм (наиболее известны «Ламбро» и «Час раздумья», 1833; «Ангелли», 1838; «В Швейцарии» и «Отец зачумленных», 1839; «Бенёвский», 1841) и драм, составивших впоследствии основу романтического репертуара польского театра («Корлиан», 1834; «Балладина», 1839; «Мазепа», «Лилла Венеда» 1840 и др.). В 40-е годы переживает увлечение мистицизмом, на короткое время вступает в секту Товянского, затем разрабатывает собственную историко-философскую систему (изложена в неоконченной поэме «Король-Дух» и ряде других сочинений), совмещая мистицизм с признанием неизбежности и благотворности социальных потрясений, с апофеозом «Духа — вечного революционера», с верой в грядущее освобождение.
РАЗЛУКА[241]. Перевод А. Ахматовой.
[241].
Разлучились, но помним и любим друг друга,
Между нами проносится голубь печали,
Он нам вести приносит: я знаю, одна ли
Ты в саду или в горнице, — плачешь, подруга!
Знаю час, когда боль тебя мучит нещадно,
Знаю слово, какое слезу вызывает,
И звездой ты мне светишь на небе отрадно,
Той, что плачет и синею искрой сверкает.
Не увижу тебя, — что мечтать мне впустую,—
Но я знаю твой дом, знаю сада сиянье,
И тебя и глаза твои в мыслях рисую,—
Ты в саду в белоснежном своем одеянье.
Тщетно ты бы мои создавала пейзажи,
Их луной золотя иль зарею нагорной,
Мне под окна, увы, не осмелишься даже
Сбросить небо, назвав его гладью озерной.
Разлучать бы ты озеро с небом не стала
Днем вершинами гор, ночью скал синевою;
Ты не знаешь, что тучи, как кудри на скалах,
Словно в трауре скалы стоят под луною;
Ты не знаешь, где всходит жемчужина эта,
Что избрал я твоею звездою счастливой;
Ты не знаешь, что два огонечка — два света
В двух оконцах горят под горой молчаливой.
Заозерные звезды печально люблю я,
Пусть кровавы они и мерцают туманно;
Я сегодня их снова увижу, тоскуя,—
Хоть и тускло, но светят они постоянно.
Ты ж погасла навек для скитальца, подруга!
И свидания час никогда не настанет.
Умолкаем и вновь призываем друг друга…
Соловьи так друг друга рыданием манят.
ГИМН. Перевод А. Ревича.
Мне горько, боже! — Мир передо мною
В закатный час ты радугами красишь,
Огонь звезды над гладью голубою
В глубинах гасишь,
Волну и небо золотишь, и все же
Мне горько, боже!
Довольства я лишен и ласки прежней,
Как злак пустой, стою среди пустыни…
Для посторонних лик мой безмятежней
Небесной сини,
Но пред тобой таить печаль негоже:
Мне горько, боже!
Уходит мать — исходят плачем дети,
Вот так и я слезой готов излиться,
На солнце глядя, в чьем прощальном свете
Волна искрится.
Я знаю, что взойдет оно, — так что же
Мне горько, боже?
Блуждая в море, где ни дна, ни мели,—
В ста милях — берег и другой — в ста милях,
Я видел: стаей аисты летели
На мощных крыльях.
Такие же, как в Польше! Как похожи!
Мне горько, боже!
Не оттого ль, что я встречал могилы
И что почти не знал родного дома,
Что в непогоду брел, теряя силы,
Под рокот грома,
Что где-то рухну раньше или позже,
Мне горько, боже!
Ты белые мои увидишь кости
Не под плитой, а там, где голы степи;
Завидую тому, кто — на погосте,
Чей пепел — в склепе.
Найду ли я покой на смертном ложе?
Мне горько, боже!
Невинному ребенку наказали
Молиться за меня… Но я ведь знаю,
Что мой корабль плывет в глухие дали,
К чужому краю,
И что мольбы бессильны… Отчего же
Мне горько, боже?
На радугу, которую в просторе,
Как ныне, ангелы твои раскинут,
Иные поколенья глянут вскоре,
А после — сгинут.
И потому, что сам я сгину тоже,
Мне горько, боже!
МОЕ ЗАВЕЩАНЬЕ. Перевод Б. Пастернака.
С вами жил я, и плакал, и мучился с вами.
Равнодушным не помню себя ни к кому.
А теперь, перед смертью, как в темном предхрамье,
Головы опечаленной не подниму.
Никакого наследства я не оставляю
Ни для лиры умолкнувшей, ни для семьи.
Бледной молнией имя мое озаряя,
Догорят средь потомства творенья мои.
Вы же, знавшие близко меня, расскажите,
Как любил я корабль натерпевшийся наш,
И до этой минуты стоял на бушприте,
Но тону, потому что погиб экипаж.
И когда-нибудь, в думах о старых утратах,
Согласитесь, что плащ был на мне без пятна.
Не из милости выпрошенный у богатых,
А завещанный дедом на все времена.
Пусть друзья мое сердце на ветках алоэ
Сообща как-нибудь зимней ночью сожгут
И родной моей матери урну с золою,
Давшей сердце мне это, назад отнесут.
А потом за столом пусть наполнят бокалы
И запьют свое горе и нашу беду.
Я приду к ним и тенью привижусь средь зала,
Если узником только не буду в аду.
В заключенье — живите, служите народу,
Не теряйте надежды, чтоб ночь побороть.
А придется, каменьями падайте в воду
В светлой вере: те камни кидает господь.
Я прощаюсь со считанною молодежью,
С горстью близких, которым я чем-либо мил.
За суровую долгую выслугу божью
Неоплаканный гроб я с трудом заслужил.
У какого другого хватило б порыва
Одиноко, без всякой подмоги чужой,
Неуклонно, как кормчие и водоливы,
Править доверху душами полной баржой.
И как раз глубина моего сумасбродства,
От которой таких навидался я бед,
Скоро даст вам почувствовать ваше сиротство
И забросит в грядущее издали свет.
ПОГРЕБЕНИЕ КАПИТАНА МАЙЗНЕРА[242]. Перевод М. Зенкевича.
[242].
Пришли — убогий гроб взять из больницы,
Чтоб кинуть в яму с нищими другими.
Над ним не может мать в слезах склониться,
И над холмом сиять не будет имя!
Вчера он был и молодой и сильный,
А завтра не найти — где прах могильный.
Хотя б солдаты песню спели хором
И был с ним рядом знак восстанья дерзкий,
Тот самый карабин его, в котором
Еще дымится выстрел бельведерский[243],
Хотя б сразила пуля или шашка,—
Нет! — лишь в больнице койка да рубашка!
Подумал ли он в ночь ту голубую,
Когда с оружьем Польша вся восстала,
А он у кармелитов ждал[244], тоскуя,
И весть о воскресенье заблистала,
Когда ружье взял, к сердцу прижимая,—
Он думал ли, что смерть придет такая!
Привратник алчный вышел, и с ним были,
Как стражи мертвых, страшные старухи,
Вход в дом призрения они открыли,
И провели нас, и спросили глухо:
«Признаете ли брата, что жил с вами
В греховном мире? Вот смотрите сами!»
Взглянули — на больничном покрывале
Нож мясников посмертных кровь оставил,
Глаза открытые свет отражали,
Но вдаль от нас он мертвый взор уставил.
Просили гроб закрыть, признали брата,
Соратником он нашим был когда-то.
«Где похоронят?» — юноша смущенный
Спросил у ведьм мертвецкой преисподней.
Ответила карга: «На освященной
Земле, мы там по милости господней
Хороним бедняков в огромной яме,
В могиле братской, — гроб на гроб рядами».
Но юноша, в святую дружбу веря,
Дал золотой, хоть ведьма не просила,
Сказал: «Над ним пропойте „Miserere“[245],
Пусть будет крест отдельный и могила».
Молчали скорбно, а на цинк тарелки
Монеты сыпались и слез дождь мелкий.
Пусть будет холм над ним, и пусть в день Судный
Он скажет то, что крест вещает свято:
Он капитаном был, на подвиг трудный
Не раз водил бесстрашно полк девятый,
Он долг отчизне отдал в дни восстанья,
А холм и крест над ним — дар подаянья.
О боже! Ты с небес мечами молний
Разишь защитников злосчастной Польши,
Внемли мольбе над прахом в тьме безмолвной,
В день нашей смерти дай нам света больше!
Пусть вспыхнет солнце и над нашим краем,
Пусть все увидят, как мы умираем!
Париж, 30 Октября 1841 Г.
В АЛЬБОМ ЗОФЬЕ БОБРОВОЙ[246].
[246].
Пусть Зося у меня стихов не просит;
Едва она на родину вернется,
Любой цветок прочтет канцону Зосе,
Звезда любая песней отзовется,
Внемли цветам, согретым знойным летом,
И звездам, — это лучшие поэты.
У них давно приветствие готово;
Внемли же их напевам чудотворным;
Мне любо повторять их слово в слово,
Я был лишь их учеником покорным.
Ведь там, где волны Иквы льются звонко,
Когда-то я, как Зося, был ребенком.
Мое никак не кончится скитанье,
Все дальше гонит рок неотвратимый…
О, привези мне наших звезд сиянье,
Верни мне запахи цветов родимых.
Ожить, помолодеть душою мне бы!
Вернись ко мне из Польши, будто с неба.
Париж, 13 Марта 1844 Г.
* * *
«На память вам дарю последний мой венец…». Перевод Д. Самойлова.
На память вам дарю последний мой венец,
Венец былых надежд и грусти вдохновенной…
Что я мечтал свершить, безумец дерзновенный!
Народам путь открыть замыслил я, гордец!
А нынче хватит мне земли, где наконец
В дощатой ракушке уйду на дно вселенной.
* * *
«Ничем уже меня не огорчить…». Перевод Д. Самойлова.
Ничем уже меня не огорчить,
Меня в пути сомненье не тревожит.
Еще могу творить, страдать и жить,
А большего душа уже не может.
Ушли часы сияющего дня,
Часы любви и дружеских объятий,
И важные деянья ждут меня,
Печальные, как солнце на закате.
Здесь завершенье дней своих приму,
И дух мой в бездну отлетит, как птица.
О господи, так помоги ему
Повыше вольным жаворонком взвиться.
Скажу верней — душа на склоне дней,
Как ласточка, покинет землю эту.
Так помоги же ласточке моей
Возрадоваться вольности и свету.
* * *
«Друзья, надел земли мне дайте в Польше…»[247]. Перевод А. Ревича.
[247].
Друзья, надел земли мне дайте в Польше,
Хотя б клочок, коль много запросил!
И друга дайте, одного — не больше,
Чтоб духом был свободен, полой сил,
И вместе с ним — две равных половицы —
Мы явим людям образ двуединый.
Вы дайте мне одну из малых звезд,—
Пускай мелькнет кометой среди мрака
И над лесами свой расстелет хвост,
Означив смерть лишь одного поляка.
Я силу неземную обрету,
Расправлю крылья, взмою в высоту.
Когда молюсь я, лежа, как распятье,
За человека, за родимый край,
Я слышу: скачут рыцари — о, братья! —
Мне видится смятенье вражьих стай.
Под звезды сам бегу, как бесноватый,
Глумятся звезды надо мной: куда ты?
О дьявольский, холодный звездный свет!
Меня твоя сражает укоризна.
В беспамятстве твержу какой-то бред,
Мне чудится, что в пламени отчизна.
Разбрасываю тысячи огней,
Но это пламя лишь в груди моей.
* * *
«Когда нисходит ночь и мир — в глубоком сне…». Перевод В. Левика.
Когда нисходит ночь и мир — в глубоком сне,
Когда небесных арф душе доступны звуки,
Навстречу солнцу я лечу, раскинув руки,
Паря в его лучах, как в золотом огне,
Внизу печаль и ночь — все дремлет в тишине.
А там, над Польшей, день уже зажегся в небе.
Крестьянин ладит плуг и молится о хлебе,
И с ним и за него молюсь я в вышине.
А звездам нет числа, и небу нет предела.
Вдруг пронеслась одна по темной синеве
И в землю польскую как ангел полетела.
И верить я готов, как пахарь на Литве,
Что вспашет небеса молитвой ангел тот,
А из его зерна дух праведный взойдет.
* * *
«Сплетен венец из недостойных дел…». Перевод Д. Самойлова.
Сплетен венец из недостойных дел;
Огонь лампад священных оскудел;
Одна секира всех нас наказует,
И все часы измену указуют;
К святым трудам подняться нам невмочь.
Глухая ночь! томительная ночь!
Так бодрствуйте! Вот-вот вскричит петух,
И вечной тьмы умчится черный дух…
ЗЫГМУНТ КРАСИНСКИЙ.
Зыгмунт Красинский (1812–1859). — Представлял в польском романтизме консервативное течение. С открытой неприязнью относясь к демократии как польской, так и европейской, он вместе с тем обнаруживал незаурядную зоркость, признавая бессилие и обреченность старого мира, основанного на неравенстве. Его взгляды во многом определились под влиянием происхождения и воспитания: он был сыном наполеоновского генерала и графа, после 1815 года ставшего усердным слугой царского режима. Поэт большую часть жизни провел за границей, изредка приезжая на родину. В Париже им были анонимно изданы драмы «Небожественная комедия» (1835), картина будущей революции в Европе, и «Иридион» (1836), из времен упадка императорского Рима, — лучшее в наследии поэта. Красинский был мастером романтической прозы (драмы, романы, повести, философские отрывки, многочисленные письма), стихотворная форма давалась ему труднее. Из написанного им выделяются прежде всего лирические миниатюры.
О, ЕСЛИ БЫ… Перевод Д. Самойлова.
О, если бы я был почтен удачей!
И если б слава в жизни мне досталась!
Я их бы отдал с радостью горячей
За то, чтоб ты красивою осталась.
За тень улыбки, что мелькнет во взоре,
За выраженье радости невинной
Я испытать готов любое горе
И сократить счет дней, не слишком длинный.
Ведь жизнь моя переплелась с твоею,
Так два ручья, соединяя струи,
Текут, один темней, другой светлее.
Увянешь ты, и я умру, тоскуя.
* * *
«Бог не судил…». Перевод Д. Самойлова.
Бог не судил мне чувства меры строгой,
По коей мир поэта узнает.
Я с нею бы украсил мир убогий,
А без нее я просто виршеплет.
Мне звон небесный часто душу нежит,
Но на устах дробится песнь моя,
И люди слышат только жалкий скрежет,
А я… одно лишь сердце слышу я.
Оно во мне, на волнах крови бьется,
Как в синеве поющая звезда.
И в шумных залах песнь не отзовется,
Лишь бог ее услышит иногда.
Киссинген, 7 Июня 1836 Г.
В СИБИРЬ! Перевод Л. Цывьяна.
Уйду от вас — как от лодки волна,
Уйду от вас — словно птица от стаи,
Уйду от вас — как видение сна,—
Уйду в простор без конца и без края!
Нежданным будет для вас расставанье,
От вас уйду я порою ночной,
Никто не даст мне руки на прощанье,
Никто пойти не сумеет за мной!
Напрасно вы соберете совет,
Узнать мою захотите дорогу,
Для вас сокрытым пребудет мой след,
Как след души, возносящейся к богу!
Но не лететь мне к извечной стране,
Но не идти мне к цветущему брегу —
В цепях пойду по сибирскому снегу,
И позабудете вы обо мне!
РЫШАРД БЕРВИНСКИЙ.
Рышард Бервинский (1819–1879). — Поэт революционной демократии, был участником конспиративных организаций на землях, захваченных Пруссией, в канун 1848 года. В 1844 году издал в Познани и Брюсселе два тома «Поэзии», куда вошли интимно-лирические и революционно-агитационные стихи. Занимался фольклористикой, этнографией, писал повести о славянской древности. После 1848 года отошел от революционной деятельности, в 1855 году уехал в Турцию, где умер в нищете.
МАРШ В БУДУЩЕЕ. Перевод П. Железнова.
Как тут страшно! Жизнь все злее,
Стоп вокруг стоит.
Сжал железный обруч шею,
И рубец на ней алее
Пурпура горит.
А там край обетованный,
Без тирана и без пана,
Без нужды и горя,
Ждет людей за морем
Крови,
За багровым морем!
Как тут страшно!
Нищих, голых
Давит рабский труд.
Тут белеют кости в долах,
Люди стонут: «Голод, голод!» —
И без пищи мрут.
А там край обетованный,
Где на нивах нет бурьяна,
Где сияют зори,
Ждет людей за морем
Крови,
За багровым морем!
Тут царями-палачами
Угнетен народ,
Бог, не тронутый мольбами,
Мощных ангелов с мечами
В помощь нам не шлет…
Бог не видит нашей муки…
Так возьмем оружье в руки
И нужду поборем!
Рай найдем за морем
Крови,
За багровым морем!
ПОСЛЕДНИЙ РОМЕО[248]. Перевод А. Ревича.
[248].
«Близится утро. Прощай, дорогая,
Счастлива будь, о видение рая!
Надо, увы, торопиться.
Память приходится брать мне в дорогу,
Рану душевную, в сердце тревогу,
А вот с тобою проститься».
«Нет, мой желанный! Напрасно волненье,
Ради любви задержись на мгновенье,
Молви одно только слово!»
«Милая, дали заря освещает,
Жаворонок нам восход возвещает.
Полно! Прощай! Будь здорова!»
«Друг мой, для солнышка час еще ранний,
Месяц взошел, покровитель свиданий,
Стелет ковер златотканый;
Это не жаворонок голосистый,
Свищет соловушка в чаще тенистой.
Не уходи, мой желанный».
«Нет, эта песнь предвещает восходы,
Ныне приветствует утро свободы.
Прочь сновиденья ночные!
Яростным гулом разбужены дали,
Месяц поблек, соловьи замолчали,
Горны трубят боевые.
Ласки твои не сулят мне услады,
Смерть меня ждет, конь мой ржет у ограды,
Вытри же влажные веки!
Горе тому, кто порою кромешной
Возле подруги сидит безутешной.
Полно! Прощай! И навеки!»
ЦИПРИАН НОРВИД. Перевод Д. Самойлова.
Циприан Норвид (1821–1883). — Поэт сложной и трагической судьбы. При жизни ему удалось опубликовать лишь малую часть написанного; современниками-литераторами он был не понят и отвергнут как автор трудный и темный. Лишь в конце XIX века Норвида открыли потомки, начали разыскивать и публиковать его произведения, а полное издание его сочинений было осуществлено лишь в последние годы. Только в нашу эпоху стали ясны оригинальность творческих исканий Норвида, его попыток обновить поэтический язык, интеллектуальная насыщенность его лирики, значительность его влияния на польских поэтов XX века, близость современному поэтическому развитию. (Такова же была судьба его драматических и прозаических произведений.) Норвид учился в варшавской гимназии и художественной школе, в 1842 году навсегда покинул родину, за границей сперва попал под влияние консервативно-клерикальных кругов, но затем установил связи с демократической международной эмиграцией (в частности, с А. И. Герценом и Г. Гервегом). Он побывал в ряде стран Европы (а в начале 50-х годов в поисках заработка выезжал в Америку), последние годы постоянно жил во Франции, тщетно пытаясь осуществить своп литературные замыслы; ему так и не удалось издать свой программный лирический цикл «Vade mecum» («Следуй за мной» — лат.). Поэт постоянно бедствовал и скончался в парижском приюте для неимущих польских эмигрантов.
ПАМЯТИ БЕМА. ТРАУРНАЯ РАПСОДИЯ[249].
[249].
…Клятву, данную отцу, я хранил по сей день…
Ганнибал.
I.
Тень, зачем уезжаешь, руки скрестив на латах?
Факел возле колена вспыхивает и дымится.
Меч отражает лавры и плач свечей тускловатых,
Сокол рвется, и конь твой пляшет, как танцовщица.
Веют легкие стяги, переплетаясь в тучах,
Как подвижные палатки в лагере войск летучих.
Воют длинные трубы, захлебываясь; знамена
Клонятся, словно птицы с опущенными крылами,
Словно сбитые пикой ящеры и драконы,
Пикой, которую ты когда-то прославил делами.
II.
Плакальщицы идут. Одни простирают руки
И поднимают снопы, разодранные ветрами.
Иные — слезы в ладони, как в раковины, собирают,
Иные — ищут дорогу, проложенную веками.
Иные — бросают наземь глиняные кувшины,
Усугубляя печаль звоном разбитой глины.
III.
Парни бьют в топоры, синие, словно небо,
Служки колотят в щиты, рыжие, словно пламя,
В тучи упершись древком и трепеща от гнева,
В клубах черного дыма реет огромное знамя.
IV.
Входят, тонут в ущелье… снова выходят на свет,
Снова чернеют в небе — хладный свет их коснулся,—
Снова черные пики месяц на небе застят,
Смолкнул хорал и снова, словно волна, всплеснулся.
V.
Дальше-дальше — покуда перед тобой, как бездна,
Не предстанет могила, смертный рубеж, который
Не перейти живому. Тогда мы пикой железной
Сбросим в пропасть коня, словно старинной шпорой.
VI.
И поплетемся вдаль с песнею похоронной,
Урнами в двери стуча, посвистывая, как непогода,
Так что рассыплются в прах стены Иерихона
И спадет пелена с глаз и сердец народа.
…………………………………..
Дальше-дальше…
ГРАЖДАНИНУ ДЖОНУ БРАУНУ[250]. (Из письма в Америку, посланного в ноябре 1859 г.).
[250].
О Ян! Через простор морей холодных
К тебе, как чайку, песню посылаю.
Ей долго плыть в отечество свободных,
Застанет ли его таким — не знаю.
Иль, как седин сиянье благородных,
На эшафот пустой присядет с краю,
И отпрыск палача рукою неумелой
Метнет каменья в крылья чайки белой.
*
Все ж, прежде чем веревка палача
Затянется вкруг шеи несклоненной,
Пока стопой, опоры не ища,
Не оттолкнешь планеты оскверненной,
Пока земля от ног твоих, как гад,
Не прянула, —
Пока не говорят:
«Повешен!» — веря в то недоуменно,
Пока не натянули капюшона,
Боясь, чтоб, сына лучшего узнав,
Америка не возопила грозно:
«Погасни, свет мой двенадцатизвездный!..
Ночь! Ночь идет — как негр, лишенный прав!..»
Покуда тень Костюшки не прольет
Свой гнев и Вашингтона тень не встанет,—
Прими начало песни, Ян! Она, как плод,—
Покуда зреет, человек умрет.
Покуда песнь умрет, народ воспрянет!
ИМПРОВИЗАЦИЯ[251] НА ВОПРОС О ВЕСТЯХ ИЗ ВАРШАВЫ.
[251].
Ты спросишь: что скажу, когда Варшавы дети,
Надеясь лишь на чудо, поднялись?
Благодаренье богу, что на свете
Оригиналы не перевелись!
Не то я думать стал, что случай — суть природы,
И случай сей зависит от царей,
И что народы — это… огороды,
А люди превратились в писарей.
Что сгинули сыны Давидовой отваги,
Занесшие кулак с куском скалы,
Когда за ними лишь листки бумаги,
А против них граненые стволы.
И коль я не был там, где слезы и сраженья,
И первым пулям грудь не отворил,
Молчу… и сохраняю уваженье
К той колыбели, где растет Ахилл.
Париж, 1861 Г.
В ВЕРОНЕ.
1.
Над кровом Капулетти и Монтекки
Гроза низвергла громовые реки.
И вдумчивое око тишины
2.
Взирает на враждующие грады,
На древний сад, на ветхие ограды,
Звезду роняя с вышины.
3.
И молвит кипарис, что для Джульетты
И для Ромео — дальние планеты
Роняют слезы с голубых высот.
4.
А у людей бытует утвержденье,
Что это все не слезы, а каменья,
А этих слез никто уже не ждет.
РОДНОЙ ЯЗЫК.
«Сначала молния, а после гром!
Вот слышен топ коней, и ржание, и звон,
Да здравствуют дела!.. А речь? А мысль?.. Потом!
Язык родной земли врагами осквернен!»
Так Лирнику кричал Вояка сгоряча
И в щит свой ударял в самозабвенье.
А тот:
«Не острие меча
Спасет язык, но — дивные творенья!»
ЗРЕЛЫЕ ЛАВРЫ.
1.
Как пролагают путь к потомкам?
Своим усилием — борьбой;
Во Храме Вечности высоком
Не сам ты выберешь покой.
2.
И дверь не выбирают сами,
А входят в ту, что отперта…
Что в жизни числилось крылами,
То для истории — пята!..
3.
А дней хвастливое бряцанье
Не принимай за трубный глас —
То стук шаров в голосованье —
Их тишина сочтет за нас.
ФОРТЕПИАНО ШОПЕНА[252]. (Антонию Ч.)[253].
[252]. [253].
Музыка — вещь удивительная!
Байрон.
Искусство? — это искусство, вот и все.
Беранже.
I.
Я был у тебя в предпоследние дни[254]
Недостижимого нити тончанья —
Полней, чем преданье,
Бледней, чем светанье…
И тихо рождению шепчет скончанье:
«Тебя не прерву я — нет! — повремени!»
II.
Я был у тебя в предпоследние дни,
Когда стал подобен — мгновенье, мгновенье!
Той лире, которую бросил Орфей,
Где песнь ратоборствует с силой паденья,
И струны — четыре — с невнятностью всей,
Столкнувшись,
Попарно-попарно
Звенят, угасая:
«Не начал ли он
Отыскивать тон?
А может, он тот, кто играет… бросая?»
III.
Я был у тебя эти дни, Фредерик!
И руки твои — с белизною скульптуры —
Восторг и захват, вдохновенье и шик,
И это касанье, как перья, сквозное,—
Мешались в глазах с костяной белизною
Клавиатуры…
Ты словно возник
Из мраморной глыбы,
Но незавершенно,
Как будто бы лона
Не тронул
Резец
Гения — вечного Пигмалиона.
IV.
В том, что играл, что звучало и будет звучать еще лучше,
Преображенное эхом, иное,
Чем в этот день, когда белой рукою
Благословлял ты созвучья,—
В том, что играл ты, был тон
И совершенство Перикла,
Словно невинность античных времен
В домике сельском возникла
И прошептала, чуть дверь отворилась:
«Я в небесах возродилась.
Вот уже арфою стали врата,
Лентой — дорога,
Просфорой колос пророс на просторе,
Это уже разверзает уста
Эммануил на Фаворе!»
V.
И была в этом Польша сиянья
Радуг восторга, взнесенных
Ко всесовершенству деянья —
Польша колесников преображенных![255]
Это была Злато-пчела!..
(Я это слышал на грани сознанья!..)
VI.
И вот — уже кончилась песнь, — о, как скоро!
И не вижу тебя, — ты уже не играешь,—
Слышу только — подобие детского спора,—
Нет — еще препирательство клавиш,
Не уставших звучать,
Когда песнь прерывают,—
По восьми и по пять:
«Начал ли он играть? Или нас отвергает?»
VII.
О ты, — которое — профиль Любви,
Дополнение, сверхсодержанье[256],
Стиль — именуешься ты меж людьми,
Ибо песнь образуешь и в камне становишься гранью…
Ты — в истории — Эра, когда ее круг
На подъеме взмывает до звезд,
Ты прозываешься Буква и Дух
И «Consummatum est»…[257]
О, ты — совершенное сверхпроявленъе,
И где и каков он, твой знак?
В ком он? В Фидии? Или в Шопене?
В Эсхиловой сцене?
Не хватает тебя!.. И всегда это так!
И такая нехватка — на мире пятно:
Дополнение?.. Страждет!
И начать оно жаждет,
И залог зачинанья желает оставить оно!
Колос?.. Он вызрел кометой златой.
Он под ветрами склонился покорно.
Тронь — и посыплются зерна,
И само совершенство посеет их щедрой рукой.
VIII.
Погляди, Фредерик. Вон Варшава,
Видишь — над нею пылает звезда
Ярко, кроваво.
Видишь — костел и орган? Образ родного гнезда.
Зданья, как будто преданья живые,
Древние, как Посполитая Речь.
Площади глухи, темны мостовые,
В облаке Зыгмунтов меч[258].
Глянь — по проулкам рядами
Скачут кавказские кони,
Ласточками над водами
Вьются перед полками —
Сотнями, сотнями…
Зданье в огне.
Выбилось пламя и вспыхнуло рядом.
IX.
Глянь: подгоняют к стене,
Траурных вдов[259] подгоняют прикладом…
В месиве дыма, огня и тумана
Через колонны балкона,
Как катафалк похоронный,
Рухнуло… рухнуло… фортепиано…
X.
То… что прославило Польшу сиянья
Радуг восторга, взнесенных
Ко всесовершенству деянья,
Польшу колесников преображенных,—
Рухнуло вдруг и лежит без дыханья.
Вот она — светлая мысль человека,
Та, что растерзана злобой людскою…
Так оно было от века
С тем, кто лишает сна и покоя.
Вот, словно тело Орфея
Фурий терзает семья,
Воют: — Не я! — сатанея,
Каждая воет: — Не я!
XI.
— Кто же? Не ты ли?.. Не я ли?
«Внук, веселись! — судным гласом поем
Мы с тобой… —
Камни глухие и те застонали:
Идеал коснулся мостовой!»
ТЕОФИЛЬ ЛЕНАРТОВИЧ. Перевод А. Ревича.
Теофиль Ленартович (1822–1893). — Поэт, представлявший поздний этап польского романтизма и то течение, которое в художественных поисках ориентировалось прежде всего на фольклор. Родился и начал печататься в Варшаве, участвовал в деятельности патриотических организаций, в 1851 году навсегда покинул родину. За границей продолжал литературную работу (сборники «Лира», 1855; «Новая лира», 1859; поэмы исторического и патриотического содержания и т. д.), большую часть жизни провел в Италии, умер во Флоренции.
КАК У НАС В МАЗОВИИ.
Меж полей широких — воды Вислы синей,
Сгорбленные избы тихо спят в низине,
Ветви старца-дуба над водой нависли,
Сельские молодки белят холст на Висле.
Аисты шагают поймою зеленой,
На поле кузнечик верещит бессонный,
Воздух на опушке весь пропах сосною,
Запахом смолистым, свежестью лесною,
А под ярким солнцем в голубом раздолье
Облака пасутся, как барашки в поле.
В утреннем затишье вдоль по Висле синей
Проплывает лодка серою гусыней,
А за нею барки с клажею тяжелой,
Слышны всплески весел, речь и смех веселый.
Девица с лукошком бродит по полянам,
Напевает песню о своем желанном,
С каждым новым звуком песня все печальней,
И струится в долах этот голос дальний,
Грусть бредет за стадом, тащится за плугом,
Слышится над Вислой, слышится над Бугом,
Над кудрявым гаем, над речной долиной,
Словно край просторный стал душой единой.
Край наш Мазовецкий! Нет земли милее!
Там прозрачней воздух, родники светлее,
Наши сосны выше, наши девки краше,
Люди здоровее, чище небо наше.
Где еще услышу музыку чудесней,
Этот смех девичий и такие песни?
Где я встречу нашу ветхую избушку,
Тихую лужайку, шумную опушку,
Этот птичий щебет, звонкий, безмятежный,
Голубую Вислу и песок прибрежный?
Ой, как рвется сердце в нашу глушь лесную!
Висла моя, Висла, — как по ней тоскую!
Хорошо вам, крачки, хорошо вам, чайки:
Над водой вислянской вьются ваши стайки.
Ой, как мне, мазуру, без отчизны худо!
Молодость увянет средь чужого люда.
За порог я вышел в дождик, в непогоду,
На меня взглянуло солнце лишь к заходу,
Красно, словно очи матушки родимой,
Провожавшей сына в мир необозримый.
В поле выли ветры, и хлеба в печали
Капли на тропинку светлые роняли.
Шел я темным бором, бушевали кроны,
На высоких сучьях каркали вороны,
Все в бору стонало, и душе скорбящей
Мнилось: кто-то плачет за густою чащей.
Поглядел я в сумрак — пусто, никого нет,
Лишь десяток сосен долу ветви клонит,
Мигом оглянулся — ни души за мною,
Лишь мигнули дали звездочкой ночною,
Да и ту затмила черная завеса,
И побрел я дальше через гущу леса,
Уходил все дальше в этот мир без краю.
Пажити родные, счастья вам желаю!
Люди наши, люди, спите среди нивы.
Что же вы, мазуры, стали так ленивы?
Встаньте, распрямитесь! Зря зову — не встать им,
Скошенным колосьям, нашим павшим братья.
Сколько полегло их на полях кровавых,
Сломанные косы поржавели в травах.
На отчизну глядя, исхожу я плачем,
Песенки играю скрипачом бродячим.
Пущи наши, пущи, лес наш мазовецкий,
Отшумел неужто век наш молодецкий?
Где же наша слава? Пронеслась — и нету,
Словно снег, растаяв, растеклась по свету.
Велика отчизна — господи, мой боже!
Отчего ж неволю терпит? Отчего же?
Для кого цветами так оделись дали?
Чтобы их сегодня недруги топтали?
Для чего так Висла блещет в древнем лоне?
Чтобы в ней купались вражеские кони?
И зачем пригожих девок мы растили?
Чтобы их детишки наш язык забыли?
Край наш Мазовецкий, ты покрыт позором,
Отчий дом разграблен, все досталось ворам.
Сколько звезд на небе и песка над Вислой!
Сколько душ погибло — столько звезд повисло.
Слезы все в песчинки время превратило.
Как сочтешь песчинки? Как сочтешь светила?
Скрипка моя, скрипка, спой родному краю!
Слушайте, мазуры, что я вам сыграю!
Взял я только песни в этот путь далекий,
Чтоб у вас пылали и бледнели щеки,
С песнею печальной по земле скитаюсь,
Горечь слез глотаю, вздохами питаюсь.
Так зима проходит, за зимою лето —
Я ж благословляю бога и за это!
Заиграй же, скрипка! Ветер, вей, прохладный,
Уноси напев мой к сердцу ненаглядной.
Для души и песни дорогая плата —
Грусть в глазах любимой или слезы брата.
Отзовись, отчизна, ты всегда желанна
В горести, в печали! — ой, дана! ой, дана!
КАЛИНА.
Росла калина с широкой кроной,
Клонясь к потоку листвой зеленой,
Пила дождинки, росу вбирала,
В лучах весенних листву купала.
Калине в кудри вплетало лето
Яркие бусы алого цвета.
Она невестой стояла, глядя
В зерцало чистой текучей глади.
Рассветный ветер чесал ей косы,
И омывали калину росы.
Над этой синью лесной купели
На зорьке Ясик сверлил свирели,
И там, где к струям склонялось древо,
Текли печально лады напева,
И над росистой лесной поляной
Струилась песня: ой, дана, дана!
В наряд зеленый окутав плечи,
Ждала калина желанной встречи.
Настала осень: под крутосклоном
Зарыли Яся в гробу зеленом.
Калина долго ждала в печали,
От горя листья ее опали.
Роняет бусы в ручей калина,
Краса увяла, и — все едино.
ВЛАДИСЛАВ СЫРОКОМЛЯ.
Владислав Сырокомля (псевдоним; настоящее имя — Людвик Кондратович, 1823–1862). — Был связан в своем творчестве с Белоруссией и Литвой, где провел всю жизнь и чью историю и народный быт неизменно изображал. Его стихи и поэмы обращены к демократическому читателю, просты и доступны по форме. В конце 50-х — начале 60-х годов участвовал в дебатах об уничтожении крепостного права, выступая за наделение крестьян землей, и в патриотических манифестациях. Переводил Рылеева, Лермонтова, Некрасова. Еще в прошлом веке стал известен нашему читателю широко (его популяризовал у нас Л. Н. Трефолев.).
ЯМЩИК. Перевод Л. Трефолева.
— Мы пьем, веселимся, а ты, нелюдим,
Сидишь, как невольник, в затворе.
И чаркой и трубкой тебя наградим,
Когда нам поведаешь горе.
Не тешит тебя колокольчик подчас,
И девки не тешат. В печали
Два года живешь ты, приятель, у нас,—
Веселым тебя не встречали.
— Мне горько и так, и без чарки вина,
Не мило на свете, не мило!
Подайте мне чарку: поможет она
Сказать, что меня истомило.
Когда я на почте служил ямщиком,
Был молод, водилась силенка.
И был я с трудом подневольным знаком,
Замучила страшная гонка.
Скакал я и ночью, скакал я и днем;
На водку давали мне баре,
Рублевик получим, и лихо кутнем,
И мчимся, по всем приударя.
Друзей было много. Смотритель не злой;
Мы с ним побраталися даже.
А лошади! Свистну — помчатся стрелой…
Держися, седок, в экипаже!
Эх, славно я ездил! Случалось грехом,
Лошадок порядком измучишь;
Зато, как невесту везешь с женихом,
Червонец наверно получишь.
В соседнем селе полюбил я одну
Девицу. Любил не на шутку;
Куда ни поеду, а к ней заверну,
Чтоб вместе пробыть хоть минутку.
Раз ночью смотритель дает мне приказ:
«Живей отвези эстафету!»
Тогда непогода стояла у нас,
На небе ни звездочки нету.
Смотрителя тихо, сквозь зубы, браня
И злую ямщицкую долю,
Схватил я пакет и, вскочив на коня,
Помчался по снежному полю.
Я еду, а ветер свистит в темноте,
Мороз подирает по коже.
Две вёрсты мелькнули, на третьей версте…
На третьей… О, господи боже!
Средь посвистов бури услышал я стон,
И кто-то о помощи просит,
И снежными хлопьями с разных сторон
Кого-то в сугробах заносит.
Коня понукаю, чтобы ехать спасти;
Но, вспомнив смотрителя, трушу,
Мне кто-то шепнул: на обратном пути
Спасешь христианскую душу.
Мне сделалось страшно. Едва я дышал,
Дрожали от ужаса руки.
И в рог затрубил, чтобы он заглушал
Предсмертные слабые звуки.
И вот на рассвете я еду назад.
По-прежнему страшно мне стало,
И, как колокольчик разбитый, не в лад
В груди сердце робко стучало.
Мой конь испугался пред третьей верстой
И гриву вскосматил сердито:
Там тело лежало, холстиной простой
Да снежным покровом покрыто.
Я снег отряхнул — и невесты моей
Увидел потухшие очи…
Давайте вина мне, давайте скорой,
Рассказывать дальше — нет мочи!
МЕЛОДИИ ИЗ СУМАСШЕДШЕГО ДОМА. (Фрагмент). Перевод А. Ревича.
Взгляни-ка, пан доктор! Тебе, грамотею,
И камни — не диво!
Какие мне бусы надели на шею!
Ведь правда — красиво?
Совсем как алмазы! Как солнце! И чище
Воды родниковой.
В них тыщи оттенков и отблесков тыщи,
Мгновенье — и новый!
Кровавая капелька в бусинке малой
Лучится, мигая,
Меняет цвета: то багровый, то алый,—
Все время другая.
Чудесные бусы! А запах… ну, право,
Из райского сада!
Но в рот не бери, в них таится отрава!
Не пробуй, не надо!
Какой это камень?
Ты знаешь? А ну-ка!..
Не думая… разом!
Что? Трудно? Такого не знает наука,
Не ведает разум.
Итак, ты ответить не в силах? Ну что же,
Не каждый — оракул.
Так знай: это слезы! Их раб чернокожий
Под плетью наплакал.
АДАМ АСНЫК.
Адам Аснык (1838–1897). — Еще студентом принимал активное участие в подпольной патриотической работе, в 1863 году был одним из самых радикальных деятелей восстания (одно время входил в состав национального правительства). После поражения восстания эмигрировал, в Германии завершил образование, а затем поселился в Галиции, где занимался журналистикой (либерально-демократическая газета «Нова реформа»), литературным трудом (издал несколько томиков «Поэзии», писал также комедии, драмы, новеллы), общественной деятельностью. В лирике стремился соединить верность традициям борьбы за национальную независимость и использование художественных средств, разработанных романтиками, с постановкой новых общественных проблем и анализом социальных противоречий.
«Что, скажи, меж нами было?..». Перевод А. Ревича.
Что, скажи, меж нами было?
Ведь ни клятв, ни объяснений.
Нас ничто не единило,
Кроме грез поры весенней.
Кроме запахов и блесков,
Мигом тающих в просторе,
Кроме шума перелесков
И полян в цветном уборе,
Кроме тех ручьев певучих,
Чьи в оврагах плещут воды,
Кроме радуг в легких тучах,
Кроме сладких чар природы,
Кроме влаги родниковой,
Чья прохлада нас поила,
Кроме примулы лиловой,
Что, скажи, меж нами было?
* * *
«Что причитать!..». Перевод А. Ревича.
Что причитать! — напрасный труд,
Здесь не поможет слово!
Любые чары не вернут,
Не воскресят былого.
Мир не отдаст, как ни перечь,
Того, что прежде было.
Над мыслями не властен меч,
Огня безвольна сила.
С живыми надобно идти
Навстречу новой дали,
А лавры ваши расплести —
Они давно увяли.
Не удержать вам дней поток!
Все жалобы убоги,
Бессилен гнев, и плач — не впрок!
Мир не свернет с дороги.
ЛИЛИИ. Перевод И. Бунина.
Золотые кудри в косы
Панночка плетет;
Заплетаючи, в раздумье
Песенку поет:
Темной ночью белых лилий
Сон неясный тих.
Ветерок ночной прохладой
Обвевает их.
Ночь их чашечки закрыла,
Ночь хранит цветы
В одеянии невинной:
Чистой красоты,
И сказала: спите, спите
В этот тихий час!
День настанет — солнца пламень
Сгубит, сгубит вас!
Дня не ждите, — бесконечен
Знойный день, а сон,
Счастья сон недолговечен,
И умчится он.
Но, таинственно впивая
Холодок ночной,
К солнцу тянутся, к востоку
Лилии с тоской.
Ждут, чтоб солнце блеском алым
И теплом своим
Нежно белые бокалы
Растворило им.
И напрасно ночь лелеет
Каждый лепесток —
Грезит девушка о милом,
Солнца ждет цветок!
* * *
«Наш мир, пожаром объятый…». Перевод Арк. Штейнберга.
Наш мир, пожаром объятый,
Трещит до самой основы,
Вздымается вал девятый,
Его захлестнуть готовый.
За силой сила слепая
Бушуют, в битву вступая.
Из бездны, сквозь дымное пламя,
Выходят жуткие тени.
Они гремят кандалами
И жаждут новых сражений.
Свирепым детищам ада
В бою снисхожденья не надо.
Под хриплые вопли и стоны
Трубят архангелы зорю.
Поток людей ослепленный
Подобен бурному морю;
И голод и злоба влекут их
Вперед, кровожадных и лютых.
Куют оружие ныне
Народы, тревожась недаром,
Что лживые рухнут твердыни,
Сожженные грозным пожаром,
И старый порядок неправый
Потонет в пучине кровавой.
Им ясно, что тайная сила,
Скопившись во мраке заране,
Под корень ложь подкосила,
Подняв знамена восстаний,
Чтоб след неволи проклятой
Сровнять железной лопатой.
И ясно, что надо им вместе
Всеобщий клад безымянный
Спасти от бессмысленной мести,
От собственной ярости пьяной,
Спасти для грядущих столетий
Духовные ценности эти.
МАРИЯ КОНОПНИЦКАЯ.
Мария Конопницкая (1842–1910). — Крупнейшая поэтесса периода расцвета реализма в польской литературе. Дебютировала в 1875 году, в 80–90-е годы издала ряд поэтических сборников (четыре томика «Поэзии», сборники «Линии и звуки», «Людям и мгновениям», «Новые песни», и др.). В ее обширном наследии выделяются гражданская лирика, песни в фольклорном духе, стихотворные новеллы — реалистические зарисовки народной жизни, проникнутые сочувствием к тяжкой доле тружеников. Большая поэма М. Конопницкой «Пан Бальцер в Бразилии» (1910) повествует о судьбе польских крестьян-эмигрантов. Опубликовала также несколько сборников новелл, относящихся к лучшим образцам реалистической прозы.
«Для чего бы вам, росинки…». Перевод И. Новича.
Для чего бы вам, росинки,
Падать с неба,
Если бос и не одет я —
И без хлеба?
Или слез, людьми пролитых,
Слишком мало,
Что и ночь еще слезами
Плакать стала?
Походить по нашим нивам
Нужно вволю,
Чтобы счесть, как много льется
Слез по полю!
И потом, начавши жатву,
Мы б боялись,
Чтоб кровавыми снопы нам
Не казались.
Утром солнышко, проснувшись,
Встанет с ложа —
И росы как не бывало…
Для того же,
Чтоб и наши слезы сохли
Понемногу,
Целый мир поджечь бы нужно
Было богу!..
* * *
«Сияли мои очи меж листвою…». Перевод Д. Самойлова.
Сияли мои очи меж листвою
В зеленых чащах,
Налились мои очи синевою
Ручьев кипящих.
Над косарем, как ласточки, метались
Утрами рано,
Подобно белой тучке, затмевались
Слезой тумана…
Бежали вместе с ветром, за волною
Пшеницы спелой,
Встречали за ночною пеленою
След зорьки белой.
Видали в небе тучи, налитые
Зарей пурпурной,
Отыскивали звезды золотые
Во мгле лазурной…
Но грустно им, моим очам бессонным,
Очам печальным,
Когда скользят по деревням зеленым,
По нивам дальним…
И забываешь о цветных покровах
И о закатах,
Когда глядишь на бедняков суровых
В убогих хатах.
* * *
«Как король шел на войну…». Перевод А. Колтоновского.
Как король шел на войну
В чужедальнюю страну,
Зазвенели трубы медные
На потехи на победные.
А как Стах шел на войну
В чужедальнюю страну,
Зашумела рожь по полюшку
На кручину, на недолюшку…
Свищут пули на войне,
Бродит смерть в дыму, в огне,
Тешат взор вожди отважные,
Стонут ратники сермяжные.
Бой умолк; труба гремит,
С тяжкой раной Стах лежит,
А король стезей кровавою
Возвращается со славою.
И навстречу у ворот
Шумно высыпал народ,
Дрогнул замок града стольного
От трезвона колокольного.
А как лег в могилу Стах,
Ветер песню спел в кустах
И звонил, летя дубровами,
Колокольцами лиловыми…
URBS AVINIONENSIS[260]. Перевод В. Левика.
[260].
Семь — число из самых лучших
Для всего, что сердцу мило.
Авиньон в семерке черпал
Веру, истину и силу.
Семь ворот в стенах имел он,
Семь созвучий в перезвоне.
Семь грехов свершалось за день
В добронравном Авиньоне.
Семь крутов для фарандолы[261],
Семь церквей для паствы было.
Семь ключей к воротам града
Семь правителей хранило.
Даже семь мудрейших греков
Родились бы не в Элладе,
Если б мудрость уважали
В Авиньоне, славном граде.
Семь дворцов зато имел он,
Семь аббатств различной масти,
Семь обителей для женщин,
Под крестом таящих страсти.
Папы жили в семивратных,
Семибашенных палатах.
Семь крылец там охраняли
Семь архангелов крылатых.
Семь стояло кардиналов
Пред святым отцом у трона.
Семь грехов смердели смертно
К небесам из Авиньона.
ПРИСЯГА[262]. Перевод В. Левика.
[262].
Не осквернят враги наш дом
И наш язык не тронут больше,
От Пястов мы свой род ведем,
Мы дети непреклонной Польши,
И мужество — побед залог.
Пусть нам поможет бог!
Держать мы будем Польши стяг,
Пока последний час не грянет,
Пока не рухнет мертвым враг
И крестоносных орд не станет.
Мы защитим родной порог,
Пусть нам поможет бог!
Не плюнет нам пруссак в лицо,
Наш край не будет онемечен,
Сомкнет нас в тесное кольцо
Свободный дух, который вечен,
И золотой затрубит рог,—
Пусть нам поможет бог!
ЯН КАСПРОВИЧ. Перевод Елены Благининой.
Ян Каспрович (1800–1926). — Был сыном малоземельного крестьянина, ценой огромного упорства и жертв получил образованно, в молодости сблизился с социалистами, выступал в их журналах, подвергался арестам. В его сборнике «Поэзия» (1888) основное место занял цикл сонетов «Из хаты» — реалистическая картина нищей и темной польской деревни. На переломе веков характер творчества поэта меняется: появляются индивидуалистические поты, настроения пессимизма («Гибнущему миру», 1902), религиозно-метафизические размышления, символистская образность. Но не пропадают в нем и чувства солидарности с угнетенными, социальный протест (драма «Костка Наперский», 1899; «Книга бедняков», 1916, и др.). Каспрович занимался также литературно-критической деятельностью, много переводил, был профессором Львовского университета.
«Снег, мороз или студеный ветер…».
Снег, мороз или студеный ветер —
В школу парень все равно бежит.
Вечером в сырой избе дрожит,
Но читает при убогом свете.
Летом — в пастухи… И даже дети
Насмехаются. А он молчит —
У него в суме Гомер лежит
И Вергилий… Что насмешки эти!
Вырос… И отправился в столицу…
Знаний там — глубокая река…
Ждут родные своего сынка…
Он им пишет: «Нужно доучиться!
Скоро кончу!..» Кончил паренек
Тем, что в землю на чужбине лег!
КУСТ ДИКОЙ РОЗЫ В ТЕМНОСМРЕЧИНСКИХ СКАЛАХ. (Из цикла).
В темносмречинских диких скалах,
Где озёра неба синее,
Среди осыпей пламенея,
Розы куст приютился алый.
Шелестит трава… А за нею
Пик штыком торчит небывалым,
И сосна, клонясь над обвалом,
Обнажает корней своих змеи.
Одинокий, грустный, безвестный,
Куст прижался к скале отвесной,
Будто в страхе чего-то ждущий…
Тишина… Только ветер стонет,
Серый прах подымает — гонит
На останки пихты гниющей.
«Имущие власть и богатство…».
Имущие власть и богатство,
Как судьбы у нас не похожи!
Хотя не ложусь я голодным
И сплю не на нищенском ложе,
Хотя одинаково наши
Сорочки и тканы и шиты,
Хотя одинаковы сукна,
Которыми спины покрыты,
Хотя мы порой восседаем
За общим столом беспечальным,
Едим из красивых тарелок
И тянемся к чашам хрустальным,
Наполненным старой лозою,
И тянем вино до рассвета,—
Хвалю я его вместе с вами
За терпкость, за топкость букета,
Хотя одинаковы наши
Пороки. И доблести тоже.
И все ж глубоко я уверен,
Что наши пути не похожи.
Хотя, позабыв про заботы,
Как вы, я шатаюсь все лето —
Без всякого дела, без цели,
С рассвета почти до рассвета.
Хотя не один из вас может
Со мной разделить наслажденье
От свежего ветра, от солнца,
От птичьего свиста и пенья,
Хотя и средь вас, несомненно,
Есть люди (пускай их немного),
Которые судят о жизни
Разумно, глубоко и строго,—
И все-таки вы мне чужие,
Ничто не роднит меня с вами,
Увы, даже вечное солнце
Над нашими головами.
Увы, даже гром, что угрюмо
Рокочет за соснами бора,
А гром ведь для всех одинаков —
Крушит и разит без разбора!
Быть может, я вынужден буду
Свернуть с моей славной дороги
И жалко умру и презренно,
Как вы, — без борьбы, без тревоги.
Так я рассуждаю печально,
Блуждая в тенистых дубравах…
Хотелось бы мне всей душою
Любить виноватых и правых,
Богатых и бедных… Но тщетно!
Всем сердцем, всей жаркою кровью
Униженных и неимущих
Люблю я великой любовью!
И все, что во мне еще живо,
Еще не растрачено, свято,
Отдам человеческой муке,—
Страданью скорбящего брата.
КАЗИМЕЖ ТЕТМАЙЕР.
Казимеж Тетмайер (1865–1940). — Поэт стоит у потоков того периода в истории польской литературы (конец XIX — начало XX в.), который называют эпохой «Молодой Польши» и который отмечен влиянием модернистских течений, переплетавшихся подчас с оживлением романтических традиций и не заглушивших вместе с тем развития реализма. В книжках «Поэзии» Тетмайера (издавались с начала 90-х годов) доминируют стихи пейзажного и любовного содержания, размышления о кризисе культуры, индивидуалистический протест против серости мещанского бытия. Он писал также драмы и прозу (особенно популярны его новеллы и романы о крестьянах-горцах, жителях Татр, — «На скалистом Подгалье», 1903–1910; «Легенда Татр», 1909–1910). После первой мировой войны Тетмайер, страдавший психическим заболеванием, прекращает литературную деятельность.
В ЛЕСУ. Перевод Арк. Штейнберга.
Медлительно и сонно,
Разморены от зною,
Плывут в лазури тучки,
Мерцая белизною.
В косом луче касатка
Порой несется мимо,
Серебряною каплей
Сверкнув неуловимо,
И золотые блики
Нет-нет мелькнут на склонах,
На травяных лужайках,
Рекою окаймленных.
Смарагдовое солнце
Сквозит в тенистых чащах,
Пронизывает ветви
Пучками стрел горящих.
И на земле и в небе,
Струясь подобно чуду,
Прозрачно голубеет
Задумчивость повсюду.
МЕЛОДИЯ НОЧНЫХ ТУМАНОВ. (Над Черным Гусеничным Прудом). Перевод Арк. Штейнберга.
Тише, тише, не строньте сонной влаги в долинах,
Лучше с ветром пропляшем средь просторов пустынных,
Вкруг луны обовьемся, как прозрачные ткани,
Позаимствуем отсвет многоцветных сверканий.
Звон ручьев мы впитаем, и плесканье в озерах,
И соснового бора еле слышимый шорох,
Ароматом цветочным до отвалу упьемся,
С легким ветром в пространство голубое взовьемся,
И, исполнены красок, ароматов и звонов,
Снова пустимся в пляску, сонной влаги не стронув.
Вон звезда покатилась, в темноте пропадая,
И за нею вдогонку понеслась наша стая!
Мы играем пушинкой, оброненной осотом,
Пестрым перышком птичьим, что кружит над болотом,
И с летучею мышью мы беззвучно пропляшем,
Оплетем паутинным, частым неводом нашим.
От вершины к вершине мы мостки перекинем,
Пригвоздим их к утесам звездным лучиком синим,
На мостках этих ветер на мгновенье приляжет,
И развеет их тут же, и лететь нам прикажет…
* * *
«Молви хоть слово…». Перевод А. Ревича.
Молви хоть слово… Мечтал я о встрече
Долгие годы… Напев твоей речи
Сладок, и сердце сжимается снова.
Молви хоть слово…
Молви хоть слово… Никто нас не слышит!
Голос твой душу так сладко колышет,
Нежный, как свежесть цветка полевого.
Молви хоть слово…
ЧТО ЗНАЧИТ ЮНОСТЬ БЕЗ ЛЮБВИ? Перевод А. Ревича.
Что значит юность без любви?
Звезды погасшей свет холодный,
Оазис мертвый, ключ безводный,
Без благовония букет,
Бесплодный яблоневый цвет,
Дворец без парка — и колода,
Где нет, увы, ни пчел, ни меда.
Что без любимой — человек?
Дуб одинокий на пригорке,
Вьюнок, растущий без подпорки,
Стриж, не имеющий гнезда,
Текущая в провал вода,
Край, где разрушена столица,
И вихрь, который в тучах мчится.
СТАНИСЛАВ ВЫСПЯНСКИЙ.
Станислав Выспянский (1869–1907). — Вошел в польскую культуру прежде всего как крупнейший драматург и как выдающийся художник-живописец периода «Молодой Польши» (он был учеником Яна Матейки, в 90-е годы продолжал образование за границей, под конец жизни стал профессором Академии художеств в Кракове). Драмы Выспянского посвящены как современности («Проклятие», 1899; «Свадьба», 1901; «Судьи», 1907), так и национальному прошлому («Варшавянка», 1898; «Освобождение», 1903, и др.); они прочно вошли в польский театральный репертуар. Лирике своей он придавал меньшее значение, но и она привлекает современного читателя непритязательной простотой и искренностью.
«Пускай никто из вас не плачет…». Перевод В. Левика.
1.
Пускай никто из вас не плачет
Над гробом, — лишь моя жена.
Не жду я ваших слез собачьих,
Мне жалость ваша не нужна
2.
Пусть хор надгробный не горланит,
Не каркает церковный звон,
А мессу дождь отбарабанит,
И речь заменит ветра стон.
3.
И горсть земли рука чужая
На гроб мой кинет, а потом
Пусть солнце высушит, сияя,
Курган мой, глиняный мой дом.
4.
Но, может быть, наскучив тьмою,
В какой-то час, в какой-то год
Я землю изнутри разрою
И к солнцу устремлю полет.
5.
И вы, узнав мой дух в зените
Уже в обличии другом,
Тогда на землю позовите
Меня моим же языком.
6.
И, вдруг услышав ваше слово
В своем паренье меж светил,
Я предприму, быть может, снова
Тот труд, что здесь меня убил.
ПОРТУГАЛИЯ. Перевод Инны Тыняновой.
ЖОАН АЛМЕЙДА ГАРРЕТ.
Жоан Алмейда Гаррет (настоящее имя — Жоан Баптиста да Силва Лейтао, 1799–1854). — Драматург, поэт, романист, основоположник португальского романтизма; политический и общественный деятель либерально-демократического направления.
Известность Гаррету принесла постановка его трагедии «Катон» (1822). После реакционного государственного переворота 1823 года он эмигрировал во Францию, а затем в Англию. 1825 год, когда вышла в свет поэма Гаррета «Камоэнс», одно из лучших произведений португальской литературы XIX века, считается годом рождения романтизма в Португалии. Романтизм Гаррета основан на изучении национальных поэтических традиций; творческое использование фольклора поэт считал непременным условием создания национальной литературы. Главный герой поэмы «Камоэнс», вернувшийся на родину изгнанник, скорбит о ее несчастьях, непонятый и преследуемый современниками. Наряду с заметным влиянием европейского романтизма в поэме ощущается обращение к отечественным традициям, в частности, к «Лузиадам» Камоэнса. В романтическом духе написана и другая поэма Гаррета— «Дона Бранка» (1826). Возвратившись в 1826 году в Португалию, Гаррет активно включается в политическую жизнь и за либеральную направленность издаваемых им газет «Португалец» и «Хроникер» подвергается тюремному заключению. В 1828 году он публикует вдохновленный народным песенным творчеством поэтический сборник «Адозинда». В 1838 году Гаррета назначают главным инспектором театров; нынешнее поколение португальцев обязано ему созданием национального театра, консерватории и классического репертуара. Он пишет ряд романтических драм. Широко известны сборники стихов Гаррета «Цветы без плодов» (1845) и «Опавшие листья» (1853). Ему принадлежат также романы на современные и исторические темы.
Поэзия Гаррета исполнена напряженного драматизма, ей свойственна пылкость и непосредственность; стихи Гаррета полны автобиографических намеков. Во многих своих стихотворениях поэт отходит от классической ученой поэзии, лексически и интонационно приближая свой стих к разговорной речи. В поздних сборниках он расстается с белым стихом и классическими жанрами, предпочитая прихотливо рифмующиеся строки редондильи и куадры— жанров, заимствованных из народной поэзии.
КАМОЭНС. (Фрагмент поэмы).
Тоска по родине! О, горький вкус несчастья,
О, рана сладкая, нанесена шипами,
Что сердце скорбное в груди моей пронзают
Глубокой болью, ткань души порвавшей.
Но боль таит усладу… О, томленье!
Святое таинство, что оживляешь
Сердца разбитые, чтобы они сочились
Не кровью жизни уж, но сывороткой тонкой
Застывших слез неслышных… О, томленье!
Тебе дано особенное имя,
Звучащее так нежно и певуче
Из лузитанских[263] уст, — тебя зовут «саудади»…
Его не знают гордые сигамбры[264]
В далеких этих землях… О, томленье!
Магическое таинство, ты душу
Оставленного друга увлекаешь
К тоскующему одиноко другу,
Неверного — к возлюбленной забытой,
А бедного изгнанника-страдальца —
Несчастнейшего из земных созданий —
На лоно родины во сне уносишь,
Во сие, скорее сладком, а не горьком,
Хоть пробужденье тяжко! — О, святыня!
Я пел уже твои дары и кары
В унывных плачах, набожно оставил
На алтарях твоих, слезами окропленных,
Мое еще трепещущее сердце,
Когда из горестной груди я вырвал
Его над устьем Тежо… К водам Тежо
Меня уносит мысль, что бьет крылами,
Бессильно оробев средь этих вязов,
Волнами бедной Сены орошенных,
Когда-то бурной Сены… О, Киприда[265],
Явись на колеснице, что влекома
Голубками, воркующими страстно,
За грустною душой, тобою полной.
УЕДИНЕНЬЕ.
О, как свободно бьется
В груди моей измученное сердце!
Живительною силой
Меня дарит пустынный этот воздух!
Не застилает очи
Тлетворный ветер городских кварталов,
Не оглушает рокот
Вокруг меня теснящегося сброда,
И дерзкою толпою
Ленивцев праздных здесь не окружен я.
В сем уголке забытом,
Что незаметен суетному взору,
Вкушая наслажденья,
Которые дано познать лишь мудрым,
От многих тягот жизни
На лоне сладкого Уединенья
Я отдыхаю мирно.
О, почему на утре лет туманном
И с первою зарею
Моей едва лишь восходящей жизни
Тебя ищу так страстно,
Уединение, прибежище страдальцев,
Опора всех печалей?
У сердца моего, еще в покое,
Не ведавшего страсти,
Что есть твоим поведать гулким долам,
Твоим нагорным чащам?..
И все ж ищу тебя и так благоговейно
Душою погружаюсь
В блаженную печаль отрадной неги,
Которой все здесь дышит!
Мне сказывали, это скверный признак —
Вот так бежать от жизни
Еще у врат ее… Но, гость старинный,
Тобой, Уединенье,
Я буду принят вновь, когда, спасаясь
От всех невзгод и бедствий,
Приду к тебе просить об утешенье
В моих грядущих бедах.
ТОНУЩИЙ КАМОЭНС[266].
[266].
Пред гневом Нептуна в соленую влагу
Корабль погружается с даром бесценным;
Со смертью в потоке сражается пенном
Прославивший Васко да Гамы отвагу.
Стихии уносят священную сагу!..
Камоэнс великий, над чревом бездонным
Напрасно плывешь ты к брегам отдаленным,
На дно твои строки бесценные лягут.
Сыны Лузитании, плачьте… Но правой
Рукою он режет волну все свободней,
А в левой — листы с лузитанскою славой.
О, вечная Песнь, ты жива и сегодня!
А грубая зависть с враждою кровавой
Пусть канут в кипящую тьму преисподней.
ГИМН ПОЭЗИИ.
Моя наперсница, моя святая тайна,
Ты, что всегда со мною,
В несчастии, в сомнениях, в печали,
Дабы меня утешить;
Дарующая мне звенящий голос,
Когда так много счастья,
Что давит на душу, так полно сердце,
Что разорваться может!
Как мне назвать тебя, какое имя,
О дочь небес далеких,
Я дам тебе, Поэзия, отрада
Моей весны веселой?
Когда б я ни позвал — ты отзовешься,
Голубизну покинешь
И принесешь охапки свежих, пышных
Цветов, цветущих вечно
В садах небесных… Ты всегда приходишь,
Но каждый раз — иная!
Тебя я вижу то прекрасной нимфой
В задорном легком беге,
Свободной, обнаженной, своенравной,
С очами голубыми,
Порой сверкающими жаждой жизни
И плотских наслаждений,
Порой струящими тепло и томность
Испытанного счастья.
То вижу я, как шелковые пряди
Тебе на плечи льются
И треплются по ветру в бурном танце
На греческих равнинах,
Когда летишь в кругу крылатых гимнов,
Под пенье лиры звонкой,
Плетя замысловатые узоры,
Иль плавно проплываешь,
Или стремишься ввысь, отдав зефиру
Прозрачные одежды.
То, тронув струны сладкозвучной цитры
В порыве благородном,
Хвалы богам, героям ты возносишь
К высоким звездам неба;
То, нежная, в простых наивных песнях
Красу природы славишь,
Покой и радости безгрешной жизни,
Невинности отраду;
Или поешь, так тихо, вдохновенно,
О счастье верной дружбы.
Порой, в пылу любви, в восторге страсти
Ты раздуваешь пламя,
Что только красота зажечь способна,
И оживляешь чудо,
Что в тайной глуби двух сердец сокрыто,
Соединенных богом…
Как робок в этот час твой нежный голос,
С каким глубоким вздохом
Хранить сей хрупкий дар ты умоляешь!
Но, осмелев внезапно,
Ты с чистых губ срываешь поцелуи,
О коих так недавно
С подобным умиленьем умоляла!
Тогда ты вся — горенье…
Но сколько раз тебя я зрел в печали,
Усталой от страданий,
Растрепанной, в слезах, с потухшим взором,
Когда, моля о смерти,
Поникшая челом, ты уж не пела —
Стонала вместе с лирой!
И ревность злая, черные измены,
Упреки, подозренья
Вокруг тебя летали с воем скорбным.
И что ж? Не подурнела
Ты от таких мучений! Ты лишь краше,
Когда на струны лиры
Из скорбных глаз медлительным потоком
Твои струятся слезы
И оживляют дремлющие звуки,
Гармонию святую,
Пронзая сердце сладостной стрелою,
Которая зовется
Печаль… иль радость неба!
ЖОАН ДЕ ДЕУС.
Жоан де Деус (1830–1896). — Талантливый лирик, чьи стихи отличаются ритмической выразительностью, простотой и отточенностью формы. Еще во время учения в Коимбре (1849–1859 гг.) Деус выделялся разносторонней одаренностью: он рисовал, импровизировал стихи, сопровождал своп импровизации игрой на гитаре. После окончания юридического факультета работал адвокатом и журналистом. В 1869 году вышел в свет его первый сборник стихов — «Полевые цветы». Тогда же Деус начал составлять свой знаменитый «Материнский букварь», опубликованный в 1876 году. В 1893 году он издал новую книгу стихов — «Цветущее поле», разошедшуюся так быстро, что тут же было выпущено второе издание. Лирика Деуса лишена всякого налета искусственности, поэт очень любил, в частности, сонетную форму, в которой, по единодушному признанию критики, он достиг совершенства. Интересны также и сатирические стихи Деуса.
На русский язык стихи Деуса переводятся впервые.
ЖИЗНЬ.
Казалось мне, что уж устал светиться
Огонь, с которым шел по жизни я,
И, взгляда от него не отводя,
Я шествую по ступеням гробницы.
Затмился этот свет — и всё затмиться,
Казалось, уж готово предо мной;
Но чуть блеснет его привет живой —
В душе моей свет новый загорится.
Душа сродни моей, невинна и беспечна,
Как ангел неба (иль ты сном была?..),
Хотела мне внушить, что счастье быстротечно.
Не знаю, улетела иль ушла;
Я не умел открыть своей печали вечной
Тем, кто еще не ведал в жизни зла…
СЧАСТЬЕ.
Светило ходом шествует лучистым,
На землю пламенный бросая взгляд;
Небесные певцы парят в просторе чистом;
И волны ласку берегу дарят.
По чащам ветер носится душистым,
Повсюду гимны радости звучат;
Один лишь я бреду путем тернистым,
Среди печалей, что меня томят.
Тоскую по тебе… что далеко отныне,
Что выпустил из рук, что потерял из глаз
В бесплодной этой, сумрачной пустыне!
Тебя я, счастье, видел только раз…
И гнал так много раз в моей кручине,
И… без тебя кручинюсь в этот час!
АНТЕРО ДЕ КЕНТАЛ.
Антеро де Кентал (1842–1891). — Идейный вождь так называемого поколения 70-х годов, поэт, публицист. Учился на юридическом факультете Коимбрского университета. Два года провел в Париже, где лично познакомился с Прудоном и Мишле; посетил также США; возвратившись в Лиссабон, создал кружок единомышленников. Поэт принимал активное участие в общественной жизни; он сотрудничал в республиканской синдикалистской печати, публиковал пропагандистские брошюры для рабочих организаций; в 1872 году он создал португальскую секцию Интернационала, дважды избирался в парламент от социалистической партии. С середины 70-х годов Кентал ом овладевают пессимистические настроения, в чем не последнюю роль сыграло торжество реакции в Испании и во Франции, преследования сторонников Интернационала. Он увлекается буддизмом, философией Шопенгауэра, Фихте. Покончил жизнь самоубийством.
Юношеская лирика Кентала посвящена главным образом философским размышлениям. Сборник «Современные оды» (1865) носит открыто революционный характер. Христианской религии Кентал противопоставляет пантеизм. История человечества предстает у поэта как сменяющие друг друга грандиозные катастрофы цивилизации, последовательное свержение «тронов, религий, империй, обычаев». Излюбленной поэтической формой зрелой поэзии Кентала стали сонеты. В них отразились основные этапы его духовной эволюции — драматический разрыв с наивной детской верой в бога, любовные переживания, неудовлетворенность повседневной жизнью.
На русский язык стихи Кентала переводятся впервые.
ПЛЕННИКИ.
Прижимаясь к решеткам темницы,
В небо грустными смотрят очами.
Уплывая косыми лучами,
Свет последний на нем золотится.
Меж теней, за туманною далью,
Голоса замирают тоскливо,
С вышины тяжело, молчаливо
Ночь сошла со вселенской печалью.
Смотрят пленники вдаль. Птичья стая
Мчится в воздухе, мчится тревожно,
Словно дума ее неотложна,
Словно важное дело решая.
Молвят пленники: «Не помрачится
Негасимая даль небосвода…
Есть у птиц и полет и свобода…
У людей — только стены темницы!
О, куда вы? Где дом ваш и местность?
Свет? Пространство? Заря? Непонятно…»
Птичий хор отвечает чуть внятно:
«В ночь, в ничто, в темноту, в неизвестность!»
Смотрят пленники вдаль. Веет ветер,
Воет ветер протяжно, уныло,
Словно горе его истомило,
Словно сам он за тайну в ответе…
Молвят пленники: «Что за стенанья,
Что за древние боли-кручины
Ты несешь чрез поля и долины
По бескрайным дорогам скнтанья.
Что ты ищешь? Твоя бестелесность
Что в пространстве таит необъятном?»
Дикий ветер роняет чуть внятно:
«Ночь, ничто, темноту, неизвестность!»
Смотрят пленники в небо, вздыхая…
Словно призраки древних страданий,
Словно светочи смутных желаний,
Загораются звезды, мерцая.
И сияют в пустыне безбрежной,
И украдкой следят друг за другом,
Словно мучимы тайным недугом,
Словно страстью больны безнадежной…
Молвят пленники: «Что за виденья
Вас влекут, изначальны, извечны?
Что за струи с небес, быстротечны,
Вам святые несут откровенья.
Что вас ждет? Голубая окрестность
Что дарит вам в тиши благодатной?»
Звезды грустные шепчут чуть внятно:
«Ночь, ничто, темноту, неизвестность!»
Ночь проходит. В рассветном покое
Бор проснулся с мечтательным шумом.
И одни, в каземате угрюмом,
Смотрят пленники в небо глухое!
ПОБЕЖДЕННЫЕ.
Три всадника взбираются устало
Пустынною тропою каменистой.
Рыдает ветер в роще густолистой,
Седая тьма уже с небес упала.
Разбита их броня, одежды рваны,
Их иноходцы загнаны и пыльны,
Оружье руки удержать бессильны,
И кровь струей течет из каждой раны.
Клонит главу их, гордую когда-то,
Измены весть и пораженья горе…
На темном и неведомом просторе
Горит пятно кровавое заката.
И первый из троих, воздевши руки,
Рыдает: «Я любил и был любимым!
И за виденьем шел неотвратимым
Во власти света, радости и муки!
Я устремлялся к вышнему покою,
Где обитают души всех влюбленных,
Свободен, счастлив, среди звезд бессонных
Я наслаждался вечною весною.
Зачем до чистой тверди обожанья
Тлетворной страсти долетает ветер?
О, горе тем, кто лишь однажды встретил
Его глухое, жгучее дыханье!
Согрет рассвета чистым дуновеньем
Цветок душистый первой страсти нашей,
Но глубоко в его пурпурной чаше
Таится яд — усталость и забвенье.
О братья, я любил душой смятенной…
За то скитаюсь, потеряв любовь…
И медленно моя сочится кровь
По каплям из груди моей пронзенной».
Второй тут всадник, выказав участье,
Сказал с улыбкой горькой и надменной:
«Любил людей я и для всей вселенной
Мечтал о справедливости и счастье.
За правый суд я поднял голос страстный
В сражении кровавом и жестоком;
Как рог призывный на пути далеком,
Я подымал отверженные расы.
Когда настанет день идей могучих?
Когда настанет время избавленья?
Но меч мой дрогнул посреди сраженья,
Не зреет колос на песках зыбучих!
И, книгу не прочтя грядущих дней,
Листают нации ее с улыбкой жалкой,
И мирно спит народ на грязной свалке,
Как на пурпурном ложе королей.
О братья, я любил людей, за правый
Я суд сражался, был мой дух высок…
За то я умираю, и песок
Пьет кровь мою с поверженною славой».
Здесь третий всадник поспешил с ответом:
«Любил я Бога сердцем и умом,
И божье имя сделал я щитом
В сраженьи с суетным и лживым светом.
Его я призывал в часы докуки,
Терзаемый греховным искушеньем.
Искал его с тревогою и рвеньем,
В сомнительные углубясь науки.
Какой же ветер сокрушает стены
Святого храма веяньем могилы?
И звезды гаснущие падают, остылы,
Промчавшись с грохотом по небесам вселенной!
Вот солнце дрогнуло, в толпе святых — смятенье…
И дня пустого свет лишь скуку источает…
О, горе том, кто руки простирает,
Чтоб небу вознести напрасное моленье!
О братья, Бога я любил глубоко…
За то скитаюсь без пути отныне,
И, обескровленный, влачу по сей пустыне
Я душу мертвую средь пыльных листьев дрока».
Все трое, съединясь в одном стенанье
И руки опустив свои недужно
К оружью, что разбито и ненужно,
Не в силах побороть свое страданье,
Растаяли в неверной мгле густой
Горы, вдали таинственно молчащей.
Растаяли в непроходимой чаще
И в бледноте ночи немой.
ПОЭТУ.
Ты, чья душа спокойно задремала
Под древней тенью кедровых ветвей,
Как спят жрецы под сенью алтарей
Вдали от битв и от земного шквала,
Проснись! Пора! Высоко солнце встало,
Рассеялся могильный рой теней…
Чтоб новый мир восстал из сих морей,
Лишь только знака недостало…
Послушай! Это голос толп людских!
Твои то братья, их ты слышишь пенье?..
Но в нем война… и голос тот — набат!
Так из лучей заветных грез твоих,
Мечтатель, сделай меч сраженья,
Восстань, Грядущего солдат!
ГИМН РАЗУМУ.
О Разум, брат Любви и Правосудья,
Услышь мою мольбу в который раз.
То сердца, полного тобою, глас,
Души свободной — твоего орудья.
Из-за тебя всегда открыта будет
Туманность звезд, светил, миров для нас;
Из-за тебя свет правды не угас,
И героизма злак растят на ниве люди.
Из-за тебя, перстом судьбы ведомы,
Свободу ищут нации сквозь громы;
И кто зовет грядущее в мечтах,
Из-за тебя готов снести мученье…
И все твои сыны, вступив в сраженье,
Твое начертят имя на щитах!
ГЕРРА ЖУНКЕЙРО.
Герра Жункейро (1850–1923). — Революционный поэт, политический деятель, дипломат. В 1873 году окончил юридический факультет Лиссабонского университета. В 1874 году Жункейро опубликовал поэму «Смерть дона Жуана», где в сатирическом виде представил донжуанство и его последствия для общественной жизни. В 1879 году появляется сборник лирики Жункейро «Муза на отдыхе», созданный под влиянием поэзии В. Гюго.
В 1885 году Жункейро издает антиклерикальную сатиру в стихах «Старость Бессмертного отца», в ней ощущается воздействие философских воззрений Прудона и Мишле. Эпическая поэма об Освобожденном Прометее, которой он намеревался дополнить свою книгу, так и осталась незаконченной. Патриотическая поэма «Родина» (1896) проникнута элегическими настроениями. С годами творчество Герры Жункейро наполняется демократическим содержанием. Основные герои его сборника «Простые люди» (1892) — рабочие, землепашцы, бездомные дети; они вызывают у поэта искреннее сострадание. В «Молитве о Хлебе» (1903) и в «Молитве о Свете» (1904) преобладает пантеистический мистицизм, библейские мотивы сочетаются с упоминаниями о новейших достижениях тогдашней пауки. После установления Первой республики (1910–1926) Жункейро в качестве дипломата представлял новый режим в Берне (Швейцария).
На русский язык переводится впервые.
СЛЕЗА.
Рассвет июньский, жаркий. Склон пологий,
Сухой и голый, на краю дороги.
Суровая земля, где только вереск вялый
Пьет солнце, ест песок и гложет скалы.
На сморщенном листе смоковницы, чьей пищей
Одни лишь камни служат, жалкой, нищей,
Заря оставила, явив печаль святую,
Небесную слезу, прозрачную, большую.
Такую чистую, что кажется порою
Вблизи — алмазом, издали — звездою.
Король проехал: тридцать копий свиты,
Забрала, шлемы, стяги в воздух взвиты.
«В моем венце, — сказал король надменный,—
Сапфиры есть, брильянты есть бесценны,
Восточные рубины — кровь и злато,
Как знак страстей, испытанных когда-то.
Есть жемчуга, как будто капли горя,
Что скорбно льет луна и тайно студит море.
Но я готов отдать все чудеса Востока
Чтоб ты, слеза, что так блестишь высоко,
В божественной моей короне засверкала
И мир у ног моих оттуда созерцала».
Но чистая слеза, полна тепла и света,
Дрожит, блестит, горит — и не дает ответа.
В броне железной, что в веках искрится,
Верхом проехал странствующий рыцарь.
И он сказал слезе, исполнившись отваги:
«Сойди сиять на крест моей бесстрашной шпаги!
Я понесу тебя в победах величавых
В Святую Землю, в блеске бранной Славы!
Вернемся — и моя невеста пусть тобою
Грудь белую украсит, как звездою.
И будешь ты служить своим огнем прекрасным
И ратным подвигам, и грезам сладострастным».
Но чистая слеза, полна тепла и света,
Дрожит, блестит, горит — и не дает ответа.
На буром ослике рысцою неизменной
Проехал ростовщик, старик-еврей презренный.
На мулах вслед влеклось немалое именье:
В кедровых сундуках все злато да каменье.
А старичок — в лохмотьях жалких, худ как щепка,
Лыс череп, нос крючком, а глазки смотрят цепко —
Звезду увидев, молвит: «Боже, что за диво!
Мерцает, рдеет как, и светится красиво!
На золото мое купить могу я вскоре
Сокровища царей и корабли на море.
Но за такой брильянт отдам я без возврата
Всей скупостью моей накопленное злато».
Но чистая слеза, полна тепла и света,
Дрожит, блестит, горит — и не дает ответа.
Тут из-под дерева чертополох безвестный,
Уже иссохший весь, сказал слезе небесной:
«Земля, что розами покрыта и сиренью,
Не холила меня и не дарила тенью.
Коль руки к небу я воздену ненароком,
Оно меня за то в огне сожжет жестоком.
На мой колючий лист ни разу не присели
Пернатые певцы, чтоб их я слушал трели.
Ни разу не пришли беседовать со мною
Влюбленные в ночи, озарены луною…
Взмывает птица ввысь, любовь проходит мимо,
Я никогда не цвел, и тень моя незрима!..
Слеза богов, светило, капелька воды,
Сойди ко мне, избавь от роковой беды!»
И чистая слеза, полна тепла и света,
Дрожит, дрожит, дрожит… упала без ответа.
И вскоре жалкий куст живым налился соком,
И заалел цветок в его венце высоком
Семьею бледных лепестков красно-лиловых,
Как кровь, что некогда текла из ран Христовых…
И в чашу бедную с жужжанием веселым
Слетались мед искать запасливые пчелы!..
РОПЩУТ РЫБАЧЬИ ЛАЧУГИ…
Море туманное, море бездонное,
Жестокий шквал!
Бури могучие, бури великие…
Воют зеленые чудища дикие
В черных пещерах, где пенится вал.
Море призывное, море зыбучее,
Полнощный шквал!
Холод неистовый, ветер бродячий…
Мечется, прядает парус рыбачий,
Песню уносит бушующий вал.
Море ярится, море клокочет…
Бурливый вал!
Ночь непроглядная, ночь грозовая,
Жены и матери, руки ломая,
Ходят молиться на скользкий причал.
Море гремящее, море унывное,
Угрюмый вал!
Слезы и стоны, слезы и стоны…
Кружит волна моряков обреченных,
Тех, кто в кипящую бездну упал.
Море бескрайное, море бескрайное,
Проклятый вал!
Ночь и ненастье, ночь и ненастье…
Парус как саван, мачта — на части,
Плачут сироты меж диких скал!
РУМЫНИЯ.
ИОН БУДАЙ-ДЕЛЯНУ.
Ион Будай-Деляну (1760–1820). — Родился в Трансильвании. Активный участник «Трансильванской школы» — патриотического румынского движения, направленного против владычества Австро-Венгерской империи Габсбургов. Под влиянием идей энциклопедистов и французской революции 1789 года Будай-Деляну написал ряд сочинений по вопросам права, истории, философии и педагогики.
ЦЫГАНИАДА[268]. (Фрагмент). Перевод А. Арго.
[268].
Мы короля, допустим, выбираем,
И он, как это видим я и вы,
Вполне достоин править нашим краем,
А сыновья и внуки каковы?
Вы можете ли быть, друзья, спокойны,
Что будут все они его достойны?
История примеров знает тьму,
Историк соответствия находит,
И можно ясно показать, к чему
В конце концов монархия приводит,—
События давно минувших лет
Подать нам могут не один совет.
Историк может привести нам случай,
Что жил такой-то повелитель встарь,
Что был он умный, честный и могучий
И вообще был славный государь,
Но чтоб потомок был похож на предка,
Такое замечалось очень редко.
А если ты такого и найдешь,
То все ж нисколько это не причина,
Чтоб у его возлюбленного сына
Была в холопах наша молодежь…
Вопрос не ясен — разберется кто там:
Сын будет ли достойным патриотом?
Я допустить могу в конце концов,
Что этакий единственный наследник,
Принявши власть от дедов и отцов,
Окажется тиран и привередник.
И тех, кому родиться предстоит,
До их рожденья он закрепостит!
В руках имея полноту всей власти,
Пренебрегая нравственностью, он
Свои затеи, прихоти и страсти
В неумолимый возведет закон.
И в некий день подвергнет поруганью
Все то, что нам священно по преданью.
Кто ж назовет ту меру, то число,
Кто перечтет суровые невзгоды,
Те горести и всяческое зло,
Что перетерпят бедные народы,
Что испытать обязана земля
От глупого иль злого короля!
Но чтобы все возможности учесть нам,
Допустим, что с обратной стороны
Мы похвалить наследника должны,—
Он будет добрым, доблестным и честным,
Но все-таки прошу иметь в виду,
Что возраженья я и здесь найду.
Монарх самодержавный и единый —
Будь он хотя б семи пядей во лбу —
Не может все определить причины
И облегчить народную судьбу.
Единолично он понять не может
Все, что страну волнует и тревожит.
И ищет он помощников в делах,
Тех, кто должны достойно и прилично
Ему помочь за совесть и за страх,—
И называют тех людей обычно
Министром, лордом, пэром иль пашой,
В чем разницы не вижу я большой.
Монарх быть может просто нерадивым,
А может быть он даже не умен,
Нередко все обязанности он
Передает советникам ретивым.
И нравится такому королю,
Что он не прикасается к рулю.
Вот так-то им сколоченная клика
Вершит дела высокого двора.
Он никому в строку не ставит лыка,
Считая, что хищение добра
Для настоящей наивысшей знати
Естественнее всех других занятий.
И эти-то пройдохи из пройдох,
Которым равных нет на белом свете,
Умеют так свои расставить сети,
Так закрутить интригу иль подвох,
Что властелин, который их возвысит,
Вдруг видит сам, что он от них зависит.
А если уж запутали его —
То горе угнетенному народу!
Уж беззаконье правит торжество,
Уж произвол насилует свободу,
И рабство цепь на руки нам кладет,
И деспотизм нас мучит и гнетет!
ВАСИЛЕ КЫРЛОВА.
Василе Кырлова (1809–1831). — Родился и жил в Тырговиште. Все наследие рано умершего поэта составляет пять стихотворений, но его заслуженно считают одним из основоположников румынского романтизма и новой румынской поэзии.
РАЗВАЛИНЫ ТЫРГОВИШТЕ[269]. Перевод Н. Стефановича.
[269].
О стены, вы остались как памятник всему
Минувшему величью и счастью своему.
Ведь солнце озаряло и грело горячо
Когда-то эту землю, свободную еще…
Но все скосило время, отрезало пути,
И вот лежат обломки в тяжелом забытьи.
Исчезла ваша слава. Так было суждено.
И стало здесь безлюдно, печально и черно.
От светлой славы предков — ни тени, ни следа.
Дремучее забвенье. Бурьян и лебеда.
И если в прошлом каждый смотрел всегда на вас
С восторгом и с любовью, волнуясь и дивясь,—
То ныне отступает он в ужасе немом,
Увидев разрушенье, руины и разгром.
Но мрачные обломки, лежащие во мгле,—
Вот образ и подобье всей жизни на земле,
И каждому понятно, зашедшему сюда,
Что все на свете так же исчезнет без следа.
Пусть подвиги иные и тверже, чем гранит,
Но время их разрушит, сметет и истребит.
А если кто-то станет всех выше и светлей —
Он все же не избегнет погибели своей.
Я к вам стремлюсь, руины, ведь мне в конце концов
Понятна бесполезность всех замков и дворцов.
И как пастух унылый, в пустых полях бродя,
Спешит порой укрыться от бури и дождя,—
Так я спешу сегодня за ваш надежный щит,
Гонимый грозной бурей страданий и обид.
Нет, песен мне не надо, но я хочу, скорбя,
Отчизна дорогая, оплакивать тебя.
Здесь мудрости источник, и верю потому,
Что многое, быть может, я здесь еще пойму.
Вот день уже уходит, и вот во все дома
Бесшумно проникает бесформенная тьма.
И каждый, кто измучен заботой и трудом,
Спокойно засыпает и спит глубоким сном.
Ведь сон от всех напастей единственный приют…
Но мысли мне и ночью покоя не дают.
Я скорбью беспредельной и жалостью томим,
И снова прихожу я к развалинам седым.
О камни дорогие! Ведь ваш печальный вид
Мой дух приподнимает, меня животворит.
Тоскую я и места не нахожу себе,
Когда о вашей горькой подумаю судьбе.
Я словно у могилы всей доблести былой
И жалобам внимаю с волненьем и тоской.
И в сумраке туманном мне слышатся едва
Хорошие, простые, но грустные слова:
«Как дым, умчалась слава. Всему такой удел.
Ведь светлый дух свободы отсюда отлетел».
Я слышу грустный голос и потрясен опять.
Меня он заставляет свой жребий проклинать.
Позвольте мне, о степы, пока я жив еще,
Здесь думать, утешаться и плакать горячо.
Тиран на эту землю не ступит ни один:
Он в ужасе отпрянет от каменных руин.
ГРИГОРЕ АЛЕКСАНДРЕСКУ.
Григоре Александреску (1810–1885). — Родился в Тырговиште, жил и работал в Бухаресте. Накануне революции 1848 года сблизился с передовыми патриотическим кругами общества, был редактором газеты «Попорул суверан» — органа революционного движения. Основные поэтические сборники Александреску: «Стихи» (1842), «Воспоминания и впечатления, послания и басни» (1847), «Размышления, элегии, послания, сатиры и басни» (1863).
1840-Й ГОД. Перевод А. Голембы.
Подавим боль былую, пускай сердец не гложет,
Пусть нам судьба поможет, пошлет надежды весть;
Где тот волшебник мудрый, который вызнать сможет,
Что обещает людям грядущий год принесть?
Быть может, солнце счастья уже не за горами
И завтра озарится лазоревый чертог:
Нередко к людям радость приходит за скорбями
И нежная улыбка сменяет тяжкий вздох!
Так возвещает всякий, поверивший надежде,
Так в дни златого детства говаривал и я;
Идут-мелькают годы, я в счастье верил прежде,
Ну, а теперь надежда развеялась моя.
Из вечности возникнут и в бесконечность канут
Дни жизни беспросветной, утраченные дни,
День канул — и не будет он более помянут,
Лишь разной силой боли означены они.
Но год новорожденный с отрадой мною встречен,
Его прихода жадно ждал человечий род!
Пришлец, ты всенародно прославлен и привечен,
Я человек: со всеми я славлю твой приход!
Когда на свет младенец является румяный,
Чтоб новой жаждой жизни поникших наделить,—
Седой старик ликует: «Мой внучек долгожданный
Рожден — теперь могу я спокойно опочить».
Так праведники, верно, со вздохом бы сказали,
Когда бы всё, что щедро народу обещали,
В году новорожденном узрели наяву!
Дай знак иным неверным, что свято верить надо,
Твори свои реформы — и пастыря и стадо
Веди на луг зеленый, на свежую траву!
Расшатаны устои недвижного былого,
Мир прошлого заржавел и в пошлости погряз,
Нетерпеливо люди ждут года молодого,
Мечта к нему стремится, пришел надежды час!
Увидит год грядущий, как нашим миром правят
Былых законов тени, которым верил прадед,
Как жалкие пигмеи сковали мощь людей.
В растерзанных законах не видим мы уродства,
Давно не склонны верить порывам благородства,
Бессмертному сиянью незыблемых идей.
Живут политиканы копеечным фразерством,
Пустым бахвальством разум спокойный подменен,
Познавши жизнь, погрязли мы в эгоизме черством,
И деспотизм зловещий еще не сокрушен.
Я жду тебя как чуда, год новый, год желанный,
Но если будет пастырь, для нас тобой избранный,
Таким же, как ушедших правителей синклит,
То лучше… пусть былая пребудет тирания,
Без радости особой приму твои дары я:
Реформами такими народ по горло сыт!
Нет, нам добра не сможет дать перемена эта,
Уж лучше бы спалила залетная комета
Обитель нашу — землю — однажды и дотла!
Не все ль равно несчастным, чья их рука неволит,
Один ли угнетатель их вяжет, бьет и колет,
Иль нескольких сатрапов судьбина им дала?
Себе я благ особых вымаливать не стану,
Ведь я с моим народом живу одной судьбой;
И, если только мне ты бальзам прольешь на рану,
Я посмеюсь над болью, над горечью любой!
От множества страданий окаменели души,
Оков тяжелых бремя нас больше не гнетет,
К насилью мы привыкли, и ропщем мы все глуше:
Живет со мною рядом привычным ставший гнет.
Но я хочу увидеть тот день обетованный,
Когда земли народы постигнут навсегда,
Что больше на планете не царствуют тираны,
Что деспотов надменных прервалась череда!
Легко дышать мне станет в моей земной отчизне,
И пусть мой лоб печальный морщин покроет сеть,
Пусть черным вихрем страсти задуют факел жизни,
Утешен, я сумею спокойно умереть.
Вздымаясь к горным высям в объятья Азраила,
Прощальное лобзанье пошлю своей стране
И тем, кого при жизни душа моя любила,
Оставлю только счастье да память обо мне.
ЧЕЗАР БОЛЛИАК.
Чезар Боллиак (1813–1881). — Активный участник революции 1848 года. После ее поражения эмигрировал в Брашов, затем в Париж, где до 1857 года издавал газету «Бучумул». Вернувшись в Бухарест, продолжал свою деятельность как поэт, журналист, критик. Его основные сборники: «Из стихотворений Ч. Боллиака» (1843), «Новые стихи» (1847), «Собрание старых и новых стихов» (1857).
БАРЩИННЫЙ КРЕСТЬЯНИН. Перевод Э. Левонтина.
1.
Ох, к земле нас приковали
Крепкой цепью навсегда,
Нам бесплатно не давали
Даже воду из пруда!
Что вокруг нас — все чужое…
Тяжек барщины ярем!
Гнемся, гнемся над сохою,
Нищими домой идем…
Мы всю жизнь для господина —
Вещь его, рабочий скот…
Раб иль сено — всё едино.
Шел бы барину доход!
Крепостной, с семьею вместе,
Бык с коровой и телком —
Приложение к поместью,
В списке значатся одном…
Баре, коль случится, рады
Подороже нас продать,
Если ж перебиться надо —
И в аренду можно сдать…
Старый, малый — знай работай
Для господ своих года,
И чем больше льется пота,
Тем жаднее господа!
Из рабов несчастных соки
День и ночь помещик жмет,
А получит чин высокий,—
Он же с нас налог дерет.
Он же, в министерском сане,
Грабит нас, проклятый враг!
Век терзать нас не устанет
Троеликий вурдалак!
2.
Что им совесть! Что им братство!
Ценят труд наш, как хотят!
Дети наши — их богатство,
Руки наши — барский клад!
И для прихоти любовной
Иль на бальный туалет
Тратят баре хладнокровно
Труд наш за десяток лет!
Мы работаем, как пчелы,
Собирающие мед,—
Господам наш труд тяжелый
Все их блага создает!
Закрома полны в амбаре…
Сыт, доволен и хмелен,
Гонит мужиков боярин,
Словно пчел от меда, вон…
Не хотим трудиться даром!
Труд — за землю отдаем!
Что носили мы боярам,
Все себе теперь берем!
Мы свою добыли долю,
Цепь валяется в пыли,
И хозяин ныне в поле
Только труженик земли!
Лишь одно железо может
Полю хлеб помочь родить!
Лишь железо силы множит,
Чтобы хлеб наш сохранить!
Понапрасну шли к вельможам
Мы за правом за своим,
Сами мы себе поможем,
Сами правду защитим.
ДИМИТРИЕ БОЛИНТИНЯНУ. Перевод В. Цвелева.
Димитрие Болинтиняну (1819–1872). — Поэт и прозаик. Учился в Бухаресте и Париже, принимал участие в революции 1848 года, после ее поражения провел почти десять лет в изгнании, посетил ряд стран Юго-Восточной Европы. Основные его поэтические сборники: «Легенды или отечественные сказки в стихах» (1858), «Эвмениды» (1866), «Менады» (1870), а также двухтомник «Стихотворения» (1869).
МАТЬ ШТЕФАНА ВЕЛИКОГО[270].
[270].
I.
Там, в старинном замке, над скалою черной,
Где обходит стены ручеек проворный,
Не в цвету гвоздика вянет полевая,
То княгиня горько плачет молодая,
На войне любимый муж с войсками вместе,
И не возвратился, и не шлет известий.
И блестят слезами голубые очи,
Как росой фиалки после летней ночи.
На плечи спустились золотые косы,
На лицо посмотришь — лилии и розы!
И свекровь не хочет отдыхать ложиться
И невестку нежно просит ободриться.
II.
Полночь бьют куранты. Чу! Подъехал кто-то
К замку и стучится в гулкие ворота.
— Это я, о мама, Штефан твой желанный,
Возвращаюсь с поля, зажимая раны.
От судьбы жестокой не нашел защиты,
Войско враг рассеял, мы — увы — разбиты…
Дверь откройте!.. турки… близко… умоляю…
Я продрог от стужи… кровью истекаю…—
Но жена не встретит мужа дорогого.
— Стой, дитя! — свекровь ей говорит сурово.
И ворот тяжелых сыну не открыла,
Лишь в молчанье ночи так заговорила:
— Слушай, чужеземец! Штефан в дальнем поле
Сеет смерть бесстрашно в битве ради воли!
Да, я — мать-княгиня, он мне сын, я знаю,
Но тебя, пришелец, слушать не желаю.
Если мне под старость небеса послали
Испытанье кончить дни мои в печали,
Если благородный сын мой изменился,
Если правда, Штефан, ты бежать решился,—
Материнской воли силу ты изведай:
Поспеши к отрядам и вернись с победой!
Или за отчизну смерть прими с бойцами,
И твою могилу уберут цветами!
III.
Штефан в поле войско созывает горном,
Снова мчатся кони по ущельям горным…
В бой!.. И сила вражья по холмам и долам
Падает, что колос под серпом тяжелым.
ПЕСНЯ СВОБОДЫ.
Долго ль, честные румыны,
Воздыхать придется вам?
Перед вами день свободы,
Поспешить пора к мечам.
Кто под гнетом униженья
Низко голову склонял,
Знайте все — пришла свобода,
День торжественный настал.
За отчизну смерть почетна.
Все к оружию! Вперед!
Над могилами героев
Белый ландыш расцветет.
К нам, товарищ по оружью,
Сын Румынии, солдат!
Для спасенья тирании
Не пойдет на брата брат.
Боже, боже, руку мщенья
От врага не отстрани,
И любовь к отчизне милой
Ты в сердцах воспламени!
БОГДАН ПЕТРИЧЕЙКУ ХАШДЕУ.
Богдан Петричейку Хашдеу (1836–1907). — Сын молдавского писателя Александру Хашдеу, учился в Харькове, первые произведения писал по-русски. С 1857 года жил и работал в Яссах, а с 1863 года — в Бухаресте. Отстаивал демократические идеи, воспринятые им в молодости под влиянием русской передовой культуры. Выступал как поэт, прозаик, драматург, публицист, а в последний период жизни — как ученый-филолог и историк. Сборники его стихотворений — «Поэзия» (1873), «Сарказм и идеал» (1897).
СТИХ. Перевод М. Талова.
Гомер воспел Ахилла, подвигнутого гневом,
А Данте Тартар воспевал.
В дни горести рожденный, веселым чужд напевам,
Не посвящает песен поэт беспечным девам,
Его не опьяняет вакхический фиал.
Я прерываю арфы безмолвье поневоле,
Когда я скорбью опален.
Надорванное сердце молчать не в силах доле,
Истерзанное мукой неутолимой боли,
В агонии роняет короткий, резкий стон.
Поэзии суровой безрадостные свитки!
Моя поэзия — гранит.
В ней ненависть клокочет, в ней ужаса избытки,
И голосом охрипшим на лоне страшной пытки
В ней каждый слог о долгих страданьях говорит!
Петь о цветах и звездах достойно ли поэта
В наш век, который глух и слеп,
Когда под пестрым гримом всего лишь черви это,
А правда проклинает, ища напрасно света…
О, бедствие! О, мерзость! Могила, мгла и склеп!
Оставьте прозе блестки продажного обмана!
Певец восторженный поет,
Коварное отбросив веселье балагана;
Когда вокруг, как злая гноящаяся рана,
Все трупным ядом дышит и заживо гниет.
Гомер воспел Ахилла, подвигнутого гневом,
А Данте Тартар воспевал.
В дни горести рожденный, веселым чужд напевам,
Не посвящает песен поэт беспечным девам,
Его не опьяняет вакхический фиал.
БЕДНОСТЬ. Перевод Г. Перова.
Как стрелок в своей засаде,
Бедность, пропитанья ради,
Держит палец на курке.
На него нажмет легонько,
И пичуга, пискнув тонко,
Упадет невдалеке.
Только труд, большой, усердный,
От судьбы жестокосердной
Бережет еще меня.
Так века назад кольчуга
Грудь охватывала туго,
Тело рыцаря храня.
Но сменяет мрак осенний
Пору юного цветенья.
Злая старость тут как тут.
Дни зловещие, пустые,
Словно вороны седые,
Тело времени клюют.
Труд мой стонет и вздыхает,
О покое умоляет —
Безнадежный инвалид.
После длительных кампаний,
При последнем издыханье
Он судьбы не победит.
Тщетно я свой разум вялый
Подымаю, как бывало,
К сферам вечной красоты.
На мгновенье он взлетает
И обратно упадает,
Словно камень с высоты.
Но, оглохшие к страданью,
Все спешат за новой данью,
Просят, требуют, клянут.
За мечты сулят подачку,
За идею, как собачке,
Кость негодную швырнут.
А погаснет в сердце пламя,
Вмиг растопчут сапогами,
Омерзенья не тая.
Им, скажи, какое дело,
Что для них одних горела
До конца душа моя?
Как стрелок в своей засаде,
Бедность, пропитанья ради,
Держит палец на курке.
На него нажмет легонько,
И пичуга, пискнув тонко,
Упадет невдалеке.
АЛЕКСАНДРУ ВЛАХУЦЭ. Перевод Р. Морана.
Александру Влахуцэ (1858–1919). — Сын крестьянина. Был корректором, учителем, школьным инспектором. Поэт и прозаик. В Бухаресте сблизился с передовыми румынскими писателями И. Л. Караджале, Дж. Кошбуком, издавал журналы «Вяца» и «Семэнэтороул», отстаивавшие реалистические традиции в литературе. Его поэтические книги — «Стихотворения» (1887) и «Любовь» (1896).
К ЭМИНЕСКУ[271].
[271].
Я неразлучен с дивной книгой,
Хотя я помню каждый стих.
Брожу по строчкам, как по всходам,
Живым посевам дум твоих.
В мир красоты я погружаюсь,
Что, утренней звезды ясней,
Горит на темном небосводе
В ночи твоих печальных дней.
О, как понятны мне, как близки
Задумчивый и нежный взгляд
И на лице твоем усталом
Печаль страданий и утрат!
Не диво, что твой жребий грустен,
Что, боль таких страстей тая,
Ты к тем испытываешь зависть,
Кто сбросил бремя бытия;
Что мысли черные копятся,
Бушуют под твоим челом,
Ведь сумрачные тучи — сестры
Вершин, покрытых вечным льдом!
О, если б гений твой, который
Сокровище певучих строк
Со дна расколотого сердца,
Как из морских глубин, извлек,—
Не сжег тебя, виски обуглив
Глухими всплесками огня,
В необозримом царстве мысли
Все ярким светом осеня,
И если бы тебе достался
Простого смертного удел,—
Как ты легко б мятежный разум
Смирил и боль преодолел!
С каким бы черствым равнодушьем
Ты слушал безответный стон,
Взирал на бедствия, в которых
Мир задыхаться осужден!
Но нет, ты выше этих мелких
Сердец, остуженных давно,
Боль, не замеченную миром,
Всю выстрадать тебе дано,
И выплакать все наши слезы,
И в буре жизненных тревог
Стихи, как вспышки молний, высечь,
В них сердца твоего кусок,
И взлетом дум зажечь светила…
О пламя!.. Свету дела нет,
Что ты само себя сжигаешь,
Во мраке порождая свет!
СЕЯТЕЛЬ.
На пашне — сеятель трудолюбивый,
Он в борозду, что от росы влажна,
Бросает новой жизни семена,
Они взойдут в грядущем тучной нивой.
Шуршит зерно, и снова горсть полна…
И сеет он рукой неторопливой
Свою святую веру в мир счастливый,
Надежду на иные времена.
Трудись прилежно, благодетель скромный!
Вослед придут другие и в степи
В дни жатвы снимут урожай огромный.
Готовый к славной жертве, все стерпи.
Чтоб семя зрело силой неуемной,
Своею кровью землю окропи.
ДУМИТРУ НЕКУЛУЦЭ.
Думитру Некулуцэ (1859–1904). — Сын крестьянина-бедняка, скитался по стране в поисках заработка. Примкнув к рабочему движению, он стал революционным поэтом, участвовал в создании социалистической газеты «Ромыния мунчитоаре», где и опубликовал большинство своих стихотворений. Сборник стихов Некулуцэ «К берегу справедливости» вышел посмертно, в 1907 году.
МУЧЕНИКИ И ПАЛАЧИ. Перевод Вс. Рождественского.
Бедный трудится народ,
А плоды труда крадет
У него богатый.
Ты судьбу свою клянешь
И на шее век несешь
Свой ярем проклятый.
Под бичом и кулаком
Ты молчишь, стоишь столбом,
Опустивши руки.
Нету силы, чтоб восстать.
Плачут дети, плачет мать,
Дом твой полон муки.
Ты поплатишься тюрьмой,
Дом оставишь сиротой
И жену вдовою,
Коль осмелишься сказать,
Что пришла пора восстать,
Кончить с нищетою.
Только втайне ты клянешь
Псов-мучителей грабеж,
Злое надруганье.
Слезы в песнях у тебя.
Лишь они, с тобой скорбя,
Гасят дум пыланье.
С каждым годом тяжелей
От попов и королей,
От налогов новых.
Слез и пота нам не счесть,
Дома дети просят есть,
Век несешь оковы.
Бык от голода ревет,
Еле-еле плуг ведет,
Падает в бессилье.
Пашешь, сеешь ты в слезах,
Наг и бос, ты лишь в мечтах
Видишь изобилье.
Истощен трудами ты,
Вся одежда — лоскуты,
Грустны песни звуки.
Света нет в твоей судьбе,
Даже некому тебе
Рассказать про муки.
На земле ведь правды нет,
Небеса молчат в ответ,
Позабыт ты богом.
Ветер плачет над тобой,
Плачут и ручьи весной
Вслед твоим тревогам
Улетают журавли…
Ты же в рабстве у земли
Отдыха не знаешь.
А воротятся они —
Ты, влача все те же дни,
Стоном их встречаешь.
И, как раб перед зарей,
Ты встаешь полунагой,
Хлещет дождь по нивам,
По плечам твоим все злей.
Ты хоть раз встречался ль с ней,
С той зарей, — счастливым?
Солнце видит с вышины —
На войне твои сыны
Погибают в поле,
Но не видело оно,
Чтоб им было суждено
Свет узнать в неволе.
Лучших сыновей твоих,
Клеветой позоря их,
Враг зовет лжецами
Лишь за то, что путь себе
Они выбрали — в борьбе
С гнетом, с богачами.
Их великие мечты
Ядом злобы облиты.
Цепи им, могилы:
Им нельзя жалеть, любить
И пытаться гнет разбить,
Мрак судьбы постылой.
Ведь хозяева твердят:
Если люди захотят
Льва пустить на волю,
Кто ж за них пойдет тогда
Спину гнуть в ярме труда,
Встретить злую долю?
О народ, ты угнетен.
Подлецами загражден
Путь твой настоящий.
Твердо жди иной судьбы,
Прям и стоек, как дубы,
Под грозой шумящей.
АЛЕКСАНДРУ МАЧЕДОНСКИЙ. Перевод Р. Морана.
Александру Мачедонский (1854–1920). — Получил образование за границей и в Бухаресте. В 1873–1876 годах издавал газету «Олтул», где выступал против румынской монархии, за что подвергся тюремному заключению. В 1880 году основал журнал «Литературол» и литературное общество под тем же названием. Демократические тенденции в его творчестве сочетались с формальными эстетическими поисками, которые положили начало румынскому символизму. Основные сборники его стихотворений — «Первые слова» (1872), «Стихи» (1882), «Необычайный» (1897), «Священные цветы» (1912).
ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ!
Плачь, румынская держава,
Пухнет с голоду народ…
Королю — почет и слава,
А крестьянам — пот кровавый,
Так их небо создает!
Сила наша без утайки
Вся Берлину отдана…
Наша бедная страна
Кормит рейнских принцев шайки.
Муки, кровь и труд — для нас,
Деньги — для берлинских касс.
Плачь, румынская держава!
Что, невеселы дела?
Королю — почет и слава,
А крестьянам — пот кровавый;
Вся страна с ума сошла.
Разве счастье миновало?
Во дворце сокровищ нет?
Удивляют целый свет
Торжества и карнавалы.
У любого подлеца —
Родич в челяди дворца!
Смейся, гордая держава!
Смейся, заглушая боль!
Королю — почет и слава,
А крестьянам — пот кровавый,
Да и тот слизнет король.
Всех румын владыка светский,
Он язык румынский знал:
Как приехал, не сказал —
Ни словечка по-немецки!
Как не чтить нам этот трон?
Мы — внизу, а сверху — он!
РОНДО ВЫСОТ.
В сумрачной мансарде той
Все так бедно и убого.
Профиль молодого бога
Гений клонит в час ночной.
Ежедневных дрязг тревога.
Ежедневный спор с судьбой.
В сумрачной мансарде той
Все так бедно и убого.
Воспарит он — ждать немного!
Ввысь, в Элизий золотой…
Но его уж день седьмой
Все не видно у порога
В сумрачной мансарде той.
В ЧАЩЕ БОРА.
В чаще бора тьма чернеет все угрюмей, все страшней,
Лист к листу прижался молча, и не слышно треска в сучьях;
Ночь глухая, ночь немая, ночь мертва, все небо в тучах.—
Но не молкнет соловей, но не молкнет соловей.
В чаще бора стонет буря все злорадней, все страшней,
В блеске молний ливень хлещет, прах потопом затопляя,
Строй гармонии нарушив, ярость мечется слепая,—
Но не молкнет соловей, но не молкнет соловей.
В чаще бора пляшет нежить все безумней, все страшней,
Запоздал рассвет надолго… Над обителью лесною,
Преградив заре дорогу, мрак стоит сплошной стеною,—
Но не молкнет соловей, по не молкнет соловей.
СОНЕТ СИЛЫ.
Динамит, кирка и заступ рвут гранитную громаду.
Золотая жила скрыта под скалистою горою…
Чистый блеск ее как будто скован силой колдовскою,—
Не покажется ни разу лихорадочному взгляду.
Мне порой не удается скрыть сомненье и досаду:
Неужели силой воли не возьму я тайну с бою,
Даже к этой древней Мекке я дорогу не открою
И за труд одна насмешка мне достанется в награду?
И хотя кирки и буры в непрерывном наступленье
Притупились и разбились о гранит преграды горной
И ржавеют их обломки, как примета пораженья,—
Но отчаяньем не сломлен и теперь мой дух упорный,
Я — в предчувствии победы, пусть далекой, но бесспорной,
Ибо я одно орудье в целости сберег:
Терпенье.
ФИНЛЯНДИЯ.
ИОГАН ЛЮДВИГ РУНЕБЕРГ. Перевод со шведского.
Иоган Людвиг Рунеберг (1804–1877). — Национальный поэт Финляндии; писал на шведском языке. В 1822 году поступил в университет Турку, из-за материальных трудностей прервал учебу, работал домашним учителем, в 1826 году вернулся в университет и закончил образование. В 1830 году он защитил диссертацию и получил звание доцента по кафедре античной литературы. Но должность доцента была неоплачиваемой, и Рунеберг вынужден был ради заработка взять на себя и обязанности в консистории университета. Кроме того, он преподает в Гельсингфорсском лицее, редактирует газету «Гельсингфорс моргонблад» (1832–1837), выступает со статьями по разным вопросам, печатает свои стихотворения. В 1830 году Рунеберг опубликовал свой первый поэтический сборник «Стихотворения». Основу сборника составил цикл «Идиллии и эпиграммы», написанные в духе народных песен. Среди них выделяется ставшая впоследствии знаменитой маленькая эпическая поэма «Пааво из Саариярви».
Годы жизни в Хельсинки (1828–1837) были периодом наиболее активной общественной деятельности Рунеберга. Весной 1830 года создается общество «Суббота», сыгравшее большую роль в культурной и общественно-политической жизни Финляндии; его участниками были Снеллман, Фр. Сигнеус, Нервандер, Нордстрём, Элиас Лённрот и Рунеберг.
В 1832 году вышла большая эпическая поэма Рунеберга «Охотники за лосями», в 1833 году — поэтический сборник «Стихотворения. II», в 1836 году — поэма «Ханна». Слава Рунеберга возросла настолько, что в общественном сознании он становится первым поэтом Финляндии. В 1837 году Рунеберг уезжает с семьей из Хельсинки в Порвоо, где становится учителем (1837–1857), а затем и ректором (1838–1850 гг.) местного лицея. В Порвоо Рунеберг прожил сорок лет. Здесь им написаны и опубликованы поэмы «Рождественский вечер» (1838) и «Надежда» (1841), третий сборник «Стихотворений», поэма «Король Фьялар» (1844), два сборника поэм «Сказания прапорщика Столя» (ч. I — 1848 г., ч. II — 1860 г.) и драма в стихах «Цари Саламиды» (1863), оказавшаяся лебединой песней поэта. Последние тринадцать лет жизни был прикован к постели тяжелой болезнью.
Особое место в творчестве Рунеберга занимают стихи, посвященные событиям русско-шведской войны 1808–1809 годов, над которыми он работал много лет. Написанные в разные годы, они тщательно дорабатывались автором и составили отдельную книгу — «Сказания прапорщика Столя». В книге с особой силой выразилось национальное самосознание и патриотические чувства финского народа. Рунеберг воспел красоту суровой природы Финляндии, показал самобытные народные характеры. В книге нашли отражение исторические события и реальные персонажи (полководцы, шведские и русские офицеры), но подлинными героями Рунеберга являются простые финские солдаты. Открывающее книгу стихотворение «Наш край», впервые опубликованное в 1846 году, было положено на музыку Ф. Пациусом и стало национальным и государственным гимном Финляндии.
НАШ КРАЙ. Перевод А. Блока.
Наш край, наш край, наш край родной,—
О, звук, всех громче слов!
Чей кряж, растущий над землей,
Чей брег, встающий над водой,
Любимей гор и берегов
Родной земли отцов?
Ступай, надменный чужевер.
Ты звону злата рад!
Наш бедный край угрюм и сер.
Но нам узоры гор и шхер —
Отрада, слаще всех отрад,
Неоцененный клад.
Нам люб потоков наших рев,
Ручьев бегущих звон,
Однообразный шум лесов,
Свет звезд, прозрачность вечеров,
Все, все, чем слух был поражен,
Чем взор был полонен.
Здесь с мыслью, с плугом и с мечом
Отцы ходили в бой,
Здесь ночь за ночью, день за днем
Народный дух пылал огнем —
В согласье с доброю судьбой,
В борьбе с судьбою злой.
Кто счет народным битвам вел,
Когда все вновь и вновь
Война неслась из дола в дол,
Мороз и глад за ним пришел,—
Кто мерил пролитую кровь,
Терпенье и любовь?
Да, здесь, вот здесь та кровь текла,
За нас текла тогда,
Душа народа здесь цвела
И тяжким вздохом изошла
В давно прошедшие года
Под бременем труда.
Здесь наше все, здесь светлый рай,
Отрада наших дней!
Как рок жестокий ни пытай,
Он все при нас, родимый край.
Что ж нам любить еще полней,
Святей и горячей?
И здесь и там блуждает взор,
Я руку протяну —
Взгляни на радостный простор,
Вон берега, вон рябь озер,
Взгляни на все, как я взгляну
На милую страну.
И пусть на нас прольется свет
Из тверди золотой,
Пусть станет жизнь игрой планет,
Где слез не льют, где вздохов нет,
А всё — убогий край родной
Мы помянем с тоской.
О край, многоозерный край,
Где песням нет числа,
От бурь оплот, надежды рай,
Наш старый край, наш вечный край,
И нищета твоя светла,
Смелей, не хмурь чела!
Он расцветет, твой бедный цвет,
Стряхнув позор оков,
И нашей верности обет
Тебе дарует блеск и свет,
И наша песнь домчит свой зов
До будущих веков.
ЛЕБЕДЬ. Перевод А. Блока.
Июньский вечер в облаках
Пурпуровых горел,
Спокойный лебедь в тростниках
Блаженный гимн запел.
Он пел о том, как север мил,
Как даль небес ясна,
Как день об отдыхе забыл,
Всю ночь не зная сна;
Как под березой и ольхой
Свежа густая тень;
Как над прохладною волной
В заливе гаснет день;
Как счастлив, счастлив, кто найдет
Там дружбу и любовь;
Какая верность там цветет,
Рождаясь вновь и вновь.
Так от волны к волне порхал
Сей глас простой хвалы;
Подругу к сердцу он прижал
И пел над ней средь мглы.
Пусть о мечте твоей златой
Не будут знать в веках;
Но ты любил и пел весной
На северных волнах.
У РУЧЬЯ. Перевод В. Брюсова.
На берегу твоем, ручей,
Слежу я облака,
Как их ведет в волне твоей
Незримая рука.
Вот улыбнулось мне одно,
Как розы первоцвет.
Прости! Уже ушло оно,
Ему возврата нет.
Но столь же ясно и светло
Скользит другое — вот…
И с той же быстротой прошло,
Исчезло в свой черед.
Вот третья туча; но, мрачна
И тяжела на вид,
Неспешно двигаясь, она
Твои струи мрачит.
И я, ручей, тебя готов
Сравнить с душой моей:
Немало светлых облаков
Промчалось и над ней;
В нее и тучи по пути
Свою бросали ночь,
Являлись быстро, но уйти,
Ах, не спешили прочь!
И пусть я знал наверняка,
Под бурей и в тиши,
Что это — только облака
Над зеркалом души;
Но свет и темная пора
Зависят все ж от них…
Когда же кончится игра,
Ручей, в волнах твоих!
ЗАКРИС ТОПЕЛИУС. Перевод со шведского.
Закрис Топелиус (1818–1898). — Видный поэт, прозаик и драматург, писавший на шведском языке. Самый яркий представитель романтического направления. Лирика Топелиуса основана на чувстве природы, поэт воспевает красоту родного края, любовь к родине, труд и мужество простых людей. Все, что происходит в природе, воспринимается поэтом одновременно реально и символически. Топелиус живо откликался на революционные события 30-х и 40-х годов, верил, что ледоход освобождения захватит и Финляндию. Однако позиция поэта оставалась созерцательной и пассивной.
Стихи Топелиуса необычайно музыкальны. Это проявляется в особой ритмичности и напевности, в богатстве созвучий; рифмы используются не только концевые, но и начальные и корневые. Многие его стихи положены на музыку и стали песнями. Большая часть лирики Топелиуса вошла в три книги стихотворений под общим названием «Цветы вереска» (1844–1854). Однотомное издание было выпущено им в 1860 году. Затем вышли еще два сборника: «Новый лист» (1870) и «Вереск» (1889).
ЛЕТНИЙ ДЕНЬ В КАНГАСАЛА[272]. Перевод А. Блока.
[272].
Качаюсь на верхней ветке
И вижу с высоких гор,
Насколько хватает зренья,
Сиянье синих озер.
В заливах Лэнгельмэнвеси
Блестит полоса, как сталь,
И нежные волны Ройнэ,
Целуясь, уходят вдаль.
Ясна, как совесть ребенка,
Как небо в детстве, синя,
Волнуется Весиярви
В ласкающем свете дня.
На лоне ее широком —
Цветущие острова;
Как мысли зеленой природы,
Их нежит волн синева.
Но сосны сумрачным кругом
Обстали берег крутой,
На резвую детскую пляску
Так смотрит мудрец седой.
Созревшие нивы клонят
Лицо к озерным зыбям,
Цветы луговые дышат
Навстречу летним ветрам.
Финляндия, как печален,
А все красив твой простор!
И златом и сталью блещет
Вода голубых озер!
Звучит и печаль и радость
В напевах финской струны,
И в мерном качанье песен —
Игра зыбучей волны.
Я только слабая птичка,
Малы у меня крыла.
Была б я орлом могучим
И к небу взлететь могла,
Летела бы выше, выше,
К престолу бога-отца,
К ногам его припадая,
Молила бы так творца:
«Могучий владыка неба.
Молитве птички внемли:
Ты создал дивное небо!
Ты создал прелесть земли!
Сиять родимым озерам
В огне любви нашей дай!
Учи нас, великий боже,
Учи нас любить наш край!»
РАБОЧАЯ ПЕСНЯ. Перевод А. Блока.
Рабочие-други, наш радостен труд
Финляндии, матери нашей.
Мы мерим глубины озер и запруд,
Мы правим ремесла и пашем.
Упорным трудом
Мы ставим ей дом,
Чтоб мать не осталась на месте пустом,
В нужде не увяла,
Не стала рабой,
От нас получала
Свой хлеб и покой.
Рабочие-други, наш радостен труд
Финляндии, матери нашей.
Прекрасная мать в лучезарной красе
Нас крепко к груди прижимает,
И сердца биенья мы слушаем все,
Лишь только борьба затихает.
Чтоб долг отплатить,
Добро отдарить,—
Мать в жемчуг и в золото надо рядить.
В поток полноводный
Ей любо смотреть;
Нам — жить с ней, свободной,
И с ней умереть.
Прекрасная мать в лучезарной красе
Нас крепко к груди прижимает.
ВЕСНА 1848 ГОДА. Перевод Ю. Хазанова.
Все явственней слышится бури звук,
И натиск ее могуч;
Тяжелые тучи свершают круг,
И стелется тень от туч.
За мрачным покровом бури
Скрывается алый луч.
К нам буря идет из теплой страны,
Где свеж и тих ветерок,
А долы запахом роз полны…
Но буре то невдомек —
Она летит над землею,
Как неотвратимый рок.
Цветок под ее дыханием сник,
Обрушилась власти стена;
Гигантские сосны, словно тростник,
Пригнула к земле она.
Несется буря над миром,
Великой силы полна.
И ты, несущий бурю в себе,
Ты вышел из мрака на свет!
Она — не случай в твоей судьбе,
А давним мечтам ответ;
Она по старому миру
Свой новый проложит след.
…Над морем стою, под ногами скала —
Я чувствую дрожь камней;
Летит волна, как чайка, бела,
Она все ближе ко мне.
Сквозь тучи молния блещет —
Скала дрожит все сильней.
Но вижу: прекрасная, в золоте вся,
На финскую землю пришла
Весна молодая, покой принеся
И нежные волны тепла.
Покой? Не могильная ль в нем тишина?
Тепло? А надолго оно?!
Скажите мне, скалы, ответь, вышина,
Ответа я жду давно!
Я вижу, как тьму рассекают лучи,
Как зелень вступает на луг;
Я вижу: минувшей вражды мечи
Уже заменяет плуг.
Я слышу: в артериях жизни течет
Лучистый и свежий поток,
Чтоб пульс, ведущий мгновениям счет,
Забиться ровнее смог.
Весна приходит в поля и леса,
Повсюду — дыханье весны:
Просторней становятся небеса,
Сердца надеждой полны.
Вставай, Суоми, древняя мать:
Уже подошла пора
Рекам твоим оковы снимать —
Сегодня солнце с утра!
И ты, Суоми, оковы снимай,
Сильной и смелой будь —
Буря, как мир обновляющий май,
Тебе расчищает путь!
АЛЕКСИС КИВИ. Перевод с финского.
Алексис Киви (1834–1872). — Прозаик, поэт, драматург, родоначальник всей современной литературы на финском языке.
Сын деревенского портного. Окончив народную школу, подготовился и поступил в Хельсинкский университет, но из-за материальных трудностей не окончил его.
В 1864 году написал по мотивам «Калевалы» пьесу «Куллерво», первую драму на финском языке. Премьера его драмы «Леа» (1869) явилась началом финского театра. Народные комедии Киви «Сапожники Нумми» (1864) и «Обручение» (1866) прочно вошли в репертуар финских театров и до сих пор не сходят со сцены. Крупнейшее произведение Киви, роман «Семеро братьев» (1870), — первый роман на финском языке, — написан в оригинальной форме с использованием в тексте диалогов и поэтических вставок.
Стихотворения Киви немногочисленны, собраны в сборник «Канервала» (1866); они самобытны, как и все созданное им.
ПТИЧИЙ ДОМ. Перевод А. Ойслендера.
Где-то в синем море милый остров есть,
Травами покрытый и лесами.
У него круты и неприступны
Берега, встречающие грудью
Волны, что, как дети моря, мчатся,
Пеной белокурою играя,
Чтобы птичий остров захватить.
Среди острова есть луг зеленый,
Среди луга поле золотое,
Что дарит большие урожаи.
Среди поля лес стоит дремучий,
В том лесу цветы в кружок сбежались,
Окружая замок деревянный,
Заселенный птицами лесными.
Тонкий мох растет на крыше замка,
А цветы зовут к себе с улыбкой
Маленьких летящих мимо пчел.
И живут на острове счастливом
Карлики — народ простой и добрый,
А не злой и хмурый, словно шайка
Леших, сохранившихся в сказаньях.
Целый день в лесу дремучем птицы
Распевают, не боясь нисколько
Ни орлов, ни филинов коварных.
На заре и на закате тихом
Раздается смех тетеревиный,
А кукушка счет ведет предлинный,
И дрозды долбят свое в чащобе.
Крохотные парни в поле пашут,
Травы косят; крохотные девы
С быстрыми глазами — ткут полотна
В горенках высоких и прохладных.
Ходят девы в юбках белоснежных,
А венки из полевых цветов
Оплетают головы; на бедрах
Пояса, как радуги цветные.
Девы ткут тончайшие полотна
И обед лесной готовят вместе,
Расстилая скатерть на лужайке,
Подымая шум и суматоху,
Юбки белоснежные летают,
Шарфы развеваются, как тучки,
Над плечами их, над золотыми,
Спутанными, милыми кудрями.
Голоса их щебету подобны —
И не молкнут колокольцы смеха.
И, садясь за трапезу, мужчины
Женщинам рассказывают сказки
О краях далеких, где бывали,
А вокруг шумят леса густые,
Множество птенцов поет на ветках.
А потом, держа друг друга нежно
За руки, уходят в лес дремучий.
Там, веселым ветром обдавая,
На лугу зеленом мчатся в пляске,
Весело играют и поют;
А когда игра надоедает,
К синему они приходят морю,
К белой стае добрых лебедей,
Ждущей их у берега. Расправив
Паруса, вкруг острова родного
Флот живой, сверкая опереньем,
Милый груз несет легко и плавно.
На плечах качаясь лебединых,
Обнимая девушек любимых,
Юноши поют; им подпевают
Нежные подруги; на прибрежье
Птицы, соревнуясь, вторят им,
А в лесу их окликает эхо.
И, звучанью радостному внемля,
Из морской поднявшись глубины,
За блестящим этим хороводом
Мчатся рыбки малые по следу.
Там плывут вкруг острова родного
Карлики на лодках лебединых —
И когда к концу приходит рейс,
Приступают к новому занятью:
У подножья девственного леса
В тишине глядят они безмолвно
Синими глазами на траву —
И печаль закатная витает
Над покоем чистым детских душ.
Почему их головы склонились?
Почему глядят они печально
Синими глазами на траву?
Нет ответа.
Даль молчит.
Безмолвно
Синее над ними блещет небо,
Чистая листва не шелохнется,
Ветер отдыхает, даже волны,
Прикорнув у берега, не плещут
Белой пеной в шелковой постели.
Даже песни птичьи умолкают.
Но печаль проходит, так же быстро
Исчезая, как роса на листьях,
И, как прежде, на лугу зеленом
Запевает карликовый люд.
Наконец приходит синий вечер.
Засыпают карлики — и снятся
Карликам безоблачные сны.
Тишина царит повсюду; небо,
Как вуаль, прозрачно и легко;
Чистая листва не шелохнется;
Отдыхает ветер, молкнут птицы.
Но приходит утро — и светлеют
В алом свете темные леса,
И опять крылатые певуньи
Оглашают гимном небеса.
А народ рабочий, просыпаясь,
Юноши и юные подруги
Снова принимаются за труд.
Парни пашут в поле, косят травы.
А подруги с нежными кудрями,
Что украшены венками снова,
Ткут полотна в горенках высоких.
КАЧЕЛИ. Перевод Д. Семеновского.
Садись-ка в качели со мной,
Красавица в белой косынке!
Природа стоит, как невеста, прекрасна
В троицу вечером.
Взвейтесь, качели, высоко,
Пусть веет девичья косынка
В ласковом воздухе!
Взгляни, — под ногами у нас
Земли изумрудная зелень,
А небо над нами лазурно и ясно,
И шепчется западный ветер в долине, сливаясь
С трелями птиц.
Взвейтесь, качели, высоко,
Пусть веет девичья косынка
В ласковом воздухе!
Летая в пустой вышине
В объятьях прохладного ветра,
Я холм вдалеке увидал в позолоте
Вечерней зари.
Взвейтесь, качели, высоко,
Пусть веет девичья косынка
В ласковом воздухе!
Как дальняя Счастья страна,
Пленительно светится холмик.
Туда я помчался бы с милой на крыльях
Ветра закатного.
Взвейтесь, качели, высоко,
Пусть веет девичья косынка
В ласковом воздухе!
Там плечи дремотных берез
Всегда под зеленым кафтаном,
И нивы всегда золотятся на мягких
Склонах холма.
Взвейтесь, качели, высоко,
Пусть веет девичья косынка
В ласковом воздухе!
В долине у спеющих нив
Там луг зеленеет весенний,
Где сладкие сумерки вечно лелеют
Желтые цветики.
Взвейтесь, качели, высоко,
Пусть веет девичья косынка
В ласковом воздухе!
Заря там целует зарю,
Там вечное время несется,
Стремительно мчится бегущим потоком
В область забвения.
Будет летать вам, качели!
Уж в ласковом мраке бледнеют
Девичьи щеки.
ЮЛИУС ВЕКСЕЛЛЬ. Перевод со шведского.
Юлиус Векселль (1838–1907). — Поэт, драматург. Писал на шведском языке. Трагическая судьба отпустила ему крайне мало времени для творчества; в молодости он успел опубликовать две тетрадки стихов (1860–1861) и увидеть на сцене две своих пьесы. Драма «Даниэль Юрт», поставленная впервые Шведским театром в Хельсинки (1862), считается высшим достижением шведской драматургии до Стриндберга. Вскоре поэт заболел и сорок два года жизни провел в психиатрической лечебнице.
ЕСТЬ ЛИ СИЛА В ТЕБЕ? Перевод А. Шадрина.
Есть ли сила в тебе, чтоб, неравный бой
Завязав, не сдаться вовек?
Есть ли сила в тебе, чтобы, став собой,
Обогнал ты времени бег?
Если жить ты решил, чтобы жизнь свою,
Чтобы то, чем юность полна,
Все отдать за правду в этом бою,—
Нас дорога ведет одна.
Есть ли сила в тебе лучших лет мечты
Пронести среди грязи мирской?
И пойдешь ли смело над бездной ты
За прозрачной горной рекой?
Если так, то руку подай мне, брат,
Чтобы рушились козни тьмы!
Мы теперь сильнее во много крат
Оттого, что встретились мы!
МЕСТЬ ГНОМА. Перевод В. Каменской.
В ущелье горном есть темный грот,
Там золото гном по ночам кует,
Утес-наковальня сверкает огнем,
И песню злорадно гнусавит гном:
«От солнца, неба, деревьев и рек
Загнал нас в ущелье и мглу человек.
Но мщеньем наши сердца горят,
Мы людям готовим смертельный яд.
Мы золото в горных пещерах куем,
Блестящей приманкой под камни кладем,
Чтоб род человеческий в дебрях скал
Себе на погибель его искал.
Чудесным жаром внушая страсть,
Оно над людьми простирает власть.
Весь мир, покорный ему одному,
Стремительно падает в пропасть и тьму.
Герой роняет свой меч из рук,
И друга в беде покидает друг,
Любовь изменам теряет счет,
А вор и в божьем храме крадет.
Растоптана девы невинной мечта,
Душа ее холодна и пуста,
И юноше в сердце лед проник,
Иссяк его радости чистый родник.
Так плавься, металл мой, в сиянье огней!
Карающий молот, греми и бей!
Погибнут люди, недолго ждать —
И нашей станет земля опять!»
ЮХО ЭРККО. Перевод с финского Ф. Фоломина.
Юхо Эркко (1849–1906). — Поэт, драматург; писал на финском языке. Окончил семинарию в Ювяскюля и работал учителем народной школы. Писал стихи в духе финских народных песен. Многие из его стихотворений и стали впоследствии песнями. Автор сборников «Стихотворения» (три книги — 1870, 1872 и 1876), песенного цикла «Пастухи» (1878), «Избранных стихотворений» (1881), двух сборников «Домашние истории» (1881, 1883). Впоследствии Ю. Эркко проникся религиозно-нравственными идеями, при этом его все больше стали волновать социальные проблемы (сборники: «Новые стихи», 1885, и «Я заметил», 1886; пьеса «Провидец», 1887). Затем еще вышли сборники стихов «Пузыри» (1890), «Бег времени» (1896), «Стихи и раздумья» (1899), «С наступлением темноты» (1900) и «Воздушные песни» (1904), а также ряд пьес на темы «Калевалы».
МАРШ ТРУДОВОГО НАРОДА.
Люд рабочий, стройся смело!
Храмов древние вершины,
Города, мосты, плотины —
Наше дело!
Груз былого, гнет старинный
Мы стряхнули на рассвете.
Поднялось, расправив спину,
Наше совершеннолетье.
Всех борьбе научит время!
Стройся смело, люд рабочий!
Труд разжег стремлений пламя;
Скоро мы с нуждой покончим,
С кандалами!
Не плестись в ярме народу!
Обуздать пора природу,
Приручить дикарку эту!
К знанью мы стремимся, к свету
Столбовой идем дорогой.
Люд рабочий, стройся смело!
В нас живет душа Суоми,
Мощь народа, разум зрелый!
Нас не сломят!
Мы детей своих разбудим.
Пусть они послужат людям,
Силы в дело чести вложат —
Все преграды уничтожат,
Укрепят страну Суоми!
Стройся смело, люд рабочий!
Счастье жизни добывая,
Сила наша боевая
Мир упрочит!
Пусть познают наши внуки
Честь труда и свет науки!
Все надежды станут явью:
Открываются дороги
К равноправью!
ДОЛОЙ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ!
Каждый день истязали крестьянина,—
То не станет руки, то ноги;
Сыты вороны, тело изранено,—
Так нас прежде казнили враги.
А теперь над страной измываются:
Гаснет факел — народный язык,
В клетке слово крылатое мается;
Жив обычай жестоких владык!
Запрещается чувство заветное —
Та любовь, что отчизне верна.
Справедливости родина бедная,
Словно света, очей лишена.
Так еще наших прадедов грабили,
А душа наша — тонкая ткань;
Нет покоя в надорванной! Вправе ли
Мы терпеть и платить эту дань!
Не стихает народ, колыхается;
Справедливости требует он;
Руки в поле, дрожа, опускаются,
Если гнется под ветром закон.
Нам бы к свету детей своих вывести,
Время к правде пробиться давно!
Против сумрачной несправедливости
Все вокруг поднялись заодно.
КААРЛО КРАМСУ. Перевод с финского В. Брюсова.
Каарло Крамсу (1855–1895). — Писал на финском языке. Наследие поэта невелико по объему — всего два сборника стихотворений (1877 и 1887 гг.). Но его отличает собственный, неповторимый стиль — сочный, острый и в то же время немногословный, скупой на краски. Если поэт говорит в стихах о себе, он делает это с какой-то сумрачной грустью («Несчастный»). Его любовная лирика оттенена горечью иронии («Мое сердце»). Особенно вдохновляет его борьба против рабства и угнетения. Он стал поэтом крестьянской войны («Илкка», «Сантавуорский бой»).
Бедность, безденежье, неустроенность быта подорвали здоровье поэта, в 1891 году он заболел и умер в психиатрической лечебнице.
ИЛККА[273].
[273].
Был Илкка родом из крестьян —
И все-таки при жизни
По благородству не имел
Он равного в отчизне.
Была тревожная пора,
Когда на свет родился,
Но для борьбы, для этих бурь
Как раз он и годился.
Впервые понял край родной,
Что значит озлобленье,
Когда сам Клаус Флеминг[274] в нем
Держал бразды правленья.
Вздыхали многие о том,
Что правосудье пало.
Казалось, Илкку одного
Ничто не задевало.
Внимая жалобам крестьян,
Он отвечал словами:
«Вы горе будете влачить,
Пока хотите сами!
Кто дальше жалоб не идет —
Рабом лишь остается,
Но кто вступился за себя —
Тот прав своих добьется.
Мужчина создан для борьбы
На жизнь и на смерть… Верьте:
Дорога к счастию всегда
Близка к дороге смерти!»
Быстрее пущенной стрелы
Слова его летели
Во все концы родной страны,
И финны зашумели.
Распространился далеко
Пожар войны кровавой,
И имя Илкки навсегда
Она покрыла славой.
Для угнетателей пришла
Пора жестокой мести,
И лишь коварством Илкку взять
Могли на поле чести.
Не всякий славою одной
За подвиги утешен:
Иных и виселица ждет!..
И Илкка был повешен.
Но будут памятны всегда
Слова его народу:
«Уж лучше кончить жизнь в петле,
Чем потерять свободу!»
НАД ВОДОПАДОМ.
В раздумье стоял я вечерней норой
Один на краю водопада.
Кипящие волны неслись предо мной,
Как смелое, буйное стадо.
Могуч был их голос — так мог бы звучать
Один только голос свободы!
И вот что, казалось, хотели сказать
Мне бодрые, шумные воды:
«Ломая преграды, несемся вперед
Мы, царства подводного дети,
Мы знаем, что тот, кто оковы порвет,
Пред роком не будет в ответе.
И как бы, о люди, вам рок ни грозил,
Вы счастья бы тоже добились,
Когда бы, в сознании собственных сил,
Порвать все оковы решились».
КАСИМИР ЛЕЙНО.
Перевод с финского Д. Голубкова.
Касимир Лейно (1866–1919). — Поэт, прозаик, театральный критик и литературовед, теоретик искусства. Окончил Хельсинкский университет (1888 г.), был доктором философии. Вместе со своим младшим братом, выдающимся финским поэтом Эйно Лейно (см. том БВЛ «Западноевропейская поэзия XX века»), издавал журнал «Современность» (1898). В 1886 году опубликовал свой первый поэтический сборник «Стихотворные опыты», ставший своего рода манифестом реализма в финской поэзии.
Реализм был знамением времени. Тогда же образовалась группа молодых писателей, отстаивавших принципы реализма, — так называемая «Молодая Финляндия», теоретиком которой был К. Лейно. Реализм в его понимании — это умение видеть реальные противоречия, суровую битву за существование — и в то же время стремление человека к свободе мысли и духа, борьба против всего косного.
В дальнейшем поэт выпустил еще три сборника стихотворений: «В перекрестных волнах» (1890), «На просторе» (1893) и «Стихотворения» (1899), в них заметно росло мастерство, совершенство поэтической формы, но в последнем сборнике поэт отошел от первоначальных принципов реализма, склоняясь к неоромантизму.
БУРЕВЕСТНИК.
Когда вовсю куролесит буря,
Когда, вскипая, море гремит,
Когда трещат-качаются сосны
И волны точат скалы гранит —
Лечу я в небо с ликующим кличем,
И тучи рву, паря над водой,
И славлю землю,
И славлю море,
И человека, и жизнь, и бой!
Когда скрипят натруженно мачты
И ветер треплет баркаса снасть,
Я вторю ветру,
Я шторму вторю
И не страшусь в пучине пропасть.
Я верю:
Тучи развеет буря
И небо хмурое преобразит,
И ветер смолкнет, и гладь морская
Каемку берега отразит.
Иным по нраву безмолвье штиля,
И щебет жаворонка, и тишь.
А мне милее роптанье грома:
Тогда — юнеешь, тогда — летишь!
А ну-ка, Ахти, владыка моря,
В свой буйный бубен безумно бей!
Лечу сквозь тучи, в обнимку с бурей —
И крепнут крылья,
И шторм слабей!
ДИТЯ НАРОДА.
Я родился в сердце страны, в темной лесной глухомани.
Врос корнями я в свой народ, знаю его страданья.
Видел я, как в стужу дрожал обездоленный люд.
Знаю, как лица горе клеймит, как дети с голоду мрут.
Кожа на лицах у бедняков была молочно-белой.
Руки их багровели от вьюг, стужей сводило тело…
Я бы с розами не сравнил блеклых обветренных щек.
Эти лица съела метель, мороз оголтелый сжег…
Несчастен и жалок этот народ, богом забытый словно.
Он от голода изнемог и тьмой ослеплен духовной.
Мороз опять погулял в глуши, сглодал яровые опять.
Кору сосновую там едят — хлеба-то негде взять!
Грызть кору — и опять, опять до седьмого пота работать!
Это с полгоря им еще, да чем выплачивать подать?
Денег-то не видать, не слыхать, а чиновник примчит —
Дом продаст, надел отберет — столько бед учинит…
Все пропадет, все прахом пойдет — ни крова, ни урожая.
Нужда стоит и ждет у ворот, гибелью угрожая.
Выброшены, как высевки, в мир, по миру дети пойдут.
На бирже пофартит одному, других под забором найдут…
Да, в захолустье тягостна жизнь, словно тяжкая ноша.
Но безотрадней удел сироты, но участь бродяги плоше.
Дом родимый — все-таки дом, как бы он ни был убог.
Но нет ничего постылей и злей крутых сиротских дорог.
Если б кудесником я родился, была б у меня работа:
В сады и поля превратил бы я скалы, моря и болота.
К сожаленью, немощен я и хил и вовсе не чародей.
Но я утверждаю: в труде и борьбе счастье страны моей!
ФРАНЦИЯ.
АНДРЕ ШЕНЬЕ.
Андре Шенье (1762–1794). — Поэт, стремившийся «о новом петь античными стихами», Шенье черпал образы и формы своей лирики у древних авторов. Но для Шенье это не литературная условность. Ему удалось точно почувствовать и воссоздать наивную прелесть буколической Аркадии — изящество, присущее самым повседневным трудам и вещам, согласованность ритма человеческой жизни и жизни природы. Пластическое совершенство у Шенье не скрывает, а, напротив, подчеркивает ту свежесть чувства (подчас, особенно в его элегиях, вовсе не безмятежного), благодаря которой позднее поэты-романтики видели в нем своего предтечу.
Современникам, однако, Шенье был известен лишь как автор злободневных политических сочинений. Первое собрание его стихов появилось в печати только в 1819 году — через двадцать пять лет после того, как сам он погиб на гильотине. В России среди почитателей и переводчиков Шенье были Е. Баратынский, А. К. Толстой, А. Фет, но прежде всего — Пушкин, переложивший несколько пьес «певца любви, дубрав и мира» и посвятивший ему знаменитое стихотворение «Андрей Шенье» (1825).
«Я был еще дитя…». Перевод А. Майкова.
Я был еще дитя; она уже прекрасна…
Как часто, помню я, своей улыбкой ясной
Она меня звала! Играя с ней, резвясь,
Младенческой рукой запутывал не раз
Я локоны ее. Персты мои скользили
По груди, по челу, меж пышных роз и лилий…
Но чаще посреди поклонников своих
Надменная меня ласкала и, на них
Лукаво-нежный взор подняв как бы случайно,
Дарила поцелуй с насмешливостью тайной
Устами алыми младенческим устам;
Завидуя в тиши божественным дарам,
Шептали юноши, сгорая в неге страстной:
«О, сколько милых ласк потеряно напрасно!..»
* * *
«Супруг надменный коз…». Перевод А. Фета.
Супруг надменный коз, лоснящийся от жиру,
Встал на дыбы и, лоб склоня, грозит сатиру.
Сатир, поняв его недружелюбный вид,
Сильнее уперся разрезами копыт,—
И вот навстречу лбу несется лоб наклонный,
Удар, — и грянул лес, и дрогнул воздух сонный.
* * *
«Я вместо матери уже считаю стадо…». Перевод А. Толстого.
Я вместо матери уже считаю стадо,
С отцом ходить в поля теперь моя отрада.
Мы трудимся вдвоем. Я заставляю медь
Весной душистою на пчельнике звенеть;
С царицею своей, услыша звук тяжелый,
Во страхе улететь хотят младые пчелы,
Но, новой их семье готовя новый дом,
Сильнее все в тазы мы кованые бьем,
И вольные рои, испуганные нами,
Меж зелени висят жужжащими гроздами.
* * *
«Ты вянешь и молчишь; печаль тебя снедает…». Перевод А. Пушкина.
Ты вянешь и молчишь; печаль тебя снедает;
На девственных устах улыбка замирает.
Давно твоей иглой узоры и цветы
Не оживлялися. Безмолвно любишь ты
Грустить. О, я знаток в девической печали;
Давно глаза мои в душе твоей читали.
Любви не утаишь: мы любим, и как нас,
Девицы нежные, любовь волнует вас.
Счастливы юноши! Но кто, скажи, меж ими
Красавец молодой с очами голубыми,
С кудрями черными?.. Краснеешь? Я молчу,
Но знаю, знаю все; и если захочу,
То назову его. Не он ли вечно бродит
Вкруг дома твоего и взор к окну возводит?
Ты втайне ждешь его. Идет, и ты бежишь,
И долго вслед за ним незримая глядишь.
Никто на празднике блистательного мая,
Меж колесницами роскошными летая,
Никто из юношей свободней и смелей
Не властвует конем по прихоти своей.
* * *
«Под бурею судеб, унылый, часто я…». Перевод Е. Баратынского.
Под бурею судеб, унылый, часто я,
Скучая тягостной неволей бытия,
Нести ярмо мое утрачивая силу,
Гляжу с отрадою на близкую могилу,
Приветствую ее, покой ее люблю,
И цепи отряхнуть я сам себя молю.
Но вскоре мнимая решимость позабыта,
И томной слабости душа моя открыта:
Страшна могила мне; и ближние, друзья,
Мое грядущее, и молодость моя,
И обещания в груди сокрытой музы —
Все обольстительно скрепляет жизни узы,
И далеко ищу, как жребий мой ни строг,
Я жить и бедствовать услужливый предлог.
АЛЬФОНС ДЕ ЛАМАРТИН.
Альфонс де Ламартин (1790–1869). — Громкую известность Ламартину принесли первые же сборники его стихов: «Поэтические размышления» (1820) и «Новые поэтические размышления» (1823). Новизну и обаяние формально традиционным строкам Ламартина сообщала свобода, с которой изливались в них сокровенно-личные раздумья и настроения. Возвышенное и совершенное, но столь быстротечное на земле блаженство любви; неотвязные предчувствия смерти; стремление человеческой души к божеству; меланхолическое очарование природы — вот темы, навсегда определившие сущность поэзии Ламартина. Несмотря на то, что Ламартин вел жизнь активного политического деятеля (либерал весьма умеренного оттенка, он был видным депутатом-оратором при Луи-Филиппе и министром Временного правительства в 1848 г.), его литературное наследие довольно обширно. Здесь еще несколько стихотворных сборников, две поэмы, задуманные как часть грандиозного мистико-философского цикла, повести, исторические сочинения.
ОДИНОЧЕСТВО. Перевод Бенедикта Лившица.
Когда на склоне дня, в тени усевшись дуба
И грусти полн, гляжу с высокого холма
На дол, у ног моих простершийся, мне любо
Следить, как все внизу преображает мгла.
Здесь плещется река волною возмущенной
И мчится вдаль, стремясь неведомо куда;
Там стынет озеро, в чьей глади вечно сонной
Мерцает только что взошедшая звезда.
Пока за гребень гор, где мрачный бор теснится,
Еще цепляется зари последний луч,
Владычицы теней восходит колесница,
Уже осеребрив края далеких туч.
Меж тем, с готической срываясь колокольни,
Вечерний благовест по воздуху плывет,
И медным голосам, с звучаньем жизни дольней
Сливающимся в хор, внимает пешеход.
Но, хладною душой и чуждой вдохновенью
На это зрелище взирая без конца,
Я по земле влачусь блуждающею тенью:
Ах, жизнетворный диск не греет мертвеца!
С холма на холм вотще перевожу я взоры,
На полдень с севера, с заката на восход,
В свой окоем включив безмерные просторы,
Я мыслю: «Счастие нигде меня не ждет».
Какое дело мне до этих долов, хижин,
Дворцов, лесов, озер, до этих скал и рек?
Одно лишь существо ушло — и, неподвижен
В бездушной красоте, мир опустел навек!
В конце ли своего пути или в начале
Стоит светило дня, его круговорот
Теперь без радости слежу я и печали:
Что нужды в солнце мне? Что время мне несет?
Что, кроме пустоты, предстало б мне в эфире,
Когда б я мог лететь вослед его лучу?
Мне ничего уже не надо в этом мире,
Я ничего уже от жизни не хочу.
Но, может быть, ступив за грани нашей сферы,
Оставив истлевать в земле мой бренный прах,
Иное солнце — то, о ком я здесь без меры
Мечтаю, — я в иных узрел бы небесах!
Там чистых родников меня пьянила б влага,
Там вновь обрел бы я любви нетленной свет
И то высокое, единственное благо,
Которому средь нас именованья нет!
Зачем же не могу, подхвачен колесницей
Авроры, мой кумир, вновь встретиться с тобой?
Зачем в изгнании мне суждено томиться?
Что общего еще между землей и мной?
Когда увядший лист слетает на поляну,
Его подъемлет ветр и гонит под уклон;
Я тоже желтый лист, и я давно уж вяну:
Неси ж меня отсель, о бурный аквилон!
ОЗЕРО. Перевод А. Фета.
Итак, всему конец! К таинственному брегу
Во мрак небытия несет меня волной,
И воспротивиться на миг единый бегу
Не в силах якорь мой.
Ах, озеро, взгляни: один лишь год печали
Промчался — и теперь на самых тех местах,
Где мы бродили с ней, сидели и мечтали,
Сижу один в слезах!
Ты так же со скалой угрюмою шептало
И грызло грудь ее могучею волной
И ветром пену с волн встревоженных кидало
На ножки дорогой.
О вечер счастия! где ты, когда я с нею
Скользил по озеру, исполнен сладких дум,
И услаждал мой слух гармонией своею
Согласных вёсел шум?
Но вдруг раздался звук средь тишины священной,
И эхо сладостно завторило словам,
Притихло озеро — и голос незабвенный
Понесся по волнам:
«О время, не лети! Куда, куда стремится
Часов твоих побег?
О, дай, о, дай ты нам подоле насладиться
Днем счастья, днем утех!
Беги для страждущих, — довольно их воззвала
Судьба на жизни путь! —
Лети и притупи их рока злое жало
И счастливых забудь.
Напрасно я прошу хоть миг один у рока:
Сатурн летит стрелой[275].
Я говорю: о ночь, продлись! — и блеск востока
Уж спорит с темнотой.
Любовь, любовь! Восторгов неужели
Не подаришь ты нам —
У нас нет пристани, и время нас без цели
Мчит быстро по волнам».
О время, неужель позволено судьбою,
Чтоб дни, когда любовь все радости свои
Дает нам, пронеслись с такой же быстротою,
Как горестные дни?
Ах, если бы хоть след остался наслаждений!
Неужели всему конец и навсегда,
И время воротить нам радостных мгновений
Не хочет никогда?
Пучины прошлого, ничтожество и вечность,
Какая цель у вас похищенным часам?
Скажите, может ли хоть раз моя беспечность
Поверить райским снам?
Ах, озеро, скалы, леса и сумрак свода
Пещеры, — смерть от вас с весною мчится прочь!
Не забывай хоть ты, прелестная природа,
Блаженнейшую ночь!
В час мертвой тишины, в час бурь освирепелых,
И в берегах твоих, играющих с волной,
И в соснах сумрачных, и в скалах поседелых,
Висящих над водой,
И в тихом ветерке с прохладными крылами,
И в шуме берегов, вторящих берегам,
И в ясной звездочке, сребристыми лучами
Скользящей по струям.
Чтоб свежий ветерок дыханьем ароматным
И даже шелестом таинственным тростник,—
Все б говорило здесь молчанием попятным:
«Любовь, заплачь о них!»
АЛЬФРЕД ДЕ ВИНЬИ.
Альфред де Виньи (1797–1863). — Следуя традициям своего старинного дворянского рода, будущий поэт семнадцати лет вступил в военную службу. Спустя полтора десятилетия выйдя в отставку, он до конца своих дней вел существование уединенное и замкнутое. Стихотворения Виньи нередко представляют собой вариации на античные, библейские, средневековые сюжеты. Поэта занимают не столько порывы его чувств, сколько размышления об уделе рода людского; отсюда присущая его стихам мужественная сдержанность. Размышления эти окрашены своего рода стоическим фатализмом: неумолимому року человек может противопоставить только гордое молчание; он одинок в этом мире, и горчайшее одиночество уготовано избранным — поэтам и пророкам. Кроме стихотворных сборников («Древние и современные поэмы», 1826; «Судьбы», 1863), Альфреду де Виньи принадлежат прозаические сочинения (исторический роман «Сен-Мар», 1826), драмы («Чаттертон», 1835), «Дневник поэта» (1867).
СМЕРТЬ ВОЛКА. Перевод В. Левика.
Под огненной луной крутились вихрем тучи,
Как дым пожарища. Пред нами бор дремучий
По краю неба встал зубчатою стеной.
Храня молчание, мы по траве лесной,
По мелколесью шли в клубящемся тумане,
И вдруг под ельником, на небольшой поляне,
Когда в разрывы туч пробился лунный свет,
Увидели в песке когтей могучих след.
Мы замерли, и слух и зренье напрягая,
Стараясь не дышать. Чернела ночь глухая.
Кусты, равнина, бор молчали в мертвом сне.
Лишь флюгер где-то ныл и плакал в вышине,
Когда ночной зефир бродил под облаками
И башни задевал воздушными шагами,
И даже старый дуб в тени нависших скал,
Казалось, оперся на локоть и дремал.
Ни шороха. Тогда руководивший нами
Старейший из ловцов нагнулся над следами,
Почти припав к земле. И этот человек,
Не знавший промаха во весь свой долгий век,
Сказал, что узнает знакомую повадку:
По глубине следов, их форме и порядку
Признал он двух волков и двух больших волчат,
Прошедших только что, быть может, час назад.
Мы ружья спрятали, чтоб дула не блестели,
Мы вынули ножи и, раздвигая ели,
Пошли гуськом, но вдруг отпрянули: на нас
Глядели в темноте огни горящих глаз.
Во мгле, пронизанной потоком зыбким света,
Играя, прыгали два легких силуэта,
Как пес, когда визжит и вертится волчком
Вокруг хозяина, вернувшегося в дом.
Мог выдать волчью кровь лишь облик их тревожный,
И каждый их прыжок, бесшумный, осторожный,
Так ясно говорил, что их пугает мрак,
Где скрылся человек, непримиримый враг.
Отец стоял, а мать сидела в отдаленье,
Как та, чью память Рим почтил в благоговенье
И чьи сосцы в лесной хранительной сени
Питали Ромула и Рема[276] в оны дни.
Но волк шагнул и сел. Передних лап когтями
Уперся он в песок. Он поводил ноздрями
И словно размышлял: бежать или напасть?
Потом оскалил вдруг пылающую пасть,
И, свору жадных псов лицом к лицу встречая,
Он в горло первому, охрипшее от лая,
Свои вонзил клыки, готовый дать отпор,
Хоть выстрелы его дырявили в упор
И хоть со всех сторон ножи остервенело
Ему наперекрест распарывали тело,—
Разжаться он не дал своим стальным тискам,
Покуда мертвый враг не пал к его ногам.
Тогда он, кинув пса, обвел нас мутным оком.
По шерсти вздыбленной бежала кровь потоком,
И, пригвожден к земле безжалостным клинком,
Он видел только сталь холодную кругом.
Язык его висел, покрыт багровой пеной,
И, судорогой вдруг пронизанный мгновенной,
Не думая о том, за что и кем сражен,
Упал, закрыл глаза и молча умер он.
Я на ружье поник, охваченный волненьем.
Погоню продолжать казалось преступленьем.
Сначала медлила вдали его семья,
И будь они вдвоем — в том клятву дал бы я,—
Великолепная и мрачная подруга
В беде не бросила б отважного супруга,
Но, помня долг другой, с детьми бежала мать,
Чтоб выучить сынов таиться, голодать,
И враждовать с людьми, и презирать породу
Четвероногих слуг, продавших нам свободу,
Чтобы для нас травить за пищу и за кров
Былых владетелей утесов и лесов.
И скорбно думал я: «О царь всего земного,
О гордый человек, — увы, какое слово
И как ты, жалкий, сам его сумел попрать!
Учись у хищников прекрасных умирать!
Увидев и познав убожество земное,
Молчаньем будь велик, оставь глупцам иное.
Да, я постиг тебя, мой хищный, дикий брат.
Как много рассказал мне твой последний взгляд!
Он говорил: усвой в дороге одинокой
Веленья мудрости суровой и глубокой
И тот стоический и гордый строй души,
С которым я рожден и жил в лесной глуши.
Лишь трус и молится и хнычет безрассудно.
Исполнись мужества, когда боренье трудно,
Желанья затаи в сердечной глубине
И, молча отстрадав, умри, подобно мне».
МАРСЕЛИНА ДЕБОРД-ВАЛЬМОР.
Марселина Деборд-Вальмор (1786–1859). — Прожила трудную, полную утрат, скитаний и каждодневных забот жизнь жены неудачливого актера, матери многочисленного семейства. Но в этой жизни была и великая страсть, которой французская поэзия обязана проникновенной любовной исповедью. Боль неразделенного чувства, материнские тревоги и радости, живое сострадание к чужому горю, надежды на утешение в ином мире составляют содержание безыскусных, но отмеченных удивительной выразительностью и музыкальностью стихов Марселины Деборд-Вальмор. Ей принадлежат поэтические сборники («Мария. Элегии и романсы», 1819; «Элегии и новые стихи», 1825; «Слезы», 1833), а также несколько популярных в свое время романов («Мастерская художника», 1833, и др.).
ВОСПОМИНАНИЕ. Перевод Инны Шафаренко.
Когда однажды, вдруг, он стал белее мела
И голос дрогнувший на полуслове стих,
Когда в его глазах такая страсть горела,
Что опалил меня огонь, пылавший в них,
Когда его черты, омытые сияньем,
Бессмертным, как любовь моя,
Мне в душу врезались живым воспомннаньем,—
Любил не он, а — я!
ЭЛЕГИЯ. «Я, не видав тебя, уже была твоя…». Перевод М. Лозинского.
Я, не видав тебя, уже была твоя.
Я родилась тебе обещанной заране.
При имени твоем как содрогнулась я!
Твоя душа меня окликнула в тумане.
Оно раздалось вдруг, и свет в очах погас;
Я долго слушала, и долго я молчала:
Нас в этот миг судьба таинственно венчала;
Как будто нарекли мне имя в первый раз.
Скажи, не чудо ли? Еще тебя не зная,
Я угадала в нем, кому обречена я,
Его узнала я и в голосе твоем,
Когда ты озарить пришел мой юный дом.
Услышав голос твой, я опустила веки;
Один безмолвный взгляд нас обручил навеки;
Тот взгляд с тем именем казались мне слиты,
И, не спросив о нем, я знала: это ты!
И с той поры мой слух им словно околдован,
Он покорён ему, к нему навек прикован.
Я выражала им весь мир моей души;
Связав его с моим, я им клялась в тиши.
Оно мерещилось мне всюду, в дымке грезы,
И я роняла слезы.
Пленительной хвалой всегда окружено,
Светло увенчанным являлось мне оно.
Его писала я… Потом писать не стала
И мысленно его в улыбку превращала.
Оно и по ночам баюкало мой сон;
С зарей я слышала его со всех сторон;
Им полон воздух мой, и, если я вздыхаю,
Я теплоту его всем сердцем ощущаю.
О имя милое! о звук, связавший нас!
Как ты мне нравишься, как слух тобой волнуем!
Ты мне открыло жизнь; и в мой последний час
Ты мне сомкнешь уста прощальным поцелуем!
ЭЛЕГИЯ. «Сестра, все кончено! Он больше не вернется!..». Перевод Инны Шафаренко.
Сестра, все кончено! Он больше не вернется!
Чего еще я жду? Жизнь гаснет. Меркнет свет.
Да, меркнет свет. Конец. Прости! И пусть прольется
Слеза из глаз твоих. В моих — слезинки нет.
Ты плачешь? Ты дрожишь? Как ты сейчас прекрасна!
И в прошлые года, в расцвете юных дней,
Когда сияла ты своей улыбкой ясной,
Ты не казалась мне дороже и родней!
Но — тише, вслушайся… Он здесь! То — не виденье!
Его дыхание я чувствую щекой!
И он зовет меня! О, дай в твои колени
Горящий спрятать лоб, утешь и успокой!
Послушай. Под вечер я здесь, одна, с тоскою
Внимала в тишине далеким голосам.
Вдруг словно чья-то тень возникла предо мною…
Сестра, то был он сам!
Он грустен был и тих. И — странно — голос милый,
Который был всегда так нежен и глубок,
Звучал на этот раз с такою дивной силой,
Как будто говорил не человек, а бог…
Он долго говорил… А из меня по капле
Сочилась жизнь… Так кровь из вскрытых вен течет…
От боли, нежности и жалости иссякли
В душе слова, и страх сковал меня, как лед.
Он жаловался — мне! Вокруг все замолчало,
И птицы замерли, его впивая речь;
Природа, кажется, сама ему внимала,
Ручей — и тот затих, забыв журчать и течь…
Что говорил он? Ах, упреки и рыданья…
Я слышу их еще сейчас…
Но сколько в этот миг в нем было обаянья,
Какой струился свет из милых влажных глаз!
Он спрашивал, за что внезапно впал в немилость!
Увы, над женщиной любви безмерна власть:
Он был со мной, — и я забыла, что сердилась,
Вернулся он — и вновь обида улеглась.
Но он винил меня! Ах, это так знакомо!
Я тщилась объяснить… Но он махнул рукой
И произнес слова страшней удара грома:
— Мы не увидимся с тобой!
А я, окаменев, как статуя, сначала,
Не вскрикнув, не обняв, дала ему уйти;
И в воздухе пустом чуть слышно прозвучало
Ненужное ему последнее: «Прости!»
ВЕЧЕРНИЕ КОЛОКОЛА. Перевод И. Кузнецовой.
Когда колокола, взлетая над долиной,
На землю медленно опустят вечер длинный,
Когда ты одинок, пусть мысли в тишине
Летят ко мне! Летят ко мне!
В тот час колокола из синевы высокой
Заговорят с твоей душою одинокой,
И полетят слова по воздуху, звеня:
Люби меня! Люби меня!
И если ты в душе грустишь с колоколами,
Пусть время, горестно текущее меж нами,
Напомнит, что лишь ты средь суеты земной
Всегда со мной! Всегда со мной!
И сердца благовест с колоколами рядом
Нам встречу возвестит наперекор преградам.
Польется песнь небес из выси голубой
Для нас с тобой! Для нас с тобой!
ИДИТЕ С МИРОМ. Перевод И. Кузнецовой.
Идите с миром, боль моя,
Довольно вы меня томили,
Пленяли и с ума сводили…
Увы, любимый, боль моя,
Вас только в мыслях вижу я!
Но имя ваше без труда
В плену меня удержит прочно
И, нитью огненной заочно
Мне жизнь опутав навсегда,
Здесь вас заменит без труда.
Сама не ведая того,
Могла свершить я преступленье,
Судьей невольным в искупленье
Мне вас послало божество,
А вы не ведали того?
Я помню и огонь и смех,
Мечты и музыку вначале,
Потом пришла пора печали,
Бессонница взамен утех…
Прощайте, музыка и смех!
В далекий край лежит ваш путь,
Где вьется ласточкой игривой
Поэзия любви счастливой.
Чтобы за ней пуститься в путь,
Вы сердце мне должны вернуть.
Пусть эти слезы в тишине
Пред богом вам придут на память,
Ведь вас они не могут ранить.
Но вспоминайте обо мне
Лишь за молитвой, в тишине!
МОЛНИИ. Перевод И. Кузнецовой.
О молнии любви, высоких гроз удары,
Средь гнезд разметанных вы сеете пожары
И смерть, но небосвод навеки тьмой одет
Для тех, кто потерял ваш несравненный свет!
ШАРЛЬ-ОГЮСТЕН СЕНТ-БЁВ. Перевод М. Донского.
Шарль-Огюстен Сент-Бёв (1804–1869). — Знаменитый критик и историк литературы; оставил и несколько сборников стихов. Наибольшим успехом у современников пользовался первый из них, «Жизнь, стихотворения и мысли Жозефа Делорма» (1829), написанный от имени бедного, рано умершего студента из парижского предместья. Лирике Сент-Бёва не свойственны кричащие краски, громкие гиперболы. С интимной доверительностью она повествует о навсегда ушедших днях детства, об одиночестве мечтательной души, утратившей радость наивной веры. Но, при всем их внимании к событиям внутренней жизни, стихи Сент-Бёва отличает редкий для романтической поэзии интерес к неприметным мелочам повседневности, ко всему, что окружает героя, — будь то скромная красота сельской природы или суета шумных городских улиц.
РАВНИНА.
Моему другу Антони Д.
Октябрь.
С уборкою хлебов покончено давно,
Поля обнажены, и в закромах зерно;
Теперь, того гляди, покроет землю иней,
И осень, что холмы так красила доныне,
Чей драгоценный плащ был золотисто-рдян,
Готовится бежать, закутавшись в туман.
О, как бескрасочна равнина, как уныла!
Даль помертвелая безрадостно застыла;
Лачуги редкие виднеются вдали,
Их стены в трещинах, мхом кровли поросли,
И мнится — каждый дом пуст, холоден и темен:
Ни света, ни дымка… Вблизи каменоломен —
Нагромождения из глыб известняка.
Застыли мельницы: намолота мука.
Есть краски блеклые лишь на лесистых склонах,
Осталась часть листвы там на древесных кронах:
Деревья, коль они стоят к плечу плечом,
Сильнее, чем когда растут особняком,
Как человек сильней в кругу семьи сплоченной.
И предзакатными лучами позлащенный
Вверху желтеет лес, тогда как здесь, у нас,
Неяркий солнца свет уже совсем погас.
Равнина в сумерках особенно тосклива:
Вот поле — борозды, проложенные криво,
Мотыгой вскопаны, ведь здесь за редкость плуг;
Вот облетевший куст; вот каменистый луг;
Десяток чахлых лоз — поломаны подпорки;
Кострище черное; сидящий на пригорке
Мальчонка-пастушок: своих овец и коз
Пасет он на жнивье; лохматый черный пес
Лежит у ног его и взглядом безразличным
Следит, как роется на поле свекловичном
Старуха нищенка, — увы, напрасен труд.
Поодаль — скрип колес и смрад: навоз везут.
Кузнечик жалобно в сухой траве стрекочет.
Пчела, хоть чуть жива, но все еще хлопочет,
К засохшему цветку приникла хоботком.
Прохожих нет; лишь три охотника гуськом
Бредут, усталые и злые, без добычи,—
Шатались целый день и попусту — нет дичи.
А я, не торопясь, свой продолжаю путь,
Чтоб там, под тисами, присесть и отдохнуть.
ЖЕЛТЫЕ ЛУЧИ. (Фрагменты).
Порою летнею, когда, по воскресеньям,
Зной переждав дневной, с веселым оживленьем
Все за город спешат,
Устроясь у окна своей мансарды тесной,
Сквозь щели жалюзи на сей исход воскресный
Я устремляю взгляд.
Мечтой к заветному привороженный мигу,
Смотрю, держа в руках наскучившую книгу,
На праздничный народ
И жду — под гул толпы, под говор, смеха всплески,
Что жаркой желтизной на белой занавеске
Луч солнечный мелькнет.
Вот он — единственный, сладчайший миг недели:
Пройдя сквозь жалюзи, потоком хлынул в щели
Рой золотых частиц;
Мое духовное он обостряет зренье
И оживляет вновь в моем воображенье
Рой мыслей, чувств и лиц.
Вновь связываются оборванные нити
Далеких радостных и горестных событий,
Прошедших благ и зол.
Когда-то в этот час кюре после вечерни,
Сказав нам о добре и о житейской скверне,
На хоры нас повел.
Светильник масляный и восковые свечи
Бросали желтый свет на строгий лик Предтечи,
На Девы нежный лик.
Наш старенький кюре, приблизясь к аналою,
Весь желто-восковой, как колос под косою
Главой своей поник.
………………………………….
Я вспомнил тетушку, прошедший год… Как кротко
Она ждала конца. Была старуха тетка
Всегда ко мне добра.
На тело, саваном обвитое, сухое,
Такое жалкое, глядел я, молча стоя
У смертного одра.
Для гроба мерку снять пришли мастеровые,
Кюре читал псалтырь… И свечи восковые
Струили желтый свет.
Глядел на мертвую, на родственников лица,
Но повторять молитв не мог: нельзя молиться,
Коль веры больше нет.
Слез не было, хоть знал — она меня любила…
Стара и мать моя. Еще одна могила,—
Уж зев ее отверст,—
И скроется навек, в тиши могильной тлея,
Все то, что я любил; останусь на земле я
Один, один как перст.
Увы, исчезнет все, что дорого и свято.
Не станет матери… Нет ни сестры, ни брата,
Ни любящей жены…
По солнце снизилось до крыш, и в зыбких пятнах,
Отбрасываемых на ткань лучей закатных,
Уж нет той желтизны.
Покою, радости в моей душе нет места.
Вовеки не шепнет мне юная невеста
Застенчивого «да»;
С любимой об руку, в волнении едином,
Мне в церкви не стоять под желтым балдахином.
Вовеки, никогда!
Никто в мой смертный час, в тот миг, что неминуем,
Не склонится ко мне с прощальным поцелуем
И лить не станет слез.
Не нужный никому и никому не милый
Окончу дни свои; и над моей могилой
Не будет желтых роз.
Стемнело… Голоса былого замолчали…
Спускаюсь и — туда, где тонут все печали:
В людской водоворот.
Полны все кабачки. Толкучка, шум нестройный;
Калека под хмельком куплет малопристойный
Простуженно орет.
Бранятся, шутят, пьют — резвятся на свободе;
Целуют, тискают при всем честном народе
Подвыпивших подруг.
И, сытый зрелищем житейской карусели,
Я дома до утра ворочаюсь в постели
Под выкрики пьянчуг.
АЛЬФРЕД ДЕ МЮССЕ.
Альфред де Мюссе (1810–1857). — Первая книга стихов Мюссе — «Испанские и итальянские повести» (1830) — привлекала Пушкина своей «живостью необыкновенной». Празднично яркие сцены страсти, ревности, измены переданы здесь с немалой долей трезвой иронии. С течением лет усталая опустошенность души, «болезнь века», пристальным аналитиком которой был Мюссе — прозаик и драматург, все больше занимает воображение Мюссе-стихотворца (в лирической драме «Уста и чаша» из сборника «Спектакль в кресле», 1832, в поэме «Ролла», 1833); страдание и скорбь представляются ему теперь неизбежной ценой поэтического вдохновения (цикл стихотворений «Ночи», 1835–1837). В конце жизни Мюссе нечасто обращается к стихам, по лучшие его строки сохраняют непринужденную грациозность и остроумие.
ПЕСНЯ. Перевод В. Брюсова.
Слабому сердцу посмел я сказать:
Будет, ах, будет любви предаваться!
Разве не видишь, что вечно меняться —
Значит в желаньях блаженство терять?
Сердце мне, сердце шепнуло в ответ:
Нет, не довольно любви предаваться!
Слаще тому, кто умеет меняться,
Радости прошлые — то, чего нет!
Слабому сердцу посмел я сказать:
Будет, ах, будет рыдать и терзаться.
Разве не видишь, что вечно меняться —
Значит напрасно и вечно страдать?
Сердце мне, сердце шепнуло в ответ:
Нет, не довольно рыдать и терзаться,
Слаще тому, кто умеет меняться,
Горести прошлые — то, чего нет!
МАЙСКАЯ НОЧЬ. (Фрагменты). Перевод Вс. Рождественского.
Слова отчаянья прекрасней всех других,
И стих из слез живых — порой бессмертный стих.
Как только пеликан, в полете утомленный,
Туманным вечером садится в тростниках,
Птенцы уже бегут на берег опененный,
Увидя издали знакомых крыл размах.
Предчувствуя еду, к отцу спешит вся стая,
Толкаясь и хрипя, зобами потрясая,
И дикой радости полны их голоса.
А он, хромающий, взбирается по скалам
И, выводок покрыв своим крылом усталым,—
Мечтательный рыбак, — глядит на небеса.
По капле кровь течет из раны растравленной.
Напрасно он нырял во глубине морской —
И океан был пуст, и тих был берег сонный.
Лишь сердце принести он мог птенцам домой.
Угрюм и молчалив, среди камней холодных,
Он, плотью собственной кормя детей голодных,
Сгорает от любви, удерживая стон.
Терзает клювом грудь, закрыв глаза устало
На смертном пиршестве, в крови слабея алой,
Любовью, нежностью и страхом опьянен.
И вот, лишенный сил великим тем страданьем,
Медлительным своим измучен умираньем
И зная, что теперь не быть ему живым,
Он, крылья распахнув, отчаяньем томим,
Терзая клювом грудь, в безмолвие ночное
Такой звенящий крик шлет по глухим пескам,
Что птицы с берега взлетают быстрым роем
И путник, медленно бредущий над прибоем,
Почуяв чью-то смерть, взывает к небесам.
Вот назначение всех избранных поэтов!
О счастье петь другим, теряя кровь из ран,
И на пирах людских, средь музыки и света,
Их участь — умирать, как этот пеликан!
Когда они поют о тщетном упованье,
Тоске, забвении, несчастье и любви,
Концертом радости их песни не зови,—
Те страстные слова подобны шпаг сверканью:
Со свистом чертит круг стремительный клинок
И каплю крови вдруг роняет на песок.
* * *
«Да, женщины, тут нет ошибки…». Перевод Э. Липецкой.
Посвящается мадемуазель де ***
Да, женщины, тут нет ошибки;
Дана вам роковая власть:
Довольно нам одной улыбки,
Чтоб вознестись или упасть.
Слова, молчанье, вздох случайный,
Насмешливый иль скучный взгляд,—
И в сердце любящего тайно
Смертельный проникает яд.
Да, ваша гордость неуемна;
У нас душа слаба, кротка,
И так же ваша власть огромна,
Как верность ваша коротка.
Но гибнет в мире власть любая,
Когда ее несносен гнет;
Кто любит и молчит, страдая,
В слезах от вас навек уйдет.
Пусть горше не пил он напитка,
Пусть он истает, как свеча,
Но мне милее наша пытка,
Чем ваше дело палача.
ЭКСПРОМТ В ОТВЕТ НА ВОПРОС: «ЧТО ТАКОЕ ПОЭЗИЯ?». Перевод В. Васильева.
Смеяться, петь о том, что по сердцу пришлось,
Грустить и изливать на золотую ось
Мысль беспокойную, но взвешенную твердо;
Любить прекрасное, искать ему аккорда,
На зов души лететь за истиной вослед,
Не вспоминать того, что скрыто мраком лет;
Дарить бессмертие мечте, на миг рожденной,
Найти высокое в надежде затаенной,
В улыбке и в мольбе, где полон каждый слог
Очарованья и тревог,
И слезы обратить в жемчужины — вот это
Призвание, и жизнь, и торжество поэта.
ПЕСНЬ БАРБЕРИНЫ. Перевод А. Ревича.
Рыцарь, ты в бой отправляешься ныне,
Там, на чужбине,
Что тебя ждет?
Ночь опускается черным покровом,
В мире суровом
Столько невзгод!
Ах, ты задумал с любовью проститься?
Хочешь забыться —
Мысль по пятам.
О честолюбец, не знающий страха,
Горсткою праха
Станешь ты сам.
Рыцарь, в поход отправляешься ныне?
Ждешь на чужбине
Славы в бою?
Вспомни, как я улыбалась вначале.
В горькой печали
Слезы пролью.
ПОСЛЕДНИЕ СТИХИ АЛЬФРЕДА ДЕ МЮССЕ. Перевод А. Ревича.
Все время слышу погребальный звон,
Жду восемнадцать месяцев кончину,
С бессонницей борюсь, влачу кручину,
И веет холодом со всех сторон.
Чем жарче спорю с немочью моею,
Тем все острей предчувствую беду,
Слабеет сердце, двинуться не смею,
Боюсь: шагну — и навсегда уйду.
Все меньше сил, все круче перевалы,
Покой мой близок, но не кончен бой.
Как загнанный скакун, мой дух усталый
Вот-вот споткнется и — с копыт долой.
ЭЖЕЗИПП МОРО.
Эжезипп Моро (настоящее имя — Пьер-Жак Руйо, 1810–1838). — Короткая жизнь Моро была наполнена нуждой и невзгодами. Он разделял с обездоленными не только лишения, но и возмущение против несправедливости, дважды, в июле 1830 года и в июне 1832-го, оказавшись в рядах восставших на парижских улицах. Сатиры и песни Моро, собранные вместе с элегическими стихотворениями в небольшой книжке «Незабудка» (1838), не отличаются четкостью политической мысли и мощностью темперамента; в обличении и угрозе, как и в скорби и жалобе, поэту свойственна порывистая искренность. Лирика Моро оставалась близка демократической аудитории последующих поколений; его стихотворение «Зима» с неизменным успехом читали на публичных концертах в дни Парижской Коммуны.
ЗИМА. Перевод В. Левика.
Идет зима! Ноябрь, оледенивший лужи,
Поэта в дом загнал дыханьем злобной стужи.
Где солнце, где цветы, веселье и тепло?
Увы, как летний сон, все милое ушло!
Озябший пастушок играет на свирели,
Уныло выводя старинные ноэли,
И ветер, на лету рулады подхватив,
Разносит по полям бесхитростный мотив.
Худая женщина с библейскими чертами
Несет, едва плетясь, валежник за плечами,
Чтоб разогреть очаг, кой-как состряпать снедь,
Еще раз накормить детей… и умереть.
Пора любви прошла, ушла с листвой зеленой,
И глухо стонет лес, уже посеребренный.
Как нимфа юная, кудрявый и живой
В те дни, когда зефир играл его листвой,—
Теперь, утратив жизнь, в разлуке с солнцем, с летом,
Он, облысев, торчит уродливым скелетом,
И стон доносится из чащи сквозь туман,
Как дикий древний вопль: «Погиб великий Пан!»
В глухой агонии тоскует вся природа,
И я тоске моей не нахожу исхода;
В душе невольный страх, и мысль нейдет с ума,
Что голод и мороз опять несет зима,
Что мерзнущий бедняк мечтает в дождь и вьюгу:
О, если б крылья мне, чтоб уноситься к югу,
Чтоб вольной птицей мог я находить всегда
И ниву с зернами, и рощу для гнезда!
Туда, в блаженный край, где встал над лесом пиний
Гигантским очагом Везувий дымно-синий,
Где подле мраморов, беспечны и вольны,
На солнце нежатся Неаполя сыны,
Туда хочу, туда! Увы, мечтатель пылкий,
Дрожи и умирай на нищенской подстилке!
А между тем богач объедет целый свет,
Ездою утомив лишь свой кабриолет.
Прошли дни радости? Так что ж! Любимцы счастья,
Пусть увядает парк под бурями ненастья!
Из замков двигайтесь в столицу, где всегда
За деньги радость вы найдете без труда.
О баловни судьбы, для вашей праздной клики
Наш пестрый Вавилон откроет пир великий,
Стремитесь весь Париж повергнуть под пяту!
Спешите утолять капризы на лету!
Для вас и чудеса, и блеск, и роскошь эта,
Страданья бедняка, бессонницы поэта,
Плоды из жарких стран, когда царит зима,
Россини пламенный, трагический Дюма[277],
Для вас дары любви, разгулы лупанара,
Зимою — весь Париж, вся даль земного шара.
Фемида, Цербер злой, богатым не страшна,
Пред золотым дождем смиряется она.
Но, чтоб всегда вкушать нетронутым и чистым
То счастье, что судьба дарует эгоистам,
Идите напрямик, закрыв лицо плащом,
Не озираясь вкруг, не мысля ни о чем,—
Затем, что, встретившись неосторожным взором
С нуждою, мерзнущей в отрепьях под забором,
Вы отшатнетесь прочь, нервически дрожа,
Вас жалость полоснет, как лезвие ножа,
Уйдет румянец ваш, и кровь застынет в теле,
И розы лепесток вас будет жечь в постели.
Когда пылает пунш в граненом хрустале,
Старайтесь не глядеть на дверь: за ней во мгле,
Придя на хохот ваш, разбуженная вами
Тень Лазаря следит голодными глазами[278],
Смакует запахи и молит небеса,
Не смея ни войти, ни кость отнять у пса.
Слепя народ гербом и золотом кареты,
Когда гремят вокруг мосты и парапеты,—
Велите гнать быстрей, чтоб гул идущих ног
О ропоте толпы напомнить вам не мог.
Страдает весь народ, но где исход из плена?
Заполнят морг тела, что поглотила Сена!
Ваш эгоизм — султан; он правит торжество;
Он много скрыл злодейств, и здесь Босфор его.
Но чей-то жалкий стон порой, как вестник мщенья,
Тревожит богача в часы пищеваренья,
И все голодные, которых тьмы и тьмы,
Украдкой шепчутся: «А все же, если б мы…»
Стон переходит в крик, а плач — в призывы к мести:
Кипит, как Рыжий Крест[279], вся армия предместий.
Но мало ль пламенных ораторов у вас?
Quos ego[280] их смирит мятежников тотчас.
Они, простой сантим жалея братье нищей,
Накормят бедняка речей духовной пищей
И, как тореадор, готовя пир клинку,
Бросает алый шарф свирепому быку,—
Трехцветный стяг взовьют с обманчивым припевом,
Чтоб тигра ослепить — народ, горящий гневом!
Когда ж настанешь ты, о день мечты моей,
Ты, исправитель зла жестоких прошлых дней,
Всеобщий уровень писателей-пророков,
Предсказанный, увы, вне времени и сроков!
Рассудок шепчет мне: «Мир закоснел, он спит,
Он не изменится!» А сердце говорит:
«Тем лучше; бедный раб во дни святого мщенья,
Хоть заблуждается, — достоин всепрощенья!»
Спартак опять мечом властительным взмахнет,
Народ поднимется, низвергнув старый гнет,
Воспрянет легион бродяг, цыган, каналий,
Грязнивших празднества великих сатурналий[281],
Вся грозная орда, что, претерпев разгром,
Умеет воскресать под самым топором.
И сытые тогда, боясь голодной голи,
Врагу предложат часть их пиршественной доли,
Но мститель роковой, чей так прекрасен гнев,
Воскликнет: «Все мое! Я именуюсь — лев!»
И разыграются неслыханные сцены,
Которые Иснар[282] предрек народу Сены:
К пустынным берегам, где зыблется камыш,
Напрасно варвары придут искать Париж;
Сотрется даже след великого Содома,
Соборы не спасут его от божья грома;
И ликованьями я встречу серный град,
Что вихри ниспошлют на зачумленный град;
И молодость моя в минуты роковые
Близ лавы огненной согреется впервые!
Так, разум потеряв, безумный, я взывал
И в ямбе пламенном рыданья изливал;
Я ненавидел все, — кто, страждущий, безгрешен? —
Но каплей радости я скоро был утешен.
Лишь поцелуй да хлеб поэту ниспошли,
И милосердно он простит сынов земли.
Господь, ты спас от бурь мое нагое тело,
Но братьев горести не ведают предела;
При виде их нужды мутится разум мой.
Пошли им благодать, испытанную мной!
Дай манну им вкусить, и стихнут их проклятья;
Ты требуешь любви, — так пусть не страждут братья!
Пусть обездоленный — на сытых богачей
Вовек не обратит разгневанных очей!
Ты, малому птенцу не отказавший в пище,
Пошли голодным хлеб, а мерзнущим — жилище,
Дай зиму мягкую, и в день ее конца
И птицы и поэт благословят творца.
ПЬЕР ЛАШАМБОДИ.
Пьер Лашамбоди (1806–1872). — Начинающим стихотворцем появился в Париже в бурном 1830 году и сразу же был захвачен кипучей политической и художественной жизнью столицы. Он принял участие в событиях Июльской революции, откликнувшись на них и своими быстро снискавшими популярность песнями («Национальные песни», 1831). Его песни 40-х годов проникнуты идеями утопического социализма. Наибольшую известность, однако, принесли Лашамбоди басни. Смело вводящая новые аллегорические приемы, то гневная, то лирическая, басня Лашамбоди занята насущными социальными вопросами. В 1848 году поэт был сподвижником Бланки; после монархического переворота 1851 года лишь заступничество Беранже спасло его от каторги, замененной несколькими годами изгнания.
МОЛОТ. Перевод В. Дмитриева.
Кусок железа был от бруса отсечен
И докрасна был в горне раскален,
Затем на наковальне очутился…
Все бьют его и бьют…
Он, наконец, взмолился:
— Когда же буду я освобожден? —
Вот положил кузнец предел его мученьям
И молот из него сковал.
Недавний раб тираном стал:
Сам начал бить с ожесточеньем…
Холоп, недавно лишь страдавший под ярмом,
Вельможей сделался или откупщиком;
Трибун, в лояльности нам клявшийся публично,
Вдруг власть заполучил и правит деспотично…
Рабы, превращены нежданно в палачей,
Вы схожи с молотом из басенки моей!
КАПЛЯ. Перевод А. Гатова.
Когда из тучи темной, грозовой
Упала капля в море, жребий свой
Она оплакивала: «Я в печали,
Я погибаю среди волн морских,
Ненужная… Ах, в помыслах моих
Совсем иные образы вставали!
Я думала, я буду на земле
У бабочки на бархатном крыле
Летать или сверкать в траве зеленой…»
Так сетует… А по морскому лону
Медлительная устрица плывет
И, вдруг раскрывшись, каплю поглощает.
В ракушке капелька отвердевает,
Становится жемчужиной — и вот
Пловец, подняв ее со дна морского,
Раскрыл ее темницу, и она
Для жизни вольной, светлой, новой
Навеки освобождена.
О дочь народа! Черный жребий твой —
За хлеб и кров работать день-деньской.
Мужайся! Беды все твои — до срока.
Ты выйдешь — будет день! — из темноты:
Средь волн мирских не будешь одинока —
Жемчужиной народа станешь ты.
ПЕТРЮС БОРЕЛЬ. Перевод П. Стрижевской.
Жозеф-Пьер Борель (1809–1859). — Называл себя на средневековый лад Петрюсом и присоединял к своему имени прозвище «ликантроп» — «волкочеловек»; это значило: непохожий на собратьев-людей и им не покоряющийся. На рубеже 20–30-х годов он был душой кружка «неистовых» романтиков, в искусстве и в жизни не упускавших случая бросить вызов «классикам» и «мещанам». Борель с горячим воодушевлением встретил Июльскую революцию 1830 года и не менее остро переживал крушение связанных с нею надежд, сохранив, однако, верность своим республиканским идеалам.
Непримиримое, «вселенское» бунтарство в его стихах и прозе претворяется в эпатирующе-жестокие сюжеты и образы, в ядовитый сарказм инвектив, пронзительную горечь признаний. Борель оставил сборник стихов «Рапсодии» (1832), повесть «Шампавер. Безнравственные рассказы» (1833) и исторический роман «Госпожа Пютифар» (1839). Последние двадцать лет жизни он ничего не писал и умер мелким служащим в Алжире.
СЧАСТЬЕ И НЕСЧАСТЬЕ.
Я призывал порой с улыбкой час кончины,
В безбедные года мне был не страшен он,
Душою к смерти я стремился без причины,
Утехами любви и счастьем утомлен.
Нам радость тяжела, и навевает скуку
Безоблачная жизнь и праздных дней черед,
Веселье нас гнетет, смех переходит в муку,
В железные тиски сердца тоска берет.
Корабль судьбы летит, утратив управленье,
По воле всех ветров, готовый рухнуть в ад,—
Лишь храм поэзии сияет в отдаленье,
Песнь барда нас пьянит, как пряный аромат.
Свободным должен быть вовеки бард, как птица,
Пусть по ночам среди деревьев он поет,—
Подобно селезню, пусть криками стремится
Закат сопровождать, приветствовать восход.
Он птица, бард. Ему суровым быть пристало,
Серьезным, сдержанным и всех богатств иметь —
Плащ рваный на плечах, под курткой сталь кинжала,
Жить в одиночестве, ни для кого не петь.
Но жалок нынче бард, подобье попугая! —
Обласкан женщиной, в изящный фрак одет,
С трудом фальшивые рулады исторгая,
Как в клетке золотой, живет ручной поэт.
Обжора и гурман, страдающий изжогой,
Микстуру, охая, глотает перед сном.
Став снобом, неженкой, шутом и недотрогой,
Меч сохранив для клятв, он стал ходить с зонтом.
Балы, цветы, шелка возлюбленных прелестных,
Роскошный экипаж и замок над прудом —
Вот матерьял его поэм тяжеловесных,
Строф вычурных, где смысл отыщется с трудом.
Помилуйте наш слух! Поэма не ливрея,
Не стоит нацеплять на строга галуны,
Мы слушать не хотим вас, от стыда краснея
За ваши жалкие усилья. Вы смешны!
Поэты, дыры скрыть в лохмотьях не стремитесь,
Таланты расцветут в лишеньях и в беде,
Но в наши рубища рядиться постыдитесь,
Бард может вырасти лишь в подлинной нужде.
Я призывал порой с улыбкой час кончины,
В безбедные года мне был не страшен он,
Но смерти я боюсь сегодня без причины,
Хоть беден, голоден, измучен, истощен.
ГИМН СОЛНЦУ.
Я медленно бреду по узкой тропке этой,
Тоскою злой влеком;
Измученный, больной, ложусь на мох нагретый,
Как дикий зверь, ничком.
Я голоден, я слаб, дрожу в разгаре лета
И призываю сон,
Чтоб дать передохнуть глазам от буйства света,
Мне все ж доступен он.
Нам даже солнца луч порой не по карману,
И наша жизнь темна,
Мы платим пошлину за свет дневной тирану,—
Я уплатил сполна.
Но дарит всем тепло светило без разбора,
Ведь солнцу все равно:
На рубища бродяг и гордый лоб сеньора
Льет тот же свет оно.
ЖЕРАР ДЕ НЕРВАЛЬ.
Жерар де Нерваль (настоящее имя — Жерар Лабрюни, 1808–1855). — Среди молодых романтиков из круга «неистовых» Нерваля ждала судьба едва ли не самая трагическая: трудное существование писателя, живущего своим пером, неудачная любовь, все учащающиеся приступы душевной болезни, бесприютная нищета и самоубийство в темном парижском переулке.
Ранние стихотворения Нерваля, объединенные им под названием «Маленькие оды» (1852), своей прозрачной напевностью напоминают о бесхитростном очаровании старинных народных песен; но иногда здесь уже слышен голос будущего автора «Химер» (1854) — цикла из двенадцати сонетов, где в строках, насыщенных многозначными до темноты образами, сплавлены отзвуки античных мифов и средневековых легенд, причудливые тени подлинных событий жизни и оккультные символы, ностальгия по далекому «золотому веку» и ощущение трепетной одушевленности всего сущего. Нерваль оставил также сборник лирических новелл «Дочери огня» (1854), повесть «Аврелия» (1854), драмы, путевые очерки, переводы («Фауст» Гете, 1828).
АПРЕЛЬ. Перевод Э. Липецкой.
Тепло и пыльно, синь без края,
И, стены тускло обагряя,
Закаты тлеют допоздна,
Но не сыскать листов зеленых:
Лишь красноватый дым на кронах,
А сеть ветвей черным-черна.
Мне эти дни всего противней:
Я жду грозы, веселых ливней,—
Тогда, воспрянув ото сна,
Подобна девочке-наяде,
В зелено-розовом наряде
Из глуби вынырнет весна.
БАБУШКА. Перевод А. Гелескула.
Четвертый год, как бабушка в могиле,—
Душевный друг, — недаром, хороня,
Чужие люди были как родня
И столько слез так искренне пролили.
Лишь я бродил и вдоль и поперек,
Скорей растерян, нежели в печали.
И слез не лил, а люди замечали,
И кто-то даже бросил мне упрек.
Но шумное их горе было кратко,
А за три года мало ли забот:
Удачи, беды, — был переворот,—
И стерлась ее память без остатка.
Один лишь я припомню и всплакну,
И столько лет, ушедших без возврата,
Как имя на коре, моя утрата
Растет, не заживая, в глубину.
ЧЕРНАЯ ТОЧКА. Перевод Ю. Денисова.
Тем, кто посмел взглянуть на солнце, не мигая,
Казалось, что оно лишь точек черных стая.
Они сливаются в одну, затмив простор.
Так молодость моя когда-то прямо, смело
Лишь несколько секунд на Славу посмотрела —
И черной точкою был помрачен мой взор.
Она окрасила в цвет смерти и могилы
Весь мир, и я гляжу на все вокруг уныло,
Всегда передо мной то черное пятно.
И радость и любовь — затмило все собою…
О, горе! Лишь орлу дозволено судьбою
Смотреть на Солнце ли, на Славу ль — все равно!
ЗЫБКОЕ. Перевод Елены Ваевской.
Нет возлюбленных нежных:
Все из жизни ушли!
И в краю безмятежном
Все покой обрели!
С ними ангелов сонмы,
Они дивно светлы
И пречистой мадонне
Воссылают хвалы!
В белоснежном уборе,
В тонких пальцах цветы…
О, любовь, что, как горе,
Не щадит красоты!..
Беспредельности вечной
Отблеск в милых глазах:
Пусть угасшие свечи
Светят нам в небесах!
ЗАХОД СОЛНЦА. Перевод Елены Ваевской.
Когда над Тюильри закатный небосвод
Дворцовых окон ряд окрасит, пламенея,
В вечерний этот час я — Главная аллея,
Я — зеркало озерных вод!
И вот, друзья мои, как неусыпный страж,
Прихода темноты я жду в вечернем парке.
Там — рдеющий закат, как редкостный пейзаж,
Взят в раму Триумфальной арки!
EL DESDICHADO[283]. Перевод П. Стрижевской.
[283].
Я в горе, я вдовец, темно в душе моей,
Я Аквитанский принц[284], и стены башни пали:
Моя звезда мертва[285],— свет солнечных лучей
Над лютней звонкою скрыт черной мглой Печали.
Как встарь, утешь меня, могильный мрак развей,
Дай Позиллипо[286] мне узреть в лазурной дали,
Волн италийских бег, цветок горчайших дней,
Беседку, где лозу мы с розой повенчали.
Амур я или Феб? Я Лузиньян[287], Бирон[288]?
Царицы поцелуй[289] мне жжет чело доныне;
Я грезил в гроте, где сирена спит в пучине…
Два раза пересечь сумел я Ахерон[290],
Мелодию из струн Орфея извлекая,—
В ней феи вздох звучал, в ней плакала святая.
АРТЕМИДА[291]. Перевод П. Стрижевской.
[291].
Тринадцатая[292] вновь… ты первою предстала;
Всегда единственной? Иль неизменна роль?
Но королева ль ты? Иль ждет тебя опала?
И кто избранник? Ты иль свергнутый король?
Любимая меня любить не перестала;
Любите преданно, вам преданны доколь.
То смерть иль смертная?.. О, благодать! О, боль!
И у нее в руке сияет роза[293] ало.
Но взором огненным небесный свод окинь,
Ты, роза пламени, Неаполя святая,
Узрела ль ты свой крест средь облачных пустынь?..
Летите, розы, вниз! Пылает неба синь!
Сгинь, белых призраков непрошеная стая!
Святая бездны[294] мне дороже всех святынь!
ХРИСТОС В ГЕФСИМАНСКОМ САДУ[295]. Перевод П. Стрижевской.
[295].
Бог умер! Небеса пусты…
Плачьте, дети! У вас нет отныне отца…
Жан-Поль[296].
I.
Когда Господь, ничьим участьем не согрет,
На предавших друзей взирал с немым упреком
И к небу воздевал в отчаянье жестоком
Худые длани, как отвергнутый поэт,
Он посмотрел на тех, кому нес веры свет,—
Там каждый мнил себя властителем, пророком,
Но пребывал меж тем в животном сне глубоком,—
И изнемог Господь и крикнул: «Бога нет!»
Дремали все. «Друзья, вы эту весть слыхали?
Мой лоб в крови, меня ждут беды и печали,
И свода вечного коснулся я челом!
О, бездна! Бездна! Ложь, обман мое ученье!
Не освящен алтарь, нет в жертве искупленья…
Нет Бога! Бога нет!» Все спали крепким сном!
II.
Твердил он: «Все мертво! Пустыня — мирозданье;
Я обошел весь свет, по млечным брел путям,
К истокам вечных рек меня влекло скитанье
По серебру воды и золотым пескам,—
Везде безжизненных земель и вод молчанье,
Лишь океан валы вздымает к небесам,
Покой межзвездных сфер тревожит их дыханье,
Но разума — увы! — не существует там.
Я божий взор искал, по впадина глазная
Зияла надо мной, откуда тьма ночная
На мир спускается, густея с каждым днем;
И смутной радугой очерчен круг колодца,
Преддверье хаоса, где мрак спиралью вьется,—
Во мгле Миры и Дни бесследно гибнут в нем!»
III.
«Неумолимый Рок! Страж молчаливой дали!
Необходимости непобедимой лед!
Твои шаги простор вселенной охлаждали,
Когда немых снегов ты совершал обход;
Ты ведал, что творил: светила угасали,
За солнцем солнца вдруг лишался небосвод;
Дыханье вечное ты передашь едва ли
От мира мертвого тому, что вновь придет…
Отец мой! Твой ли дух мной правит вездесущий?
И вправду ли дана тебе над смертью власть?
Ужель когда-нибудь тебя заставит пасть
Сей ангел ночи, нас во мраке стерегущий?
Я осужден один страдать во тьме ночной.
Увы! — коль я умру, то все умрет со мной!»
IV.
Никто не приходил прервать его мученье,
Он сердце изливал напрасно в тишине;
В Солиме[297] лишь один не пребывал во сне,—
Господь к нему воззвал, моля об избавленье:
«Иуда, — крикнул он, — оставь же промедленье,
Спеши меня продать, спор кончи о цене,
Я им не нужен, друг! Скорей явись ко мне,
Осмелься совершить хотя бы преступленье!»
Но шел Иуда прочь, насуплен и угрюм,
Раскаянье и стыд его терзали ум
И скорбь, что дешево он совершил продажу…
И только лишь Пилат, оторванный от дел,
К страдальцу жалостью проникся и велел
Охране наконец: «Безумца взять под стражу!»
V.
Он тот безумец был, в ком вечное горенье,—
Забытый, к небесам вознесшийся Икар,
Он — Фаэтон[298], его сжег солнечный пожар,
В нем Аттиса[299] творит Кибела воскресенье!
Авгур[300] отыскивал в утробах птиц знаменье,
И почву опьянял бесценной крови дар,
И на своей оси земной крепился шар,
Олимп над бездною склонился на мгновенье.
«О, не таись, Амон-Юпитер[301], от меня,—
Воскликнул Кесарь, — чей он ангел, тьмы иль света?
Кто послан нам, ответь! Он бог иль сатана?»
Оракул не давал правителю ответа…
Могла быть лишь тому известна тайна эта,
Кем глина мертвая душой наделена.
ЗОЛОТЫЕ СТИХИ. Перевод А. Ревича.
Что же! Все в мире чувствует.
Пифагор[302].
Подумай, человек! Тебе ли одному
Дарована душа? Ведь жизнь — всему начало.
Ты волей наделен, и сил в тебе немало,
Но миру все твои советы ни к чему.
Узрев любую тварь, воздай ее уму:
Любой цветок душой природа увенчала,
Мистерия любви — в руде, в куске металла.
«Все в мире чувствует!» Подвластен ты всему.
И стен слепых страшись, они пронзают взглядом,
Сама материя в себе глагол таит…
Ее не надо чтить кощунственным обрядом!
Но дух божественный подчас в предметах скрыт;
Заслоны плотных век — перед незримым глазом,
А в глыбе каменной упрятан чистый разум.
АЛОИЗИУС БЕРТРАН. Перевод Е. Гунста.
Алоизиус (настоящее — имя Луи-Наполеон) Бертран (1807–1841). — В истории французской литературы известен как создатель очень важного для нее жанра — стихотворения в прозе. Жизнь поэта прошла и глухой бедности; единственная его книга — «Ночной Гаспар. Фантазии в манере Рембрандта и Калло» — была издана посмертно, в 1842 году. Она состоит из лирических зарисовок, сюжет которых — нравы, искусство, поверья разных стран Европы в излюбленные романтиками времена средневековья и Ренессанса. Нередко здесь неожиданный поворот ситуации вскрывает истинную суть призрачной и таинственной картины. Истина порой оказывается зловещей: ведь Ночной Гаспар, мнимый автор «Фантазий», — не кто иной, как дьявол. Отделанные с великой тщательностью, оттеняющие прихотливость вымысла тонким юмором, эти миниатюры послужили моделью для «Стихотворений в прозе» Бодлера.
ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ РУКИ.
Почтенная семья, в которой никогда не было ни несостоятельных должников, ни повешенных.
«Родня Жана Де Нивеля»[303].
Большой палец — это фламандский кабатчик, озорник и насмешник, покуривающий трубку на крылечке, под вывеской, сказано, что здесь торгуют забористым мартовским пивом.
Указательный палец — это его жена, бабища костлявая, как вяленая вобла; она с самого утра лупит служанку, которую ревнует, и ласкает шкалик, в который влюблена.
Средний палец — их сын, топорной работы парень; ему бы в солдаты идти, да он пивовар, и быть бы жеребцом, да он мужчина.
Безымянный палец — их дочка, шустрая и задиристая Зербина; дамам она продает кружева, но поклонникам не продаст и улыбки.
А мизинец — баловень всей семьи, плаксивый малыш, вечно цепляется за мамашин подол, словно младенец, повисший на клюке людоедки.
Пятерня эта готова дать при случае оглушительную оплеуху, запечатлев на роже пять лепестков левкоя — прекраснейшего из всех когда-либо взращенных в благородном граде Гаарлеме[304].
ВОДЯНОЙ.
То был ствол и ветви плакучей ивы.
А. Де Латуш[305]. «Лесной Царь».
«Кольцо мое! Кольцо!» — закричала прачка, напугав водяную крысу, которая пряла пряжу в дупле старой ивы.
Опять проделка Жана де Тия[306], проказника-водяного, — того, что ныряет в ручье, стенает и хохочет под бесконечными ударами валька!
Неужели ему мало спелой мушмулы, которую он рвет на тучных берегах и пускает по течению!
«Жан воришка! Жан удильщик, но и его самого в конце концов выудят! Малыш Жан! Я окутаю тебя белым саваном из муки и поджарю на сковородке в кипящем масле!».
Но тут вороны, качавшиеся на зеленых вершинах тополей, принялись каркать, рассеиваясь в сыром, дождливом небе.
А прачки, подоткнув одежду подобно рыболовам, ступили в брод, устланный камнями и покрытый пеной, водорослями и шпажником.
ДОЖДИК.
Где бедной птичке знать, что дождь опасен ей?
Шум ветра яростный она встречает пеньем,
А капли той порой, грозя ей наводненьем,
Как жемчуг, катятся в ее гнездо с ветвей.
Виктор Гюго[307].
И вот, пока льет дождик, маленькие угольщики Шварцвальда, лежа на подстилках из душистых папоротников, слышат, как снаружи, словно волк, завывает ветер.
Им жалко лань-беглянку, которую гонят все дальше и дальше фанфары грозы, и забившуюся в расщелину дуба белочку, которую пугают молнии, как пугают ее шахтерские фонари.
Им жалко птичек — трясогузку, которая только собственным крылышком может накрыть свой выводок, и соловья, потому что с розы, его возлюбленной, ветер срывает лепесток за лепестком.
Им жалко даже светлячка, которого капля дождика низвергает в пучины густого мха.
Им жалко запоздавшего путника, повстречавшего короля Пиала и королеву Вильберту, ибо это час, когда король ведет своею парадного коня на водопой к Рейну.
Но особенно жалко им ребятишек, которые, сбившись с пути, могут прельститься тропой, протоптанной шайкой грабителей, или направиться на огонек, зажженный людоедкой.
А на другой день, на рассвете, маленькие угольщики отыскали свою хижину, сплетенную из сучьев, откуда они приманивали на манок дроздов; она повалилась на землю, а клейкие ветки, служившие для ловли птиц, валялись неподалеку в ручейке.
ТЕОФИЛЬ ГОТЬЕ.
Теофиль Готье (1811–1872). — Молодость Готье прошла среди пылких последователей Виктора Гюго, в литературных баталиях и антиобывательских эскападах. Но из романтических заповедей по-настоящему близка ему оказалась лишь та, что утверждала культ святого Искусства; ей он оставался верен всю жизнь, осмысляя ее как теорию «искусства для искусства». Поэзия Готье избегает непосредственного лирического излияния. В юности колебавшийся при выборе призвания между литературой и живописью, он был особенно чуток к чувственной красоте мира. Мысль и настроение в его стихах передаются обычно через красочный, осязаемый внешний образ, зачастую вовсе не вычурно-эстетский, а относящийся к обыденной действительности. Профессиональный литератор, журналист, не имевший возможности отказываться и от самой неблагодарной работы, Готье участвовал во всем, что происходило в художественной жизни Франции. Он оставил поэтические книги («Стихи», 1830; «Испания», 1845; «Эмали и камеи», 1852), новеллы, романы («Капитан Фракасс», 1863), воспоминания о друзьях молодости — «История романтизма».
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. Перевод М. Донского.
Мессир Ивен могуч и силен,
Его древний замок рвом окружен,
Крепкие стены из гладких камней,
Башня с дозорной вышкой над ней,
Щели бойниц, парапеты, зубцы,
И всюду готовые к битве бойцы.
Старинное Фаблио.
В погоне за стихом, за ускользнувшим словом,
Я к замкам уходить люблю средневековым:
Мне сердце радует их сумрачная тишь,
Мне любы острый взлет их черно-сизых крыш,
Угрюмые зубцы на башнях и воротах,
Квадраты стеклышек в свинцовых переплетах,
Проемы ниш, куда безвестная рука
Святых и воинов врубила на века,
Капелла с башенкой — подобьем минарета,
Аркады гулкие с игрой теней и света;
Мне любы их дворы, поросшие травой,
Расталкивающей каменья мостовой,
И аист, что парит в сиянии лазурном,
Описывая круг над флюгером ажурным,
И над порталом герб, — на нем изображен
Единорог иль лев, орел или грифон;
Подъемные мосты, глубоких рвов провалы,
Крутые лестницы и сводчатые залы,
Где ветер шелестит и стонет в вышине,
О битвах и пирах рассказывая мне…
И, погружен мечтой в былое, вижу вновь я
Величье рыцарства и блеск средневековья.
ЗМЕИНАЯ НОРА. Перевод А. Гелескула.
Проглянет луч — и в полудреме тяжкой,
По-старчески тоскуя о тепле,
В углу между собакой и бродяжкой
Как равный я улягусь на земле.
Две трети жизни растеряв по свету,
В надежде жить успел я постареть
И, как игрок последнюю монету,
Кладу на кон оставшуюся треть.
Ни я не мил, ни мне ничто не мило;
Моей душе со мной не по пути;
Во мне самом давно моя могила —
И я мертвей умерших во плоти.
Едва лишь тень потянется к руинам,
Я припаду к остывшему песку
И, холодом пронизанный змеиным,
Скользну в мою беззвучную тоску.
ПО ДОРОГЕ К МОНАСТЫРЮ МИРАФЛОРЕС. Перевод И. Чежеговой.
Да, здесь крутой подъем, и пыльный и тяжелый,
Под стать монастырю пейзаж: скалистый, голый;
Здесь камни, из-под ног срываясь, вниз летят
И каждый миг увлечь нас в пропасть норовят.
Здесь ни травинки нет, для глаза нет отрады:
Лишь камни каменной обветренной ограды
Да скопище олив, что прячут стан кривой
Под буро-пепельной безжизненной листвой.
Все солнцем выжжено: гранитные утесы,
И скалы в трещинах, и серые откосы,
И сердце, сжатое унынием, болит…
Но вот вы наверху: что за нежданный вид!
Синеющая даль и древней церкви стены,
Где Сида прах лежит и рядом — прах Химены!
ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ «ВЕНЕЦИАНСКОГО КАРНАВАЛА[308]». (Из цикла).
[308].
УЛИЦА. Перевод В. Портнова.
Вот неотвязчивый напев!
Все скрипки, все шарманки блазнит,
Все подворотни облетев,
Собак до исступленья дразнит.
Все табакерки, все часы
Его полвека пели звонко,
И все альты, и все басы,
И бабушка, еще девчонкой.
Под этот роковой мотив
Все птицы крылышками машут,
Юнцы, подружек обхватив,
В пыли под свист кларнета пляшут.
Его горланят кабачки,
Увитые плющом и хмелем,
Любые праздные деньки
Полны все тем же ритурнелем.
На флейте нищий инвалид
Его дудит, фальшивя тяжко,
И даже пудель в такт скулит,
Пока толпу обходит с чашкой.
И гитаристки вновь и вновь
Его твердят в кафешантанах,
Печально вскидывая бровь
На выкрики и хохот пьяных.
Как будто ухватив крючком,
Его в какой-то вечер синий
Своим божественным смычком
Поймал кудесник Паганини.
И словно выцветший атлас
Заставил вспыхнуть в прожнем блеске,
Пустив по глади пошлых фраз
Плыть золотые арабески.
КАРМЕН. Перевод А. Эфрон.
Кармен тоща — глаза Сивиллы
Загар цыганский окаймил;
Ее коса — черней могилы,
Ей кожу — сатана дубил.
«Она страшнее василиска!» —
Лепечет глупое бабье,
Однако сам архиепископ
Поклоны бьет у ног ее.
Поймает на бегу любого
Волос закрученный аркан,
Что, расплетясь в тени алькова,
Плащом окутывает стан.
На бледности ее янтарной,—
Как жгучий перец, как рубец,—
Победоносный и коварный
Рот — цвета сгубленных сердец.
Померься с бесом черномазым,
Красавица, — кто победит?
Чуть повела горящим глазом,
Взалкал и тот, что страстью сыт!
Ведь в горечи ее сокрыта
Крупинка соли тех морей,
Из коих вышла Афродита
В жестокой наготе своей…
ШАРЛЬ ЛЕКОНТ ДЕ ЛИЛЬ.
Шарль Леконт де Лиль (1818–1894). — Основатель и глава «парнасской» школы, провозглашавшей не замутненное преходящими заботами и страстями служение Прекрасному, Леконт де Лиль был совсем не чужд тревогам своего века. В молодости он сотрудничал с фурьеристами; во время революции 1848 года Леконт де Лиль, сын плантатора с острова Реюньон, призывал к отмене рабства во французских колониях. В торжественных и звучных, чеканных стихах (они составили четыре книги: «Античные стихотворения», 1852; «Варварские стихотворения», 1862; «Трагические стихотворения», 1884; «Последние стихотворения», посмертно, 1895) поэт обращается к далеким, по большей части языческим, цивилизациям. Экзотическая природа здесь равнодушна к человеку, чьи собственные деяния жестоки и кровавы; но этот мрачный мир наделен величием и красотой, которыми была так бедна французская действительность времен Второй империи и Третьей республики. Леконт де Лиль известен и как непревзойденный переводчик Гомера и многих других античных авторов.
ЯГУАР. Перевод Бенедикта Лившица.
За дальней завесью уступов, в алой пене
Всю местность выкупав, отпламенел закат.
В пампасах сумрачных, где протянулись тени,
Проходит трепета вечернего разряд.
С болот, ощеренных высокою осокой,
С песков, из темных рощ, из щелей голых скал
Ползет, стремится вверх средь тишины глубокой
Глухими вздохами насыщенный хорал.
Над тинистой рекой воспрянув из туманов,
Холодная луна сквозь лиственный шатер
На спины черные всплывающих кайманов
Накладывает свой серебряный узор.
Одни из них давно преодолели дрему
И голода уже испытывают власть,
Другие, к берегу приблизившись крутому,
Как пни шершавые, лежат, раскрывши пасть.
Вот час, когда в ветвях, присев на задних лапах,
Прищуривая глаз и напрягая нюх,
Прекрасношерстый зверь подстерегает запах,
Живого существа чуть уловимый дух.
Для предстоящих битв он держит наготове
И зуб и коготь. Весь в стальной собравшись ком,
Он рвет, грызет кору и в предвкушенье крови
Облизывается пунцовым языком.
Согнув спиралью хвост, он бешено им хлещет
Древесный ствол, затем, приняв дремотный вид,
Сникает головой на лапу и, в зловеще
Притворный сон уйдя, неявственно храпит.
Но, вдруг умолкнув и простершись бездыханней
Гранитной глыбы, ждет, укрытый меж ветвей:
Громадный бык идет неспешно по поляне,
Задрав рога и пар пуская из ноздрей.
Еще два-три шага, и, ужасом объятый,
Бык замирает. Льдом сковав ему бока
И плоть его сверля, горят во мгле агаты,
Два красным золотом налитые зрачка.
Шатаясь, издает он жалобные стоны,
Мычит, влагая в рев предсмертную тоску,
А ягуар, как лук сорвавшись распрямленный,
На шею прыгает дрожащему быку.
От страшного толчка чуть не до половины
Вонзает в землю бык огромные рога,
Но вскоре, яростный, в бескрайние равнины
Мчит на своей спине свирепого врага.
По топям, по пескам, по скалам и по дюнам,
Необоримых чащ пересекая тьму,
Стремглав проносятся, облиты светом лунным,
Бык с хищным всадником, прикованным к нему.
И миг за мигом вдаль все глубже отступая,
Отходит горизонт за новую черту,
И там, где ночь и смерть, еще идет глухая
Борьба кровавых тел, сращенных на лету.
ПОКАЗЧИКИ. Перевод М. Лозинского.
Как изможденный зверь в густой пыли вечерней,
Который на цепи ревет в базарный час,
Кто хочет, пусть несет кровь сердца напоказ
По торжищам твоим, о стадо хищной черни!
Чтобы зажечь на миг твоя отупелый глаз,
Чтоб выклянчить венок из жалких роз иль терний,
Кто хочет, пусть влачит, топча, как ризу, в скверне,
И стыд божественный, и золотой экстаз.
В безмолвной гордости, в могиле безыменной
Пускай меня навек поглотит мрак вселенной,
Тебе я не продам моих блаженств и ран,
Я не хочу просить твоих свистков и вздохов,
Я не пойду плясать в открытый балаган
Среди твоих блудниц и буйных скоморохов.
ЛУИ МЕНАР.
Луи Менар (1822–1901). — Ученый, обладавший глубокими познаниями в искусстве, естественных науках, но прежде всего — в античной культуре и истории, Менар был близок с Леконт де Лилем и немало способствовал укреплению эллинистических интересов у парнасцев. Однако жизнь поэта, до конца дней исповедовавшего республиканские убеждения, не сводилась к кабинетному затворничеству. За цикл статей «Пролог революции», посвященный событиям 1848 года, Менар подвергся судебному преследованию и был вынужден эмигрировать в Англию. Там в 1855 году он и издал свой единственный поэтический сборник «Стихотворения». Ему принадлежат также поэма «Эвфорион», книга «Мистические мечтания язычника», где сонеты чередуются с прозаическими текстами, научные труды.
Сатира Менара «Адастрея» была под названием «Ямбы» перепечатана Марксом в «Обозрении Новой Рейнской газеты» (1850, № 4).
ЯМБЫ. Перевод В. Дмитриева.
Когда великий день, желанный, неизбежный,
День искупления придет
И революция лавиною мятежной
Сметет с лица земли преступный сброд, —
То все, кто заскулит тогда о снисхожденье, —
Ведь их самих те кары ждут, —
Кто мягок к палачам июльского сраженья,
Но отвергал наш правый суд,
Нам завопят тогда: «Нет, так не поступают!
Не кара, а прощенье им!»
Но пролитую кровь лишь кровью искупают,
А не раскаяньем одним!
Мы Немезиду ждем. Приди, богиня кары!
Весь мир возмездия взалкал.
Взгляни, как мы теперь и немощны и стары
Твой острый меч ферулой[309] стал…
А вы, философы, вы, жалкие фразеры,
Благоволящие сейчас
К убийцам, — не спасут тогда вас крючкотворы,
Убитых кровь падет на вас!
Не станем мы щадить! Мы вспомним братьев стопы,
Разлившееся море зла…
Пора, чтоб в ярый гнев, гнев праведный, законный,
Вся наша жалость перешла!
Мы вспомним дни резни, дни ужаса, печали.
Когда в предместьях вновь и вновь
На крик: «Мы голодны!» — картечью отвечали
И брызгала на стены кровь…
Насилья вспомним мы, когда под гнусный хохот
Боролись девушки, моля
Убить иль пощадить, когда хрипела похоть,
Тела бесстыдно оголя.
Мы вспомним, как в те дни казнили побежденных,
Обезоруженных людей…
Гремел за залпом залп… Меж тел нагроможденных
Кровавый побежал ручей.
Мы вспомним гордых дам: они рукоплескали,
Так восторгала их резня…
Когда же наконец, убийцы, вы устали,—
Ведь убивали вы три дня,—
Цветами вас они встречали, пьяных кровью,
Платочками махали вам
И лаврами чело венчали вам с любовью…
О, горе вашим матерям!
А за победою, за оргиею тою —
Доносов мерзких череда,
Вслед за убийствами разящих клеветою,
Судей холодная вражда,
Застенки тесные, где глухо в своды бились
Стенанья узников в ночи,
Где истязали их, над ранами глумились,
Тела топтали палачи…
О, как заслуженно безжалостное мщенье!
Когда оковы с рук спадут —
Июньским жертвам мы устроим погребенье:
Его давно герои ждут.
Придет и наш черед! Предателям смущенным
Придется на колени пасть.
Страшитесь, подлецы! И горе побежденным!
Куда девалась ваша власть?
В день правосудия не будет вам пощады!
Убийцы, мы заставим вас
Ту землю целовать, где были баррикады,
Где кровь святая пролилась.
Расправы, генерал[310], ты был слепым орудьем.
Так пусть терзают каждый день
Упреки совести тебя, подобны судьям,
Пусть гневно брата встанет тень![311]
Вы предали родных, солдаты-кровопийцы,
Народов вечные бичи,
Псы кровожадные, наемные убийцы,
Вы — и рабы, и палачи!
Прочь, о презренная и гнусная порода
Бесчестных, подлых торгашей,
В чьем золоте застыл соленый пот народа!
Вы нанимали палачей…
Бегите! Воздух вы отчизны осквернили!
Бегите прочь, покуда вновь
Народ не поднялся… Ужель вы позабыли,
Что только кровь смывает кровь?
О, если бы судьба, слепа, но величава,
Мне на единый день дала
Карающий свой меч и с ним — святое право
Воздать за черные дела!
Я мщение и грех одной бы мерил мерой —
Порой убийца цепи рвет,
И кара грозная становится химерой,
А жертва все отмщенья ждет…
На трупах я сочту следы всех ран жестоких
В день искупленья… Близок он.
Хотим мы зуб за зуб, хотим за око — око,
Таков возмездия закон.
Сторицей я воздам за муки и страданья
Всех неотмщенных мертвецов…
До нас доносятся немые их рыданья
Из глубины седых веков…
Приди, священное, великое возмездье!
Стенанье тех, кто не отмщен,
Извечной жалобой возносится к созвездьям,
Они услышат этот стоп!
И люди, чтоб закон, гласящий о расплате,
Никто из них не позабыл,—
Решили, что Христос, сам на кресте распятый,
Греховность неба искупил.
ТЕОДОР ДЕ БАНВИЛЬ.
Теодор де Банвиль (1823–1891). — За полвека своего литературного труда отдал дань и романтизму и «Парнасу»; его находки иной раз предвосхищали смену поэтических направлений. Это один из немногих лириков второй половины прошлого столетия, в стихах которого преобладают светлые, мирные настроения (что давало повод к упрекам в содержательной облегченности). Обладая сам поистине виртуозной техникой версификации, Банвиль написал «Маленький трактат о французской поэзии» (1872), где на первый план выдвигаются требования точности и полноты рифмы и музыкальности стиха. Среди поэтических сборников Банвиля — «Кариатиды» (1842), «Сталактиты» (1846), «Изгнанники» (1867) и наиболее известный — «Акробатические оды» (1857).
ПРЫЖОК С ТРАМПЛИНА. Перевод А. Арго.
Вот так бы он наверняка
Вошел в грядущие века,
Великолепный этот клоун:
С пятном румянца на щеке,
В своем трехцветном сюртуке —
Зеленом, желтом и лиловом!
Недаром, легок так и смел,
На целый мир он прогремел,—
Не зная, что такое мимо,
Он головою пробивал
Бумагой стянутый овал
И прыгал сквозь кольцо из дыма!
Он был настолько невесом,
Что покатился б колесом
По лестнице головоломной;
И засверкал бы и расцвел
Его взъерошенный хохол
Цветком огня средь ночи темной.
А остальные прыгуны,
Актерской зависти полны,
Следя за ним в тревоге смутной,
Не понимали ничего
И говорили: — Колдовство!
Не человек, а шарик ртутный! —
Толпа кричала: «Браво, бис!»,
А он, всем телом напрягшись,
Весь как пружина в ярком платье,
Он ждал наплыва новых сил
И про себя произносил
Слова какого-то заклятья.
Он обращался к своему
Трамплину, он шептал ему:
— Гляди, полны места и ниши,
Я разгоняюсь для прыжка,
А ты, заветная доска,
Меня взметни как можно выше!
Машина мускулов стальных,
Взметни меня — и в тот же миг
Взлечу я бешеной пантерой
С тем, чтоб с тобой утратить связь,
О респектабельная мразь
И спекулянты из партера!
Пошли мне силы для прыжка
До купола, до потолка,
Чтоб, устремившийся к вершинам,
К тем солнцам мог бы я прильнуть,
Что в небе скрещивают путь
С полетом молний и орлиным.
Туда, в грохочущий эфир,
Где дремлет вековечный мир
В ночи глухого мирозданья,
Где, бегом пьяные, века
Спят, опершись на облака,
С трудом переводя дыханье.
Вперед — и выше — и вперед —
Туда, за твердь, за небосвод,
Что кажется темницы сводом,
Туда, за грани высших сфер,
Где боги позабытых вер
Грозят забывшим их народам!
Все выше! И в конце концов —
Нет ни девчонок, ни дельцов,
Ни критиканского засилья!
И стены мира разошлись —
Мне только синь! Мне только высь!
Мне только крылья, крылья, крылья!
Так он промолвил — и резво
Он от помоста своего,
Пробивши купол многоцветный,
Взлетел — и сердце циркача
Вошло, любовью клокоча,
Туда, в простор междупланетный!
ЖОЗЕ-МАРИА ДЕ ЭРЕДИА.
Жозе-Мариа де Эредиа (1842–1905). — Младший друг Леконт де Лиля, свой единственный сборник стихов «Трофеи» он выпустил в свет в 1893 году, когда позади у него оставалось уже тридцать лет поэтической работы: так велика была его требовательность к себе. Сто восемнадцать сонетов книги объединены в циклы, посвященные разным векам и странам. Героями «Трофеев» часто оказываются не центральные фигуры истории, а лица второго плана или вовсе безвестные. Эредиа отбирает те моменты мифа и подлинного события, которые позволяют ему не только передать «дух эпохи», но и ощутить саму ее плоть в мелких и тем не менее исполненных смысла подробностях. В словесной живописи, в искусстве владения труднейшей формой сонета Эредиа достигает высокого мастерства.
АНТОНИЙ И КЛЕОПАТРА. Перевод И. Чежеговой.
С высоких стен дворца они вдвоем глядят:
Сменился душной мглой заката жар кровавый,
И режет дельту Нил волною мутно-ржавой,
В стремленье на Саис[312] не ведая преград.
И Римлянин забыл походы и солдат,
Без боя взятый в плен любовною отравой;
Он тело гибкое египтянки лукавой,
Ликуя, чувствует сквозь холод медных лат.
Пред ним ее лицо белеет в прядях темных
Надушенных волос, ее зрачков огромных
Завороженный блеск, застывший взлет бровей…
И видит Триумвир в темно-зеленом взоре
Продолговатых глаз — всю необъятность моря,
В их искрах — призраки бегущих кораблей[313].
PONTE VECCHIO[314]. Перевод М. Волошина.
[314].
Антонио ди Сандро[315], ювелиру.
Там мастер-ювелир работой долгих бдений,
По фону золота вправляя тонко сталь,
Концом своих кистей, омоченных в эмаль,
Выращивал цветы латинских изречений.
Там пели по утрам с церквей колокола,
Мелькали средь толпы епископ, воин, инок;
И солнце в небесах из синего стекла
Бросало нимб на лоб прекрасных флорентинок.
Там юный ученик, томимый грезой страстной,
Не в силах оторвать взгляд от руки прекрасной,
Замкнуть позабывал ревнивое кольцо.
А между тем иглой, отточенной, как жало,
Челлини молодой, склонив свое лицо,
Чеканил рукоять тяжелого кинжала.
FLORIDUM MARE[316]. Перевод М. Бронникова.
[316].
Разлившись по холмам, курчавый сенокос,
Волнуясь и шумя, стекает вниз со ската;
И профиль бороны схож с остовом фрегата,
В далекой синеве поднявшим черный нос.
Лиловый, розовый, то медь, то купорос,
То белый от валов, бегущих, как ягнята,
Громадный Океан, под пурпуром заката,
Лежит весь в зеленях, как луговой откос.
И чайки, следуя за мчащимся приливом,
На золотую зыбь, идущую по нивам,
Крутясь и радуясь, бросались с вышины;
А ветерок, дыша медвяным ароматом,
Рассеивал, летя, в беспамятстве крылатом
Воздушных бабочек по цветникам волны.
СМЕРТЬ ОРЛА. Перевод А. Оношкович-Яцына.
Орел, перелетев за снеговые кручи,
Уносится туда, где шире небосвод,
Где солнце горячей средь голубых высот,
Чтоб в мертвенных зрачках зажегся блеск колючий.
Он подымается. Он пьет огонь летучий.
Все выше мчит его торжественный полет,
Навстречу полымям, куда гроза влечет;
Но молния, разя, ударила сквозь тучи.
И, бурей уносим, разлитый пламень он
Глотает, кружится, и крик его смертелен,
Он в корчах падает в бездонный мрак расселин.
Блажен, кто вольностью иль славой увлечен,
В избытке гордых сил пьянея вдохновенно,
Так ослепительно умрет и так мгновенно!
ШАРЛЬ БОДЛЕР.
Шарль Бодлер (1821–1867). — Трагическая поэзия Бодлера, унаследовав классическую стройность французского стиха, запечатлела в строго совершенных строках неведомые прошлому сомнения и страсти и назвала впервые многое из того, что будет занимать литературу Запада вплоть до наших дней. В двух поэтических книгах Бодлера, «Цветах зла» (1857) и «Стихотворениях в прозе» (1869), высказаны до крайностей несхожие устремления и порывы: интерес ко всем, даже самым неприглядным и обыденным ликам жизни— и обожествление отрешенной от земной суетности Красоты, гордый вызов небесам — и покаяние в собственной греховности, мечты о бегстве из этого ненавистного мира — и пророчества о грозном гневе отверженных, бесстрашное погружение в глубочайшие бездны человеческой души — и благоговейный трепет перед ее возвышенной чистотой. Судьба поэта, весь его облик и суждения о нем — несмотря на безусловность его великой славы — столь же противоречивы, как его стихи. Кроме лирики, Бодлер оставил критические статьи, собранные уже после его смерти в книгу «Романтическое искусство» (1868), переводы (из. Э. По), несколько прозаических сочинений.
АЛЬБАТРОС. Перевод В. Левика.
Временами хандра заедает матросов,
И они ради праздной забавы тогда
Ловят птиц океана, больших альбатросов,
Провожающих в бурной дороге суда.
Грубо кинут на палубу, жертва насилья,
Опозоренный царь высоты голубой,
Опустив исполинские белые крылья,
Он, как весла, их тяжко влачит за собой.
Лишь недавно прекрасный, взвивавшийся к тучам,
Стал таким он бессильным, нелепым, смешным!
Тот дымит ему в клюв табачищем вонючим,
Тот, глумясь, ковыляет вприпрыжку за ним.
Так, поэт, ты паришь под грозой, в урагане,
Недоступный для стрел, непокорный судьбе,
Но ходить по земле среди свиста и брани
Исполинские крылья мешают тебе.
СООТВЕТСТВИЯ. Перевод В. Левика.
Природа — некий храм, где от живых колонн
Обрывки смутных фраз исходят временами.
Как в чаще символов, мы бродим в этом храме,
И взглядом родственным глядит на смертных он.
Подобно голосам на дальнем расстоянье,
Когда их стройный хор един, как тень и свет,
Перекликаются звук, запах, форма, цвет,
Глубокий, темный смысл обретшие в слиянье.
Есть запах чистоты. Он зелен, точно сад,
Как плоть ребенка, свеж, как зов свирели, нежен.
Другие — царственны, в них роскошь и разврат,
Для них границы нет, их зыбкий мир безбрежен,—
Так мускус и бензой, так нард и фимиам
Восторг ума и чувств дают изведать нам.
ЧЕЛОВЕК И МОРЕ. Перевод В. Шора.
Свободный человек, всегда ты к морю льнешь!
Оно — подобие твоей души бескрайной;
И разум твой влеком его безмерной тайной,—
Затем, что он и сам с морскою бездной схож.
Бесстрашно вновь и вновь ты повторяешь опыт,
Ныряешь в пропасти, наполненные мглой,
И радует тебя стихии дикий вой:
Он сердца твоего глушит немолчный ропот.
Секрет великий есть у каждого из вас:
Какой в пучине клад хранится небывалый
И что таят души угрюмые провалы —
Укрыто навсегда от любопытных глаз.
Но вам не развязать сурового заклятья:
Сражаться насмерть вам назначила судьба;
И вечный ваш союз есть вечная борьба.
О, близнецы-враги! О, яростные братья!
* * *
«В струении одежд мерцающих ее…». Перевод А. Эфрон.
В струении одежд мерцающих ее,
В скольжении шагов — тугое колебанье
Танцующей змеи, когда факир свое
Священное над ней бормочет заклинанье.
Бесстрастию песков и бирюзы пустынь
Она сродни — что им и люди, и страданья?
Бесчувственней, чем зыбь, чем океанов синь,
Она плывет из рук, холодное созданье.
Блеск редкостных камней в разрезе этих глаз.
И в странном, неживом и баснословном мире,
Где сфинкс и серафим сливаются в эфире,
Где излучают свет сталь, золото, алмаз,
Горит сквозь тьму времен ненужною звездою
Бесплодной женщины величье ледяное.
ИСКУПЛЕНИЕ. Перевод А. Ревича.
Беспечный ангел мой, гнетут ли вас печали,
Раскаянье и стыд, рыданье и тоска,
И ночь бессонная, и ужас, чья рука
Сжимает сердце вдруг? Такое вы встречали?
Беспечный ангел мой, гнетут ли вас печали?
Душевный ангел мой, гнетет ли вас досада,
Обида, гнев до слез, до сжатых кулаков,
И мстительный порыв, чей самовластный зов
На приступ нас влечет, в беспамятство раздора?
Душевный ангел мой, гнетет ли вас досада?
Цветущий ангел мой, гнетут ли вас недуги?
У госпитальных стен и у тюремных врат
Встречали вы бедняг, бредущих наугад
И под скупым лучом дрожащих, как в испуге?
Цветущий ангел мой, гнетут ли вас недуги?
Прекрасный ангел мой, гнетут ли вас морщины,
И призрак старости и затаенный страх
Прочесть сочувствие у ближнего в глазах,
Узреть, какую боль скрывают их глубины?
Прекрасный ангел мой, гнетут ли вас морщины?
Мой ангел радостный, мой светоносный гений!
Возжаждал царь Давид, почти окоченев[317],
Согреться на груди прекраснейшей из дев,
А я у вас прошу лишь благостных молений,
Мой ангел радостный, мой светоносный гений!
ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ. Перевод В. Левика.
1.
И вновь промозглый мрак овладевает нами, —
Где летней ясности живая синева?
Как мерзлая земля о гроб в могильной яме,
С подводы падая, стучат уже дрова.
Зима ведет в мой дом содружеством знакомым
Труд каторжанина, смятенье, страх, беду,
И станет сердце вновь застывшим красным комом,
Как солнце мертвое в арктическом аду.
Я слушаю, дрожа, как падают поленья, —
Так забивают гвоздь, готовя эшафот.
Мой дух шатается, как башня в миг паденья,
Когда в нее таран неутомимый бьет.
И в странном полусне я чувствую, что где-то
Сколачивают гроб — но где же? но кому?
Мы завтра зиму ждем, вчера скончалось лето,
И этот мерный стук — отходная ему.
ВЕСЁЛЫЙ МЕРТВЕЦ. Перевод В. Портнова.
В разрыхлённой улитками мягкой земле
Вырыть яму сподручнее, чем на погосте.
Пусть на дне успокоятся старые кости
И уснут, словно рыба в подводном тепле.
Ненавижу надгробья в кладбищенской тьме.
Не питаю к слезам ничего, кроме злости.
Лучше воронов чёрных зазвать к себе в гости.
Лучше биться в когтях, чем лежать на столе.
Червь безухий, безглазый и мрачный мудрец,
Принимай, появился весёлый мертвец.
Не стесняйся и ешь — я добыча твоя.
Я же плоть без души, я гнильё из гнилья.
Сын гниенья, ты учишь последней науке.
Неужели возможны здесь новые муки?
Я же плоть без души, я гнилье из гнилья!
СПЛИН. «Когда свинцовость туч…». Перевод И. Чежеговой.
Когда свинцовость туч нас окружает склепом,
Когда не в силах дух унынье превозмочь,
И мрачен горизонт, одетый черным крепом,
И день становится печальнее, чем ночь;
Когда весь мир вокруг, как затхлая темница,
В чьих стенах — робкая, с надломленным крылом,
Надежда, словно мышь летучая, кружится
И бьется головой в бессилии немом;
Когда опустит дождь сетчатое забрало,
Как тесный переплет решетчатых окон,
И словно сотни змей в мой мозг вонзают жало,
И высыхает мозг, их ядом поражен;
И вдруг колокола, взорвавшись в диком звоне,
Возносят к небесам заупокойный рев,
Как будто бы слились в протяжно-нудном стоне
Все души странников, утративших свой кров,—
Тогда в душе моей кладбищенские дроги
Безжалостно влекут надежд погибших рой,
И смертная тоска, встречая на пороге,
Вонзает черный стяг в склоненный череп мой.
ЖАЖДА НЕБЫТИЯ. Перевод В. Шора.
Когда-то, скорбный дух, пленялся ты борьбою,
Но больше острых шпор в твой не вонзает круп
Надежда. Что ж, ложись. Будь, как скотина, туп,
Не вскакивай, влеком вдаль боевой трубою.
Забудь себя, смирись. Так велено судьбою.
О дух сраженный мой, ты стал на чувства скуп:
Нет вкуса ни к любви, ни к спору, ни к разбою…
«Прощай», — ты говоришь литаврам и гобою;
Там, где пылал огонь, стоит лишь дыма клуб…
Весенний нежный мир уродлив стал и груб.
Тону во времени, его секунд крупою
Засыпан, заметен, как снегом хладный труп,
И безразлично мне, земля есть шар иль куб,
И все равно, какой идти теперь тропою.
Лавина, унеси меня скорей с собою!
ПРЕДРАССВЕТНЫЕ СУМЕРКИ. Перевод В. Левика.
Казармы сонные разбужены горнистом.
Под ветром фонари дрожат в рассвете мглистом.
Вот беспокойный час, когда подростки спят,
И сон струит в их кровь болезнетворный яд,
И в мутных сумерках мерцает лампа смутно,
Как воспаленный глаз, мигая поминутно,
И, телом скованный, придавленный к земле,
Изнемогает дух, как этот свет во мгле.
Мир, как лицо в слезах, что сушит ветр весенний,
Овеян трепетом бегущих в ночь видений.
Поэт устал писать и женщина — любить.
Вон поднялся дымок и вытянулся в нить.
Бледны, как труп, храпят продажной страсти жрицы,
Тяжелый сон налег на синие ресницы.
А нищета, дрожа, прикрыв нагую грудь,
Встает и силится скупой очаг раздуть,
И, в страхе пред нуждой, почуяв холод в теле,
Родильница кричит и корчится в постели.
Вдруг зарыдал петух и смолкнул в тот же миг,
Как будто в горле кровь остановила крик.
В сырой, белесой мгле дома, сливаясь, тонут,
В больницах сумрачных больные тихо стонут,
И вот предсмертный бред их муку захлестнул.
Разбит бессонницей, уходит спать разгул.
Дрожа от холода, заря влачит свой длинный
Зелено-красный плащ над Сеною пустынной,
И труженик Париж, подняв рабочий люд,
Зевнул, протер глаза и принялся за труд.
РАЗДУМЬЕ. Перевод М. Донского.
Будь мудрой, Скорбь моя, и подчинись Терпенью.
Ты ищешь Сумрака? Уж Вечер к нам идет.
Он город исподволь окутывает тенью,
Одним неся покой, другим — ярмо забот.
Пускай на рабский пир к тупому Наслажденью,
Гоним бичом страстей, плетется жалкий сброд,
Чтоб вслед за оргией предаться угрызенью…
Уйдем отсюда, Скорбь. Взгляни на небосвод:
Ты видишь — с высоты, скользя меж облаками,
Усопшие Года склоняются над нами;
Вот Сожаление, Надежд увядших дочь.
Нам Солнце, уходя, роняет луч прощальный…
Подруга, слышишь ли, как шествует к нам Ночь,
С востока волоча свой саван погребальный?
CONFITEOR[318]. Перевод Н. Стрижевской.
[318].
О, как прекрасен конец осенних дней! Мучительно-прекрасен! Он исполнен тех дивных ощущений, которым придает очарование их неопределенность, — нет недоступнее вершины, чем бесконечность.
Какое наслаждение погружать взгляд в бездонность небес и моря! Молчанье, одиночество, бескрайняя лазурь и маленький дрожащий парус на горизонте (такой же заброшенный и неприметный, как моя изломанная жизнь!), монотонная мелодия зыби — все мыслит моими мыслями, и моя мысль растворяется в них (ибо величием мечты вскоре стирается «Я»), все мыслит, но музыкально и живописно, бесхитростно, без силлогизмов и дедукции.
Но все же эти мысли так ощутимы для меня, что вскоре вслед за сладострастьем приходит томление и вслед за наслаждением — мука и дурнота.
Мои натянутые нервы болезненно трепещут, и теперь голубизна моря меня гнетет, а его прозрачность приводит в отчаянье. Бесчувственность моря, незыблемость этого зрелища выводит меня из себя. О, неужели надо вечно страдать или вечно бежать от прекрасного! Природа, безжалостная чаровница, вечный соперник и победитель, оставь меня! Не искушай мои стремления и гордыню! Постиженье прекрасного — это дуэль, где художник кричит от ужаса, прежде чем пасть побежденным.
У КАЖДОГО СВОЯ ХИМЕРА. Перевод А. Ревича.
Под серым необъятным небом, на пыльной необозримой раввине, где ни тропинки, ни травы, ни чертополоха, ни крапивы, мни повстречалась толпа бредущих куда-то вдаль согбенных странников.
И на спине каждый тащил огромную Химеру, увесистую, словно мешок муки или угля или словно ранец римского легионера.
Но совсем не казались мертвой ношей эти чудовищные твари; совсем нет: они вцеплялись в людей мощной хваткой, всей силой упругих мышц, они вонзали в грудь своих усталых кляч два громадных когтя; их причудливые рыла нависали над человеческими головами, подобно устрашающим гребням древних шлемов, которыми античные воины пугали врагов.
Я обратился к одному пилигриму, спросил, куда они идут. Он отвечал, что не знает, что это никому не известно, но, очевидно, они куда-нибудь идут, поскольку что-то заставляет их куда-то брести.
Что было странно: никто из этих пешеходов, казалось, даже не замечал чудовища, обхватившего шею, приросшего к спине; словно эта тварь была лишь частью человеческого тела. Я не заметил отчаяния на этих строгих, усталых лицах; путники брели под унылым куполом неба, их ноги утопали в пыли равнины, пустынной, как небосвод; они брели с покорным выражением лица, как все обреченные на вечную надежду.
Процессия тянулась, проходила рядом со мной, тонула в дымке горизонта, там, где закругляется поверхность земли и прячется от любопытных человеческих глаз.
Сперва еще я пытался понять, что означало это таинство, но вскоре на меня навалилось тупое равнодушье, и я ощутил тяжесть, какой не ощущали эти люди, таща на спине свои Химеры.
ПОЛЬ ВЕРЛЕН.
Поль Верлен (1844–1896). — Поэт требовал от поэзии умения схватывать тончайшие оттенки чувств и настроений, почти неуловимые приметы внешнего мира и добиваться этого без риторических ухищрений, самой музыкой стиха. Один из лучших его сборников так и называется — «Романсы без слов» (1874). Завораживающе мелодичные стихи Верлена порой прорезаны рыданием, в котором звучит смятение и боль всей его нескладной, исковерканной жизни, — жизни, где были мучительная близость и громкий разрыв с Рембо, годы тюрьмы, обращение к богу, попытки вернуться в лоно добропорядочного семейства, медленное угасание поэтического дара и под конец падение на самое дно парижской богемы. Лирика Верлена составила несколько книг; среди них «Сатурновские стихотворения» (1866), «Галантные празднества» (1870), «Мудрость» (1881), «Далекое и близкое» (1884).
МОЙ ДАВНИЙ СОН. Перевод А. Гелескула.
Я свыкся с этим сном, волнующим и странным,
В котором я люблю и знаю, что любим,
Но облик женщины порой неуловим —
И тот же и не тот, он словно за туманом.
И сердце смутное и чуткое к обманам
Во сне становится прозрачным и простым,—
Но для нее одной! — и стелется, как дым,
Прохлада слез ее над тягостным дурманом.
Темноволоса ли, светла она? Бог весть.
Не помню имени — но отзвуки в нем есть
Оплаканных имен на памятных могилах,
И взглядом статуи глядят ее глаза,
А в тихом голосе, в его оттенках милых,
Грустят умолкшие, родные голоса.
ЗАКАТЫ. Перевод В. Портнова.
Заря ослабевает,
И полевую даль
До края заливает
Закатная печаль.
И сердце остывает,
И ничего не жаль,
Чуть только запевает
Закатная печаль.
И странные виденья
Сквозят невдалеке,
Как розовые тени,
Что гаснут на песке,
Живут одно мгновенье,
Слетаются в тоске
И гаснут на песке,
Как розовые тени.
ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ. Перевод А. Гелескула.
Издалека
Льется тоска
Скрипки осенней
И, не дыша,
Стынет душа
В оцепененье.
Час прозвенит —
И леденит
Отзвук угрозы,
А помяну
В сердце весну —
Катятся слезы.
И до утра
Злые ветра
В жалобном вое
Кружат меня,
Словно гоня
С палой листвою.
СОЛОВЕЙ. Перевод А. Гелескула.
Тревожною стаей, слепой и шальной,
Крылатая память шумит надо мной
И бьется и мечется, бредя спасеньем,
Над желтой листвою, над сердцем осенним,
А сердце все смотрится в омут глухой,
Над Заводью жалоб горюя ольхой,
И крики, взмывая в тоскующем вихре,
В листве замирают — и вот уже стихли,
И только единственный голос родной,
Один на земле, говорит с тишиной —
То голосом милым былая утрата
Поет надо мною, как пела когда-то,
Поет надо мной — о, томительный звук! —
Печальная птица, певунья разлук;
И ночь под луной, ледяной и высокой,
Неслышно и грустно приходит с востока,
И, тронуть боясь этот синий покой,
Ночная прохлада воздушной рукой
Баюкает заводь и в сумраке прячет,
А листья все плещут и птица все плачет.
ГОСПОДИН ПРЮДОМ[319]. Перевод В. Шора.
[319].
Порядок любит он и слог высокопарный;
Делец и семьянин, весьма он трезв умом;
Крахмальный воротник сковал его ярмом,
Его лощеные штиблеты лучезарны.
Что небеса ему? Что солнца блеск янтарный,
Шафранный, золотой? Что над лесным прудом
Веселый щебет птиц? Ведь господин Прюдом
Обдумывает план серьезный и коварный:
Как в сети уловить для дочки женишка;
Есть тут один богач, уже не без брюшка,
Солидный человек, — не то что сброд отпетый
Стихослагателей, чей заунывный вой
Прюдома более допек, чем геморрой…
И шлют вокруг лучи лощеные штиблеты.
* * *
«В трактирах пьяный гул, на тротуарах грязь…». Перевод Бенедикта Лившица.
В трактирах пьяный гул, на тротуарах грязь,
В промозглом воздухе платанов голых вязь,
Скрипучий омнибус, чьи грузные колеса
Враждуют с кузовом, сидящим как-то косо
И в ночь вперяющим два тусклых фонаря,
Рабочие, гурьбой бредущие, куря
У полицейского под носом носогрейки,
Дырявых крыш капель, осклизлые скамейки,
Канавы, полные навозом через край,—
Вот какова она, моя дорога в рай!
* * *
«Это — желанье, томленье…». Перевод Э. Линецкой.
Это — желанье, томленье,
Страсти изнеможенье,
Шелест и шорох листов,
Ветра прикосновенье,
Это — в зеленом плетенье
Тоненький хор голосов.
Ломкие звуки навстречу
Шепчут, бормочут, лепечут,
Словно шумят камыши,
Глухо, просительно, нежно…
Так под волною прибрежной
Тихо шуршат голыши.
В поле, подернутом тьмою,
Это ведь наша с тобою,
Наша томится душа,
Старую песню заводит,
В жалобе робкой исходит,
Сумраком теплым дыша.
* * *
«И в сердце растрава…». Перевод Б. Пастернака.
Над городом тихо накрапывает дождь.
Артюр Рембо.
И в сердце растрава,
И дождик с утра.
Откуда бы, право,
Такая хандра?
О дождик желанный,
Твой шорох — предлог
Душе бесталанной
Всплакнуть под шумок.
Откуда ж кручина
И сердца вдовство?
Хандра без причины
И ни от чего.
Хандра ниоткуда,
Но та и хандра,
Когда не от худа
И не от добра.
* * *
«Средь необозримо…». Перевод Б. Пастернака.
Средь необозримо
Унылой равнины
Снежинки от глины
Едва отличимы.
То выглянет бледно
Под тусклой латунью,
То канет бесследно
Во мглу новолунье.
Обрывками дыма
Со стертою гранью
Деревья в тумане
Проносятся мимо.
То выглянет бледно
Под тусклой латунью,
То канет бесследно
Во мглу новолунье.
Худые вороны
И злые волчицы,
На что вам и льститься
Зимой разъяренной?
Средь необозримо
Унылой равнины
Снежинки от глины
Едва отличимы.
* * *
«О душа, что тоскуешь…». Перевод Э. Линецкой.
О душа, что тоскуешь,
И какой в этом толк?
И чего ты взыскуешь?
Вот он, высший твой долг,
Так чего ты взыскуешь?
Взгляд бессмысленно-туп,
Перекошена в муке
Щель искусанных губ…
Что ж ломаешь ты руки,
Ты, безвольный, как труп?
Или нет упованья,
Не обещан исход,
И бесцельны скитанья,
И неверен оплот —
Долгий опыт страданья?
Отгони этот сон,
Плач глухой и натужный,—
Солнцем день озарен,
Ждать нельзя и не нужно:
В небе алый трезвон,
И рукой беспощадной
Обличительный свет
Чертит хмурый, нескладный
Теневой силуэт,
Необъятно-громадный —
Долг, твой долг. Он зовет,
И не надо бояться.
Ближе, ближе — и вот
Очертанья смягчатся,
Чернота пропадет.
Он тайник озарений,
Страж любови твоей,
Твой спасительный гений —
Нет опоры верней,
Нет сокровищ бесценней.
И яснее черты,
И безмерней блаженство,
Больше нет черноты,
Только мир, совершенство
И забвенье тщеты.
И забвенье тщеты.
* * *
«Ложится на дни…». Перевод Валентины Дынник.
Ложится на дни
Сон черною тенью.
Надежда, усни!
Усните, стремленья!
Поблекла давно
За краскою краска.
Душе — все равно…
О, грустная сказка!
И я — колыбель,
Колышуся в нише
Под скрипы петель…
Так тише же, тише!
* * *
«Над кровлей синеву простер…». Перевод А. Ревича.
Над кровлей синеву простер
Простор небесный!
Листву над кровлей распростер
Навес древесный.
Воскресный звон плывет в простор,
Он льется, длится.
С ветвей свою мольбу в простор
Возносит птица.
О, господи, какой покой,
Какой бездонный!
Доносит город в мой покой
Свой говор сонный.
Что ты наделал! Что с тобой?
Ты с горя спятил?
Скажи, что сделал ты с собой?
Как жизнь растратил?
КАЛЕЙДОСКОП. Перевод А. Ревича.
Эта улица, город — как в призрачном сне,
Это будет, а может быть, все это было:
В смутный миг все так явственно вдруг проступило…
Это солнце в туманной всплыло пелене.
Это голос в лесу, это крик в океане.
Это будет, — причину нелепо искать,—
Пробужденье, рожденье опять и опять.
Все как было, и только отчетливей грани:
Эта улица, город — из давней мечты,
Где шарманщики мелют мелодии танцев,
Где пиликают скрипки в руках оборванцев,
Где на стойках пивнушек мурлычут коты.
Это будет, как смерть, неизбежно: и снова
Будут щеки в потеках от сладостных слез,
Будет хохот рыдающий, грохот колес,
К новой смерти призывы, где каждое слово
Так старо и мертво, как засохший цветок.
Будет праздничный гомон народных гуляний,
Вдовы, медные трубы, крестьянки, крестьяне,
Толчея, городской разноликий поток,
Шлюхи, следом юнцы, в пух и прах разодеты,
И плешивые старцы, и всяческий сброд.
Будут плыть над землею пары нечистот,
И взмывать карнавальные будут ракеты.
Это будет, как только что прерванный сон,
И опять сновиденья, виденья, миражи,
Декорация та же, феерия та же,
Лето, зелень и роя пчелиного звон.
* * *
«Я всего натерпелся, поверь!..». Перевод В. Парнаха.
Я всего натерпелся, поверь!
Как затравленный, загнанный зверь,
Рыскать в поисках крова и мира
Больше я, наконец, не могу
И один, задыхаясь, бегу
Под ударами целого мира.
Зависть, Ненависть, Деньги, Нужда —
Неотступных ищеек вражда —
Окружает, теснит меня; стерла
Дни и месяцы, дни и года
Эта мука. Обед мой — беда,
Ужин — ужас, и сыт я по горло!
Но средь ужаса гулких лесов
Вот и Гончая злей этих псов,
Это Смерть! О, проклятая сука!
Я смертельно устал; и на грудь
Смерть мне лапу кладет, — не вздохнуть,
Смерть грызет меня, — смертная мука.
И, терзаясь, шатаясь в бреду,
Окровавленный, еле бреду
К целомудренной чаше и влаге.
Так спасите от псов, от людей,
Дайте мне умереть поскорей,
Волки, братья, родные бродяги!
АНАТОЛЬ ФРАНС.
Анатоль Франс (настоящее имя — Анатоль-Франсуа Тибо, 1844–1924). — В начале своего писательского пути всерьез занимался стихотворством. Склонность к «объективной поэзии» (так называлась несохранившаяся программная статья Франса 1874 г.) роднила его с «парнасцами», и в литературной борьбе он был их верным сторонником. В стихах Франса, составивших посвященный Леконт де Лилю сборник «Золотые поэмы» (1873), природа, со всем жестоким и страшным, что она в себе таит, подчинена разумным и справедливым законам; в людях, животных и растениях бьется вечная, не прерывающаяся гибелью одного существа жизнь. Дорогая «Парнасу» тема античности в поэтическом творчестве Франса представлена драматической поэмой «Коринфская свадьба» (1876), трактующей тот же сюжет, что и «Коринфская невеста» Гете. (Подробнее о творчестве Анатоля Франса см. в томе БВЛ «Анатоль Франс. Преступление Сильвестра Боннара. Остров пингвинов. Боги жаждут»).
ОЛЕНИ. Перевод Валентины Дынник.
В тумане утреннем, средь пожелтелой чащи,
Где ветер жалобный шуршит листвой дрожащей,
Сражаются в кустах олени — два врага.
Всю ночь, с тех самых пор как тягою могучей
Обоих повлекло за самкою пахучей,
Стучат соперников ветвистые рога.
В рассветной мгле, дымясь, они одной тропою,
Чтоб горло освежить, спустились к водопою,—
Потом еще страшней был новый их прыжок.
Под треск кустарника, с хрустеньем града схожий,
В изнеможении под увлажненной кожей
Играют мускулы их сухопарых ног.
А в стороне стоит спокойно, в гладкой шубке,
Лань с беленьким брюшком, и молодые зубки
Кусают дерево. Отсюда двух бойцов
Ей слышно тяжкое, свирепое храпенье,
И ноздри тонкие в горячем дуновенье
Учуяли, дрожа, пьянящий пот самцов.
И, наконец, один, для схватки разъяренной
Самой природою слабей вооруженный,
В кровавой пене пал на вспоротый живот.
С губы слизнул он кровь. Тускнеет взор лучистый.
Все тише дышит он: то на заре росистой
Успокоенье смерть уже ему несет.
И, перед будущим сомнения не зная,
Рассеялась в ветвях душа его лесная.
Жизнь беспредельная раскрылась перед ним.
Он все вернул земле — цветам, ручьям студеным,
И елям, и дубам, и ветрам благовонным,
Тем, кто вскормил его и кем он был храним.
Средь зарослей лесных извечны эти войны,
Но не должны они смущать нам взор спокойный:
Природы сын, олень родился и исчез.
Душа дремотная в лесной своей отчизне
За годы мирные вкусила сладость жизни,—
И душу тихую в молчанье принял лес.
В священных тех лесах безбурно дней теченье,
Не знает страха жизнь, а смерть — одно мгновенье.
В победе, в гибели — единый есть закон:
Когда другой олень, трубя кровавой мордой,
Уходит с самкою, покорною и гордой,—
Божественную цель осуществляет он.
Всесильная любовь, могучее желанье,
Чьей волей без конца творится мирозданье!
Вся жизнь грядущая исходит от тебя.
В твоей борьбе, любовь, жестокой и ужасной,
Мир обновляется, все более прекрасный,
Чтоб в мысли завершать и постигать себя.
ЖАН-БАТИСТ КЛЕМАН.
Жан-Батист Клеман (1836–1903). — Прежде чем стать поэтом-песенником, испробовал множество рабочих профессий. Активный участник Парижской Коммуны, после ее разгрома он был вынужден покинуть Францию и почти десять лет провести в эмиграции. Вернувшись на родину, Клеман продолжал работать в социалистическом движении. Всегда злободневные и доходчивые, песни Клемана 60-х годов разнообразны по настроению и близки к традициям фольклора; после гибели Коммуны его поэзия становится суровее, сосредоточиваясь почти исключительно на политических мотивах.
ВРЕМЯ ВИШЕН. Перевод М. Ваксмахера.
Отважной гражданке Луизе[320], которая была санитаркой на улице Фонтен-о-Руа в воскресенье, 28 мая 1871 года.
Когда в садах настанет время вишен —
Веселый соловей и пересмешник-дрозд
Зальются трелью звонкой
Над захмелевшей от любви девчонкой
И парень воспарит душой до звезд.
Когда в садах настанет время вишен,
Засвищет звонко пересмешник-дрозд.
Но, словно миг, промчится время вишен,
Когда вы с ней бредете, как во сне,
По саду, а над вами
Пылают вишни алыми серьгами
И вы их рвете в чуткой тишине.
Ах, словно миг, промчится время вишен,
Кораллов сладких, сорванных во сне.
Когда опять настанет время вишен,
Спасайтесь от любовного огня,
Бегите от девчонок!
Не слушал я друзей своих ученых,
И вот тоска преследует меня.
Когда опять настанет время вишен,
Бегите от коварного огня.
Но я люблю, как прежде, время вишен.
Хоть непрестанно с давней той поры
Исходит сердце болью,
Я берегу с признательной любовью
Судьбы благословенные дары.
Да, я люблю, как прежде, время вишен,
Мила мне память давней той поры.
ЭЖЕН ПОТЬЕ.
Эжен Потье (1816–1887). — История жизни автора «Интернационала» тесно связана с историей революционной борьбы трудящихся по Франции и за ее рубежами. Он сражался на баррикадах 1848 года, весной 1871 года был избран членом Парижской Коммуны, после ее падения, приговоренный заочно к смертной казни, скрывался за границей (несколько лег он провел в США, где продолжал заниматься революционной деятельностью); вернувшись в 1880 году во Францию, невзирая на тяжелую болезнь, активно сотрудничал с Рабочей партией Геда и Лафарга.
Потье работал в различных жанрах: ему принадлежат несколько поэм — «Парижская Коммуна» (1876), «The Workingmen of America to the Workingmen of France» («Рабочие Америки к рабочим Франции», 1876), сонеты; но высшим достижением его поэзии остаются песни. «Он был одним из самых великих пропагандистов посредством песни», писал В. И. Ленин в статье, посвященной Э. Потье (Полн. собр. соч., т. 22, с. 274).
ИНТЕРНАЦИОНАЛ. Перевод А. Коца.
Гражданину Гюставу Лефрансе[321], члену Коммуны.
Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилья мы разроем
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем!
Это есть наш последний
И решительный бой.
С Интернационалом
Воспрянет род людской.
Никто не даст нам избавленья,
Ни бог, ни царь и не герой:
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
Чтоб свергнуть гнет рукой умелой,
Отвоевать свое добро,—
Вздувайте горн и куйте смело,
Пока железо горячо!
Это есть наш последний
И решительный бой.
С Интернационалом
Воспрянет род людской.
Довольно кровь сосать, вампиры,
Тюрьмой, налогом, нищетой!
У вас — вся власть, все блага мира,
А наше право — звук пустой!
Мы жизнь построим по-иному —
И вот наш лозунг боевой:
Вся власть — народу трудовому,
А дармоедов всех долой!
Это есть наш последний
И решительный бой.
С Интернационалом
Воспрянет род людской.
Презренны вы в своем богатстве,
Угля и стали короли!
Вы ваши троны, тунеядцы,
На наших спинах возвели.
Заводы, фабрики, палаты —
Все нашим создано трудом.
Пора! Мы требуем возврата
Того, что взято грабежом.
Это есть наш последний
И решительный бой.
С Интернационалом
Воспрянет род людской.
Довольно, королям в угоду,
Дурманить нас в чаду войны!
Война тиранам! Мир народу!
Бастуйте, армии сыны!
Когда ж тираны нас заставят
В бою геройски пасть за них,—
Убийцы, в вас тогда направим
Мы жерла пушек боевых!
Это есть наш последний
И решительный бой.
С Интернационалом
Воспрянет род людской.
Лишь мы, работники всемирной
Великой армии труда,
Владеть землей имеем право,
Но паразиты — никогда!
И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей,
Для нас все так же солнце станет
Сиять огнем своих лучей.
Это есть наш последний
И решительный бой.
С Интернационалом
Воспрянет род людской.
Париж, Июнь 1871 Г.
ИНСУРГЕНТ. Перевод А. Гатова.
На бой с жестокой нищетой,
На бой с неволей вековой
Идя вперед,
Он, инсургент, ружье берет.
Он — инсургент, он — Человек.
Он от ярма ушел навек.
Он только разуму покорен.
И, солнцем знанья озарен,
Алеет ясный небосклон,
И мир пред ним лежит просторен.
Смельчак, защитник баррикад,
С товарищем шутить он рад,
В его глазах отваги пламя,
Которое всех звезд светлей.
Сияет в них огонь идей,
В них отразилось наше знамя.
Он в дни Коммуны рвался в бой,
Дабы земля была одной,
Единой. Было бы не просто ль?
Природа — общий капитал.
Всем человек бы обладал,
Всем по потребностям и вдосталь.
Он спину выпрямит в борьбе,
Машины он возьмет себе:
Паровики, станки в движенье.
А ведь хозяина рука
Творит из каждого станка
Орудие для угнетенья.
Он социальную ведет
Войну — с богатыми расчет;
И этот бой не прекратится,
Пока не всем земля как мать:
Рабочий должен голодать,
Богач-бездельник веселиться.
Буржуазии ренту в пасть
Он не желает больше класть,—
Мильярды вековечной дани.
Так было прежде, так сейчас:
Сдирают по три шкуры с вас,
Шахтеры, грузчики, крестьяне!
Скорбь нашей матери-земли
Ему понятна. Мы в пыли,
Ярмом придавленные, ропщем.
Бороться будет он, пока
Земля из круглого соска
Всех не накормит благом общим.
На бой с жестокой нищетой,
На бой с неволей вековой
Идя вперед,
Он, инсургент, ружье берет.
Париж, 1884 Г.
По Возвращении Из Изгнания.
ЛОТРЕАМОН.
Лотреамон (настоящее имя — Изидор Дюкас, 1846–1870). — Биографические сведения о загадочном юноше, избравшем для себя звучный псевдоним «граф де Лотреамон», крайне скудны. Сын сотрудника французского консульства в Монтевидео, он в четырнадцать лет переехал во Францию, после окончания лицея поселился в Париже, издал два своих сочинения — «Песни Мальдорора» (1868–1869) и «Стихотворения. Предисловие к будущей книге» (1870) — и умер при невыясненных обстоятельствах.
Шесть «Песен Мальдорора», лирических поэм в прозе, скреплены сюжетом, напоминающим «романы ужасов». Здесь лихорадочно громоздятся фантасмагорические видения, картины неслыханных злодейств и душераздирающего отчаяния, неожиданно сопрягаются самые далекие образы, пародия и фарс сталкиваются с патетической декламацией. Романтическое своеволие, получившее в этой книге свое предельно эпатирующее выражение, в другом тексте Лотреамона, «Стихотворениях», встречает столь же яростную и до парадокса последовательную отповедь.
Современники просто не заметили Лотреамона; но спустя полвека искания писателей-сюрреалистов сделали его имя, наряду с Рембо, одним из самых актуальных для новейшей французской поэзии.
ПЕСНИ МАЛЬДОРОРА. (Фрагмент). Перевод П. Стрижевской.
Седой океан, твои хрустальные волны — точно разводы лазури на спинах избитых юнг; ты огромный синяк на теле земли: я люблю это сравнение. Стоит тебе исторгнуть долгий печальный вздох, принимаемый за легкий трепет бриза, — и остается глубокий след в потрясенной нашей душе, а своих возлюбленных ты возвращаешь невольно к памяти о жестокой заре человека, когда он познаёт боль, которая с тех пор его не покидает… Приветствую тебя, седой океан!
Седой океан, твоя сферическая гармония, оживляющая суровый лик геометрии, — с какой силой она мне напоминает о том, как ничтожно малы глаза человека, невзрачные, словно кабаньи глазки, и совершенно круглые, как глаза ночных птиц. Между тем человек во все времена считал себя прекрасным, я же полагаю, что он уверовал в свою красоту только из самолюбия и что на самом деле он безобразен и подозревает это, иначе почему с таким отвращением он смотрит в лицо себе подобным?.. Приветствую тебя, седой океан!
Седой океан, ты символ тождества, ибо ты равен самому себе. Сущность твоя никогда не меняется, и если здесь твои волны бушуют, то где-то на дальних широтах — мертвая зыбь. Тебя не сравнишь с человеком, который останавливается посреди улицы поглазеть на схватку бульдогов, но не остановится, когда мимо движется похоронный кортеж; который утром в добром, а вечером в дурном расположении духа; сегодня смеется, а завтра в слезах… Приветствую тебя, седой океан!
Седой океан, вполне вероятно, что ты таишь в своем лоне грядущую пользу для человека. Ты уже подарил ему кита, но не позволяешь алчному взгляду естествознания проникнуть в святая святых твоего строения: ты скромен. А человек непрестанно хвастает — и все по пустякам… Приветствую тебя, седой океан!
Седой океан, бесчисленные разновидности рыб, вскормленных твоей глубью, не докучают друг другу клятвами в братской любви, живут на свой лад. В различии их нравов и строения тел — объяснение тому, что на первый взгляд может показаться уродством. А вот у человека нет подобных оправданий. На клочке земли теснятся тридцать миллионов существ, полагающих, что им не следует вмешиваться в жизнь соседей, которые, словно корни, вросли в смежный клочок земли. Каждый, от мала до велика, забьется, словно дикарь, в свое логово и лишь изредка выберется наружу, чтобы проведать ближнего, ютящегося в точно таком же логове. Не нужно большого ума, чтобы понять, что единая семья человечества — это утопия. Кроме того, вид твоей жизнетворной груди заставляет невольно задуматься о неблагодарности — ибо сразу вспоминаешь о родителях, полных столь черной неблагодарности к Творцу, что они бросают на произвол судьбы плод своего несчастного союза… Приветствую тебя, седой океан!
Седой океан, всю необъятность твоей массы можно постигнуть, лишь представив себе, какая нужна была мощь, чтобы породить твое огромное тело. Тебя невозможно охватить одним взглядом. Чтобы созерцать тебя, взгляд должен, как телескоп, поворачиваться поочередно ко всем сторонам горизонта; так математик, решая алгебраическое уравнение, должен сперва по отдельности рассмотреть все возможные случаи. Человек поглощает пищу и тратит силы, достойные лучшего применения, чтобы выглядеть толстым. Пусть она раздувается сколько угодно, эта прелестная лягушка, будь спокоен, ей никогда не сравняться с тобой, так, во всяком случае, мне кажется… Приветствую тебя, седой океан!
Седой океан, твои воды горьки, — так горчит желчь, изливаемая критикой на искусство, на науку — на все. Гения выдают за идиота, стройный слывет горбуном. Насколько же ясно человек должен осознавать свое ничтожество (которым он на три четверти обязан самому себе), чтоб так себя бичевать!.. Приветствую тебя, седой океан!
Седой океан, несмотря на все совершенство их методов, на все ухищрения их наук, люди до сих пор не смогли измерить головокружительную глубину твоих бездн, самые длинные, самые тяжелые лоты оказались бессильны: только рыбам это доступно — не человеку. Часто я думал: что же легче познать — глубину океана или глубину человеческого сердца? Сколько раз, на борту корабля, когда луна неровно качалась между мачтами, я, забыв обо всем на свете, тер виски и ловил себя на том, что пытаюсь ответить на этот вопрос. Что бездоннее, что непроницаемее — океан или человеческое сердце? Если тридцать лет житейского опыта могут хоть как-то склонить в ту или другую сторону чашу весов, да будет мне позволено сказать: какой бы ни была таинственная глубина океана, ее нельзя сравнить с человеческим сердцем. Мне доводилось общаться с добродетельными людьми. Оли умирали в шестьдесят, и про них говорили: «Да, они творили добро на земле, они были милосердны, вот и всё, это так просто, что всякий может последовать их примеру…» Но кто поймет, почему двое влюбленных, еще вчера боготворивших друг друга, сегодня из-за одной превратно понятой фразы расходятся, терзаемые уколами ненависти, мести, любви и угрызений, бредут один на восток, а другой на запад и не встречаются больше, замкнувшись в своей одинокой гордыне? Каждый день поражаешься этому чуду, но от этого оно не становится менее поразительным. Кто поймет, почему мы смакуем не только большие несчастья себе подобных, но и мелкие неприятности своих самых близких друзей, хотя одновременно они нас и огорчают? Прекрасный пример, чтобы подвести черту: человек лицемерно говорит «да», а думает «нет». Не потому ли только молодняк человечьего стада доверяет друг другу и не эгоистичен. Психологии предстоит еще немало потрудиться… Приветствую тебя, седой океан!
Седой океан, ты так могуществен, что люди познали это на своем горьком опыте. Тщетно напрягали они все силы и способности, — невозможно справиться с тобой. Они лишь обрели властелина. Конечно, ведь они столкнулись с чем-то более сильным. Имя ему: океан. Ты внушаешь им ужас, и они уважают тебя. Как грациозно, легко и изящно пляшут по твоей прихоти их самые тяжелые корабли! Ты заставляешь их взлетать до небес и нырять в бездны твоих владений, на зависть любому акробату. Пусть считают, что им повезло, те из них, кого ты не похоронил в своих клокочущих складках и не отправил на дно, в недра вод, без помощи рельсов и шпал узнать о самочувствии рыб, а заодно — разобраться в своем собственном самочувствии. Человек твердит: «Я умнее, чем океан». Возможно. Даже наверняка так и есть. Но океан для него опаснее, чем он для океана, вряд ли нужно доказывать это. Океан, седой патриарх, наблюдатель, переживший детство нашего шаткого шара, улыбается, с жалостью взирает на морские битвы народов. Вот они, сотни левиафанов, выпестованных рукой человека. Напыщенные приказы военачальников, крики раненых, грохот пушек, и весь этот шум ради мгновенного уничтожения. Похоже на то, что драма завершена и океан все вобрал в свое чрево. Огромна его глотка, расширенная книзу, а там — неизвестность. И в довершение этой жалкой, отнюдь не занимательной комедии в вышине пролетает отставший от стаи аист и кличет: «Ну и ну, это ни на что не похоже, только что внизу были темные точки, моргнул — и их нет…» Приветствую тебя, седой океан!
Седой океан, великий холостяк, когда в торжественном одиночестве ты обозреваешь пределы своих бесстрастных владений, ты вправе гордиться своим великолепием и той непритворной хвалой, которую я тебе воздаю. Сладострастно окутанный ленивой влагой испарений, с величавой медлительностью (и это, пожалуй, самый царственный из всех признаков власти), овеянный сумраком тайны, ты катишь на темном просторе свои тяжелые волны, исполненный вечного сознания исполинской силы. Они встают параллельно, гряда за грядой. Едва опадает одна, как другая идет ей навстречу в печальном кипении пены и тает, чтоб убедить нас, что все — только пена. (Так и люди, эти живые волны, умирают один за другим, в томительном однообразии, и не слышно даже шороха пены.) Перелетная птица отдыхает доверчиво на гребнях волны, отдаваясь плавным и горделивым взлетам, пока в костях ее крыльев не родится привычная сила для воздушного странствия. Я бы хотел, чтобы величие человека воплотило в себе хотя бы отблеск твоего величия. Я требую многого, — но ведь это — во славу твою. Высота твоего духа — прообраз бесконечности, он прекрасен, как мысль философа, как любовь женщины, как божественная красота птицы, как прозренье поэта… А сам ты прекраснее ночи. Ответь, океан, ты хочешь быть моим братом? Бушуй же, бушуй… Так, еще яростней, если хочешь, чтоб я сравнил тебя с гневом господним. Выпусти мертвенно-синие когти, процарапай дорогу в своем собственном лоне… Разве это не чудо! Вздымай свои мрачные волны, мерзкий океан, понятный лишь мне одному, я простираюсь ниц пред тобой. Величие людей вторично, оно не внушает мне трепета, но ты!.. Ты меня завораживаешь. Когда ты несешь высокий и грозный вал, окруженный свитой извилистых складок, буйный и жуткий вал, когда катишь перед собой гряды волн, сознавая свое предназначенье, а в твоей глубинной груди, словно раздираемой неведомыми мне угрызениями, нарастает вечный рокот, которого люди страшатся даже в укрытии на берегу, — в эту пору я вижу, что не могу считаться ровней тебе. Поэтому, смирившись с твоим превосходством, я бы отдал тебе всю мою любовь (никто не ведает всей меры любви, таящейся в моем стремлении к прекрасному), если бы ты не вызывал во мне мучительных мыслей о моих братьях, являющих жалкую противоположность тебе, наталкивающих на самые шутовские сравнения, — и я не в силах тебя любить, я тебя ненавижу. Зачем же в тысячный раз я спешу к тебе, к твоим объятьям, которые дружески раскрываются мне навстречу, охлаждая мой пылающий лоб? Мне неведомо твое тайное предназначенье, но все, что связано с тобой, меня привлекает. Скажи, не ты ли обиталище князя тьмы? Скажи, скажи мне это, океан (мне одному, чтобы не расстраивать тех, кто до сих пор живет одними иллюзиями), не дыхание ли Сатаны вызывает бури и вздымает твои соленые воды до облаков? Ты должен мне ответить, — я возрадуюсь, узнав, что ад так близко от человека. Я хочу, чтобы это стало последней строфой моего гимна. И здесь я еще раз приветствую тебя и, прощаясь, низко кланяюсь тебе в пояс, седой океан с хрустальными волнами. На глаза набегают слезы, и я не в силах продолжать, потому что я чувствую — настало время вернуться к людям, к их грубым обличьям… Смелее! Соберемся с силами и свершим, исполняя свой долг, наш путь на этой земле… Приветствую тебя, седой океан!
АРТЮР РЕМБО.
Артюр Рембо (1854–1891). — К девятнадцати годам отчаявшись в дерзких замыслах преобразить саму сущность поэзии, а с нею и всю неприемлемую, «ненастоящую» жизнь, Рембо навсегда отказался от литературы, покинул Европу и занялся торговлей в пустынях Африки. Вернуться во Францию его заставила только смертельная болезнь.
Неукротимая мятежность сказалась уже в первых стихах Рембо, написанных почти подростком; таковы и несколько пьес, посвященных Парижской Коммуне. Гнев, презрение, сострадание, нежность обретают у него напряженность почти экстатическую. Стремление передать в стихе не постигаемое логикой, доступное лишь «ясновидению», особенно настойчиво в «Последних стихотворениях» (1872) и цикле стихотворений в прозе «Озарения» (1872–1873). Трагическая книга «Сквозь ад» (1873) рассказывает об этом опыте и его крахе; но поэтический эксперимент Рембо оказался необходим для всего дальнейшего пути французской лирики. В XX веке во французской словесности сложился подлинный культ Рембо.
ЗЛО. Перевод М. Яснова.
Пока над головой свистят плевки картечи,
Окрашивая синь кровавою слюной,
И, сотни тысяч тел сжигая и калеча,
Злорадный властелин полет бросает в бой;
Пока скрежещет сталь, сводя с ума бегущих,
И грудою парной растет в полях зола,—
Бедняги мертвецы! В твоих, природа, кущах!
Зачем же ты людей так свято создала? —
В то время бог, смеясь и глядя на узоры
Покровов, алтарей, на блеск тяжелых чаш,
Успев сто раз на дню уснуть под «Отче наш»,
Проснется, ощутив тоскующие взоры
Скорбящих матерей: они пришли, — и что ж? —
Он с жадностью глядит на их последний грош.
РУКИ ЖАН-МАРИ. Перевод П. Антокольского.
Ладони этих рук простертых
Дубил тяжелый летний зной.
Они бледны, как руки мертвых,
Они сквозят голубизной.
В какой дремоте вожделений,
В каких лучах какой луны
Они привыкли к вялой лени,
К стоячим водам тишины?
В заливе с промыслом жемчужным,
На грязной фабрике сигар
Иль на чужом базаре южном
Покрыл их варварский загар?
Иль у горячих ног мадонны
Их золотой завял цветок,
Иль это черной беладонны
Струится в них безумный сок?
Или, подобно шелкопрядам,
Сучили синий блеск они,
Иль к склянке с потаенным ядом
Склонялись в мертвенной тени?
Какой же бред околдовал их,
Какая льстила им мечта
О дальних странах небывалых
У азиатского хребта?
Нет, не на рынке апельсинном,
Не смуглые у ног божеств,
Не полоща в затоне синем
Пеленки крохотных существ;
Не у поденщицы сутулой
Такая жаркая ладонь,
Когда ей щеки жжет и скулы
Костра смолистого огонь.
Мизинцем ближнего не тронув,
Они крошат любой утес,
Они сильнее першеронов,
Жесточе поршней и колес.
Как в горнах красное железо,
Сверкает их нагая плоть
И запевает «Марсельезу»
И никогда — «Спаси, господь».
Они еще свернут вам шею,
Богачки злобные, когда,
Румянясь, пудрясь, хорошея,
Вы засмеетесь без стыда!
Сиянье этих рук влюбленных
Мальчишкам голову кружит.
Под кожей пальцев опаленных
Огонь рубиновый бежит.
Обуглив их у топок чадных,
Голодный люд их создавал.
Грязь этих пальцев беспощадных
Мятеж недавно целовал.
Безжалостное солнце мая[323]
Заставило их побледнеть,
Когда, восстанье поднимая,
Запела пушечная медь.
О, как мы к ним прижали губы,
Как трепетали дрожью их!
И вот их сковывает грубо
Кольцо наручников стальных.
И, вздрогнув, словно от удара,
Внезапно видит человек,
Что, не смывая с них загара,
Он окровавил их навек.
ПЬЯНЫЙ КОРАБЛЬ. Перевод Д. Бродского.
Те, что мной управляли, попали впросак:
Их индейская меткость избрала мишенью,
Той порою как я, без нужды в парусах,
Уходил, подчиняясь речному теченью.
Вслед за тем, как дала мне понять тишина,
Что уже экипажа не существовало,
Я, голландец, под грузом шелков и зерна
В океан был отброшен порывами шквала.
С быстротою планеты, возникшей едва,
То ныряя на дно, то над бездной воспрянув,
Я летел, обгоняя полуострова,
По спиралям сменяющихся ураганов.
Черт возьми! Это было триумфом погонь!
Девять суток — как девять кругов преисподней!
Я бы руганью встретил маячный огонь,
Если б он просиял мне во имя господне!
И как детям вкуснее всего в их года
Говорит кислота созревающих яблок,
В мой расшатанный трюм прососалась вода,
Руль со скрепов сорвав, заржавелых и дряблых.
С той поры я не чувствовал больше ветров —
Я всецело ушел, окунувшись, назло им,
В композицию великолепнейших строф,
Отдающих озоном и звездным настоем.
И вначале была мне поверхность видна,
Где утопленник — набожно подняты брови —
Меж блевотины, желчи и пленок вина
Проплывал, — иногда с ватерлинией вровень,
Где сливались, дробились, меняли места
Первозданные ритмы, где в толще прибоя
Ослепительные раздавались цвета,
Пробегая, как пальцы вдоль скважин гобоя.
Я знавал небеса гальванической мглы,
Случку моря и туч и бурунов кипенье,
И я слушал, как солнцу возносит хвалы
Растревоженных зорь среброкрылое пенье.
На закате, завидевши солнце вблизи,
Я все пятна на нем сосчитал. Позавидуй!
Я сквозь волны, дрожавшие, как жалюзи,
Любовался прославленною Атлантидой.
С наступлением ночи, когда темнота
Становилась торжественнее и священней,
Я вникал в разбивавшиеся о борта
Предсказанья зеленых и желтых свечений.
Я следил, как с утесов, напрягших крестцы,
С окровавленных мысов под облачным тентом
В пароксизмах прибоя свисали сосцы,
Истекающие молоком и абсентом.
А вы знаете ли? Это я пролетал
Среди хищных цветов, где, как знамя Флориды,
Тяжесть радуги, образовавшей портал,
Выносили гигантские кариатиды.
Область крайних болот, тростниковый уют,—
В огуречном рассоле и вспышках метана
С незапамятных лет там лежат и гниют
Плавники баснословного Левиафана.
Приближенье спросонья целующих губ,
Ощущенье гипноза в коралловых рощах,
Где, добычу почуя, кидается вглубь
Перепончатых гадов дымящийся росчерк.
Я хочу, чтобы детям открылась душа,
Искушенная в глетчерах, рифах и мелях,
В этих дышащих пеньем, поющих дыша,
Плоскогубых и голубобоких макрелях.
Где Саргассы развертываются, храня
Сотни мощных каркасов в глубинах бесовских,
Как любимую женщину, брали меня
Воспаленные травы в когтях и присосках.
И всегда безутешные — кто их поймет? —
Острова под зевающими небесами,
И раздоры парламентские, и помет
Глупышей, болтунов с голубыми глазами.
Так я плавал. И разве не стоил он свеч,
Этот пьяный, безумный мой бег, за которым
Не поспеть, — я клянусь! — если ветер чуть свеж,
Ни ганзейцам трехпарусным[324], ни мониторам[325].
Пусть хоть небо расскажет о дикой игре,
Как с налету я в нем пробивал амбразуры,
Что для добрых поэтов хранят винегрет
Из фурункулов солнца и сопель лазури.
Как со свитою черных коньков я вперед
Мчал тем временем, как под дубиной июлей
В огневые воронки стремглав небосвод
Рушил ультрамарин в грозном блеске и гуле.
Почему ж я тоскую? Иль берег мне мил?
Парапетов Европы фамильная дрема?
Я, что мог лишь томиться, за тысячу миль
Чуя течку слоновью и тягу Малынтрома.
Да, я видел созвездия, чей небосклон
Для скитальцев распахнут, людей обойденных.
Мощь грядущего, птиц золотых миллион,
Здесь ли спишь ты, в почах ли вот этих бездонных?
Впрочем, будет! По-прежнему солнца горьки,
Исступленны рассветы и луны свирепы,—
Пусть же бури мой кузов дробят на куски,
Распадаются с треском усталые скрепы.
Если в воды Европы я все же войду,
Ведь они мне покажутся лужей простою,—
Я — бумажный кораблик, — со мной не в ладу
Мальчик, полный печали, на корточках стоя.
Заступитесь, о волны! Мне, в стольких морях
Побывавшему, — мне, пролетавшему в тучах,—
Плыть пристало ль сквозь флаги любительских яхт
Иль под страшными взорами тюрем плавучих?
СЧАСТЬЕ. Перевод А. Ревича.
Светлый дом! Дни весны!
Кто из нас без вины?
Светлый дом! Дни весны!
Чудесам учусь у счастья,
Каждый ждет его участья.
Пусть ворвется утро в дом
Звонким галльским петухом!
Что еще мне в жизни надо?
Радость — высшая награда.
Чар ее не побороть,
И душа в плену и плоть.
Слов своих не понимаешь,
Улетают — не поймаешь.
Светлый дом! Дни весны!
РАЗУМУ. Перевод Н. Стрижевской.
Твой взмах руки, как удар барабана, — начало новой гармонии, звон всех созвучий.
Твои шаги: подъем воли людских, зов «вперед».
Ты головой качнешь: новая любовь! Ты голову поверяешь: новая любовь!
«Судьбу измени, от горя храни, пусть времена вспять идут», — дети твои поют. «В непостижимую даль вознеси наши стремления и наши дни», — к тебе простирают руки.
Грядущий из всегда и уходящий всюду.
РАССВЕТ. Перевод А. Ревича.
Я обнял летнюю зарю.
Усадьба еще не проснулась: ни шороха в доме. Вода была недвижна. И скопища теней еще толпились на лесной дороге. Я шел, тревожа сон прохладных и живых дыханий. Вот-вот раскроют глаза самоцветы и вспорхнут бесшумные крылья.
Первое приключенье: на тропинке, осыпанной холодными, тусклыми искрами, мне поклонился цветок и назвал свое имя.
Развеселил меня золотой водопад, струящий светлые пряди сквозь хвою. На серебристой вершине ели я заметил богиню.
И стал я срывать один покров за другим. Шагая просекой, я взмахивал руками. Пробегая равниной, о заре сообщил петуху. Она убегала по городским переулкам, среди соборов и колоколен, и я, как бродяга, гнал ее по мраморной набережной. Наконец я настиг ее у опушки лаврового леса, и на нее набросил все сорванные покрывала, и ощутил ее исполинское тело. И падают у подножия дерева заря и ребенок.
Когда я проснулся, был полдень.
ОТЪЕЗД. Перевод Н. Стрижевской.
Довольно видено. Видения являлись во всех обличьях.
Довольно слышано. Гул городов по вечерам, под солнцем, — вечно.
Довольно познано. Все остановки жизни. — О, зрелища и звуки!
Теперь отъезд к иным шумам и ощущеньям!
УТРО. Перевод Н. Стрижевской.
Неужели у меня была однажды молодость, дивная, героическая, легендарная, золотыми буквами следовало бы начертать на ней — слишком повезло! За какие грехи, за какие преступления заслужил я сегодняшнее бессилие? Вы желали бы, чтобы звери рыдали от горя, больные утратили надежду, а мертвые потеряли покой, — попробуйте описать мое падение и мои сны. Сегодня я только причитаю, как нищий с бесконечными «Отче наш» и «Аве Мария». Я разучился говорить!
И все же я считаю, что сегодня я завершил свой рассказ об аде. А это был подлинный ад, тот самый исконный ад, куда дверь мне отворил сын человека.
В той же пустыне, в той же ночи мои воспаленные веки всегда раскрывались при свете серебряной звезды, всегда, когда хранили еще неподвижность властители жизни, трое волхвов[326]: сердце, душа и ум. Когда, когда пойдем мы через реки и горы приветствовать новый труд и новую мудрость, бегство тиранов и демонов, конец суеверий, чтоб славить — первыми — Рождество на земле!
Песня небес, шествие народов! Рабы, не станем проклинать жизнь!
ШАРЛЬ КРО.
Шарль Кро (1842–1888). — Поэт был наделен блестящими дарованиями в самых различных областях: он изобрел еще до Эдисона фонограф, цветную фотографию, изучал возможности межпланетной связи. И его поэзии свойственно разнообразие интонаций. Изящество и грусть любовной лирики здесь сменяются метким шаржем, разочарование и надломленная усталость соседствуют с гордым самоутверждением; но неизменно подвижность воображения сочетается с изысканной прозрачностью поэтического языка и всепроникающей иронией.
Кро жил в самой гуще парижской литературно-артистической богемы, в молодости был близок с Верленом и Рембо. Ни научные открытия, ни стихи не принесли ему славы при жизни. Он смог опубликовать лишь один, весьма холодно встреченный, сборник — «Сандаловый ларец» (1873); остальные сочинения были изданы уже после его смерти («Ожерелье из когтей», 1908). Только XX век дал поэту подлинное признание.
ИТОГ. Перевод М. Ваксмахера.
Мне грезилось, помню, — в саду на заре
Мы тешимся с милой в любовной игре,
И замок волшебный горит в серебре…
Ей было шестнадцать и столько же мне.
От счастья хмелея, в лесу по весне
Я ехал с ней рядом на рыжем коне…
Прошла-пролетела мечтаний пора,
Душа одряхлела. В кармане дыра.
Зато в шевелюре полно серебра.
Ушедших друзей вспоминаю в тоске.
А грезы, как звезды, — дрожат вдалеке.
А смерть караулит меня в кабаке.
СУШЕНАЯ СЕЛЕДКА. Перевод Ин. Анненского.
Видали ль вы белую стену — пустую, пустую, пустую?
Не видели ль лестницы возле — высокой, высокой, высокой?
Лежала там близко селедка — сухая, сухая, сухая…
Пришел туда мастер, а руки — грязненьки, грязненьки, грязненьки.
Принес молоток свой и крюк он — как шило, как шило, как шило…
Принес он и связку бечевок — такую, такую, такую.
По лестнице мастер влезает — высоко, высоко, высоко,
И острый он крюк загоняет — да туки, да туки, да туки!
Высоко вогнал его в стену — пустую, пустую, пустую;
Вогнал он и молот бросает — лети, мол, лети, мол, лети, мол!
И вяжет на крюк он бечевку — длиннее, длиннее, длиннее,
На кончик бечевки селедку — сухую, сухую, сухую.
И с лестницы мастер слезает — высокой, высокой, высокой
И молот с собою уносит — тяжелый, тяжелый, тяжелый,
Куда, неизвестно, но только — далеко, далеко, далеко.
С тех пор и до этих селедка — сухая, сухая, сухая,
На кончике самом бечевки — на длинной, на длинной, на длинной,
Качается тихо, чтоб вечно — качаться, качаться, качаться…
Сложил я историю эту — простую, простую, простую,
Чтоб важные люди, прослушав, сердились, сердились, сердились
И чтоб позабавить детишек таких вот… и меньше… и меньше…
ТРИСТАН КОРБЬЕР.
Тристан (настоящее имя — Эдуар-Жоакен) Корбьер (1845–1875). — Мечтал о судьбе моряка, но, с шестнадцати лет изуродованный жестоким ревматизмом, не мог осуществить ни этой своей страсти, ни других юношеских надежд. Боль и отчаяние, которые в повседневной жизни Корбьер прятал за эксцентричностью привычек, в его лирике прорываются сквозь горькую издевку надо всем на свете, и прежде всего над самим собой, сквозь подчеркнутую противоречивость поэтического автопортрета, неровные, торопливые ритмы. Многие строки Корбьера вдохновлены обычаями и ландшафтами родной Бретани; его излюбленные персонажи — люди моря и парии: бродяги, проститутки. Изданный в 1873 году (за счет автора) сборник стихов «Желтая любовь» остался незамеченным. Лишь десять лет спустя имя Корбьера извлек из забвения Верлен, посвятив ему первый из своей серии очерков «Проклятые поэты».
СКВЕРНЫЙ ПЕЙЗАЖ. Перевод Бенедикта Лившица.
Песок и прах. Волна хрипит и тает,
Как дальний звон. Волна. Еще волна,—
Зловонное болото, где глотает
Больших червей голодная луна.
Здесь медленно варится лихорадка,
Изнемогает бледный огонек,
Колдует заяц и трепещет сладко
В гнилой траве, готовый наутек.
На волчьем солнце расстилает прачка
Белье умерших — грязное тряпье,
И, все грибы за вечер перепачкав
Холодной слизью, вечное свое
Несчастие оплакивают жабы
Размеренно-лирическим «когда бы».
ДНЕВНОЙ ПАРИЖ. Перевод М. Яснова.
Гляди-ка — ну и ну, что в небесах творится!
Огромный медный таз, а в нем жратва дымится,
Дежурные харчи бог-повар раздает,
В них пряностью — любовь, приправой острой — пот.
Толпой вокруг огня теснится всякий сброд,
И пьяницы спешат рассесться и напиться,
Тухлятина бурлит, притягивая лица
Замерзших мозгляков, чей близится черед.
Для всех ли этот пир, обильный, долгожданный,
Весь этот ржавый жир, летящий с неба манной?
Нет, мы всего одну бурду собачью ждем.
Над кем-то тишь и свет, но дождь и мрак над нами,
Наш черный котелок давно забыл про пламя.
И злобой мы полны, и желчью мы живем.
А я бываю сыт и медом и гнильем.
* * *
«Смеешься? Что ж! Потешимся отравой…». Перевод М. Яснова.
Смеешься? Что ж! Потешимся отравой.
Шут Мефистофель, наливай вина!
Чтоб сердце запузырилось кровавой
Харкотиной — сквозь губы — как слюна.
К чертям любовь! Докучною забавой
Утешиться ль? Грядущая цена
Тебе — ты сам. О, провонявший славой,
Наполни грудь миазмами до дна!
Довольно! Вон! Окончена пирушка,
Тебе сума — последняя подружка,
А револьвер — последний твой дружок.
Забавно прострелить себе висок!
…Иль, доживая, молча, без оглядки,
В глухом похмелье пей судьбы остатки.
ТРУБКА ПОЭТА. Перевод Р. Березкиной.
Я — трубка бедного пиита.
Ему я пища и защита.
Когда химеры с потолка
К нему слетаются на лоб,
Я дым над ним пускаю, чтоб
Ему не видеть паука.
Пред ним рисую я пейзажи,
Моря, пустыни и миражи.
Блуждает взгляд его, как вдруг,
Сгущаясь, дым знакомой тенью
Плывет подобно привиденью —
И он кусает мой мундштук.
И новым вихром я разрушу
Оковы, жизнь открою, душу.
…Вот гасну я. Уснул мой друг.
Твой зверь молчит, спи вместе с ним,
Плети виденья до рассвета.
Дым вышел весь. А верно ль это,
Что все на свете только Дым?
ДУДОЧКА. Перевод А. Парина.
Покойся в неге, злой коваль цикад!
Тебя укроют заросли пырея,
И в их ветвях, от радости хмелея,
Цимбалами цикады зазвенят.
Росой поутру розы запестрят,
И ландыши взрастут, как плат, белея…
Покойся в неге, злой коваль цикад!
Взревут ветра чредой угрюмых стад;
Курносой Музе здесь куда милее —
Твой черный рот намажет эта фея
Стихами, что больную плоть пронзят…
Покойся в неге, злой коваль цикад!
ЖЕРМЕН НУВО.
Жермен Нуво (1852–1920). — В 70-х годах спутник Рембо, затем Верлена в странствиях по Европе, Нуво, подобно им, оказался неспособен вписаться в рамки «нормального» существования. Пережив к сорока годам сильнейший душевный кризис, он так и не вернулся к своей службе школьного учителя рисования, хотя не раз пробовал это сделать. Он просит милостыню на папертях церквей, совершает в одиночку паломничества к святым местам, скитается по Алжиру и Палестине, самой жизнью пытаясь воплотить свой идеал истинного христианства. Остаток дней Нуво провел в родном городке, затерянном в холмах Прованса.
В отличие от Рембо, Жермен Нуво не отрекался от поэзии, однако публикации своих вещей упрямо противился. Его книги выходили либо тайно от автора («Доктрина любви», 1904), либо уже после его смерти («Валентины», 1922). Поклонение богу, отождествляемому то с «природой», то с «красотой», в лирике Нуво переплетается с другой, не менее для него важной, темой — земной страстью к женщине. За обеими ипостасями поэзии Нуво стоит чувство, внушившее ему название одного стихотворения: «Любовь к любви».
ЛЮБОВЬ. Перевод О. Чухонцева.
Мне все невзгоды нипочем,
Ни боли не боюсь, ни муки,
Ни яда, скрытого вином,
Ни зуба жалящей гадюки,
И ни бандитов за спиной,
И ни тюремной их поруки,
Пока любовь твоя со мной.
Что мне какой-то костолом,
Что ненависть мне, что потуги
Корысти, машущей хвостом
Угодливей дворовой суки;
Что битвы барабанный бой
И сабель выпады и трюки,
Пока любовь твоя со мной.
Пусть злоба черная котом
Свернется — не сверну в испуге,
Неотвратимым чередом
Приму несчастья и недуги;
Чисты душа моя и руки,
И что мне князь очередной
И что мне короли и слуги,
Пока любовь твоя со мной.
Посылка.
Тебе, возлюбленной, подруге,
Клянусь: бессилен бог любой
Мне приказать: «Умри в разлуке!»
Пока любовь твоя со мной.
БЛЕДНОЕ ДИТЯ. Перевод О. Чухонцева.
Это палый лист блестящий,
Низко по ветру летящий,
Это месяца ладья,
Это солнца восходящий
Свет, под ним — любовь моя,
Бледный облик малолетки:
Плод, томящийся на ветке!
Ночь сойдет — взойдет, сверкая,
Мученица дорогая,
Та, что ярче лишь цветет,
К бледности своей взывая,
И душе — ее восход,
Как заря с луной в придачу
Странствующим наудачу!
В этом личике искрится
Чистый свет отроковицы,
Дух скитальческой поры.
Это голос темнолицей
Матери и взгляд сестры.
И мою судьбу пытает
Та, что бледностью блистает!
СТЕФАН МАЛЛАРМЕ.
Стефан Малларме (1842–1898). — Начав в 60-е годы как почитатель Бодлера и Эдгара По, вскоре занял положение главы и теоретика школы французского символизма; в его парижской квартире регулярно, по вторникам, собирались поэты символистского круга. Оставшаяся от него небольшая книга стихов самому Малларме представлялась лишь фрагментом задуманного им целого, совершенство которого должно было противостоять болезненно остро ощущаемому несовершенству бытия. Поэзия Малларме стремится «описывать не вещи, а впечатления от них»; слово у него не прямо обозначает предмет, но, подобно музыкальной фразе, становится сложным единством самого своего звучания и вызываемых этими звуками ассоциаций. Том не менее в изощренном шифре его лирики мир не вовсе теряет свою материальную отчетливость. Формальные эксперименты Малларме касаются прежде всего синтаксического строя стиха, не нарушая, за редкими исключениями, традиций французской просодии и лексической нормы.
ВИДЕНИЕ. Перевод С. Петрова.
Взгрустнулось месяцу.
В дымящихся цветах,
Мечтая, ангелы на мертвенных альтах
Играли, а в перстах и взмах и всхлип смычковый
Скользил, как блеклый плач, по сини лепестковой.
Твой первый поцелуй был в этот день святой.
Задумчивость, любя язвить меня тоской,
Хмелела, зная толк во скорби благовонной,
Оставшейся от урожая Грезы сонной,
Когда без горечи, без винной гари хмель.
Я брел, вонзая взор в издряхшую панель,
И вдруг с улыбкою и солнцем на прическе
Ты появилась на вечернем перекрестке,
Как фея та, что шла, в былом мне сея свет,
По снам балованным минувших детских лет,
И у нее из рук небрежных, нежно-хворых,
Душистых белых звезд валился снежный ворох.
ЗВОНАРЬ. Перевод Р. Березкиной.
Той порою, когда колокольного звона
Золотую струю принимает заря
И кидает ребенку, что в гуще паслёна
С херувимом резвится позадь алтаря,
Звонаря задевает крылами ворона,
Что внимает латыни из уст звонаря,
Оседлавшего камень, подобие трона,
На веревке истлевшей высоко паря.
Это я! Среди ночи, стесненной желаньем,
Я напрасно звоню, Идеалы будя,
И трепещут бумажные ленты дождя,
И доносится голос глухим завываньем!
Но однажды все это наскучит и мне:
Я с веревкой на шее пойду к Сатане.
ВЕСЕННЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ. Перевод С. Петрова.
Недужная весна печально и светло
Зимы прозрачное искусство разломала,
И в существе моем, где кровь владычит вяло,
Зевотой долгою бессилье залегло.
Окован череп мой кольцом, и, как в могиле,
Парные сумерки давно седеют в нем,
И, грустен, я в полях брожу за смутным сном
Там, где спесивые посевы в полной силе.
И валит с ног меня деревьев аромат,
Измученный, ничком мечте могилу рою
И землю я грызу, где ландыши звенят,
Боясь, обрушенный, восстать опять тоскою…
А на плетне Лазурь смеется и рассвет
Пестро расцветших птиц щебечет солнцу вслед.
ВЗДОХ. Перевод Э. Липецкой.
Твой незлобивый лоб, о тихая сестра,
Где осень кротко спит, веснушками пестра,
И небо зыбкое твоих очей бездонных
Влекут меня к себе, как меж деревьев сонных,
Вздыхая, водомет стремится вверх, в Лазурь,
В Лазурь октябрьскую, не знающую бурь,
Роняющую в пруд, на зеркало похожий,—
Где листья ржавые, в тоске предсмертной дрожи,
По ветру носятся, чертя холодный след,—
Косых своих лучей прозрачно-желтый свет.
МОРСКОЙ ВЕТЕР. Перевод Э. Липецкой.
Увы, устала плоть и книги надоели.
Бежать, бежать туда, где птицы опьянели
От свежести небес и вспененной воды!
Ничто — ни пристально глядящие сады
Не прикуют души, морями окропленной,—
О, ночи темные! — ни лампы свет зеленый
На белых, как запрет, нетронутых листах,
Ни девочка-жена с ребенком на руках.
Уеду! Пароход, к отплытию готовый,
Срываясь с якорей, зовет к природе новой.
Издевкою надежд измучена, Тоска
К прощальной белизне платков еще близка…
А мачты, может быть, шлют бурям приглашенье,
И ветер клонит их над кораблекрушеньем
Уже на дне, без мачт, вдали от берегов…
Душа, ты слышишь ли — то песня моряков?
ГРОБНИЦА ЭДГАРА ПОЭ. Перевод Ин. Анненского.
Лишь в смерти ставший тем, чем был он изначала,
Грозя, заносит он сверкающую сталь
Над непонявшими, что скорбная скрижаль
Царю немых могил осанною звучала.
Как гидра некогда отпрянула, виясь,
От блеска истины в пророческом глаголе,
Так возопили вы, над гением глумясь,
Что яд философа развел он в алкоголе.
О, если туч и скал осиля тяжкий гнев,
Идее не дано отлиться в барельеф,
Чтоб им забвенная отметилась могила,
Хоть ты, о черный след от смерти золотой,
Обломок лишнего в гармонии светила,
Для крыльев Дьявола отныне будь метой.
ЛЕБЕДЬ. Перевод М. Волошина.
Могучий, девственный, в красе извивных линий,
Безумием крыла ужель не разорвет
Он озеро мечты, где скрыл узорный иней
Полетов скованных прозрачно-синий лед.
И Лебедь прежних дней, в порыве гордой муки,
Он знает, что ему не взвиться, не запеть:
Не создал в песне он страны, чтоб улететь,
Когда придет зима в сиянье белой скуки.
Он шеей отряхнет смертельное бессилье,
Которым вольного теперь неволит даль,
Но не позор земли, что приморозил крылья.
Он скован белизной земного одеянья
И стынет в гордых снах ненужного изгнанья,
Окутанный в надменную печаль.
ЛЕТНЯЯ ПЕЧАЛЬ. Перевод А. Ревича.
Лежишь, усталая, под солнцем, на песке,
В огне твоих волос играет луч с волною,
Он курит фимиам, припав к твоей щеке
И слезы примешав к любовному настою.
Под дрожью губ моих ты говоришь в тоске,
Как бы в укор лучам, их белизне и зною:
«Под сенью древних пальм, в пустынном далека
Единой мумией нам не почить с тобою!»
Но волосы твои — прохладная струя:
В них душу утопить, достичь Небытия.
Ведь ты не ведаешь, в чем состоит забвенье.
О, вкус твоих румян и соль слезы твоей!
Быть может, в них найду для сердца исцеленье,
Покой голубизны, бесчувственность камней.
ЗДРАВИЦА. Перевод М. Талова.
Игрушка, пена, свежий стих
Чуть обозначился бокалом:
Так стонет стая, сжата валом
Сирен в просторах вод морских.
О, разные друзья, средь них
Плывем, я — кормщик в боте малом,
Вы ж — на носу, рассекшем жалом
Вал зим и молний заревых;
Под хмелем радостным прибоя,
Не опасаясь качки, стоя,
Я поднимаю этот тост,
Риф, одиночество, светила,
За всех, кто бы ни стоил звезд,
Заботы белого ветрила.
ПОЛДЕНЬ ФАВНА. (Фрагмент). Перевод И. Эренбурга.
Фавн.
Когда в истоме утро хочет обороть
Жару и освежить томящуюся плоть,
Оно лепечет только брызгами свирели
Моей, что на кусты росой созвучий сели.
Единый ветр из дудки вылететь готов,
Чтоб звук сухим дождем рассеять вдоль лесов,
И к небесам, которых не колеблют тучи,
Доходит влажный вздох, искусный и певучий.
О сицилийского болота тихий брег,
Как солнце, гордость сушит твой унылый век.
Под лепестками ярких искр тверди за мною:
«Что здесь, тростник срезая, приручал его я,
Когда средь золота зеленого лугов,
Средь пышных лоз и влагу сеющих ручьев,
Как будто зверя белизну, узрел я, в лепи,
Тех нимф и негу плавную движений.
И при начальном звуке дудки взвился ряд
Пугливых лебедей, не лебедей — наяд».
Я, опаленный и недвижный, в полдень гнева,
Не зная, отчего свирели сладкие напевы,
Которые звучат в жестокой тишине,
Рассеивают их, давно желанных мне,
Один, и надо мной лишь солнца блеск старинный,
Встаю, подобный, лилия, тебе, невинной.
И грудь моя показывает тайный след
Какого-то укуса, но не ласки, нет,
Не беглый знак витающего поцелуя,
Богини зуб его мне подарил, тоскуя,
Но тайна вот она — воздушна и легка
Из уст идет играющего тростника.
Он думает, что мы увлечены напрасно
Своей игрой, которую зовем прекрасной,
Украсив, для забавы, таинством любовь,
Глаза закрыв и в темноте рыдая вновь
Над сновиденьем бедер и над спин загадкой,
Мы эти сны, пришедшие к душе украдкой,
Зачем-то воплотим в один протяжный звук,
Что скучно и бесцельно зазвучит вокруг.
Коварный Сиринкс[327], бегства знак, таи свой шорох
И жди меня, вновь зацветая на озерах.
Я вызову, срывая пояс с их теней,
Богинь. Так, чтоб не знать укоров прежних дней.
Я, виноград срывая, пьяный негой сока,
Пустую гроздь, насмешник, подымал высоко,
И в кожицы я дул, чтоб, жадный и хмельной,
Глядеть сквозь них на вечер, гасший надо мной.
О нимфы, дуйте в разные воспоминанья!
«Мой жадный глаз, камыш сверля, тая желанья,
Движенье нимф, купавших сладостный ожог,
В воде кричавших бешено, заметить мог.
Но вот восторг исчез внезапно, тела чудо,
Средь дрожи блеска вашего, о изумруды!
Бегу и вижу спящих дев, упоены
Истомой вместе быть, их руки сплетены,
Несу, не размыкая рук их, прочь от света,
В густую тень, где розы, солнцем разогреты,
Благоухают, игры дев храня,
Их делая подобными светилу дня».
Люблю тебя я, девственницы гнев и белый,
Священный груз враждебного и злого тела,
Которое скользит от раскаленных губ,
От жажды их. Как затаенный страх мне люб,
От диких игр неистовой до сердца слабой,
Которая невинность потерять могла бы,
От плача влажная, иль, может быть, одна,
Иным туманом радости окружена.
«Их первый страх преодолеть, рукой дрожащей
Распутать их волос нетронутые чащи,
Разнять упорные уста для близких нег —
Я это совершил, и свой багровый смех
Я спрятал на груди одной из них, другая
Лежала рядом, и, ее рукой лаская,
Я жаждал, чтоб сестры растущий быстро пыл
Ее б невинность ярким блеском озарил,
Но маленькая девственница не краснела.
Они ушли, когда я, слабый, онемелый,
Бросал, всегда неблагодарным, легкий стон,
Которым был еще как будто опьянен».
Пускай! Другие мне дадут изведать счастье,
Обвивши косы вкруг рогов моих, и страстью
Созревшей полон я, пурпуровый гранат,
Вкруг пчелы, рея, сок сбирают и звенят.
И кровь моя течет для всякого, кто, жаром вея,
Склонится, отягчен желаньями, над нею.
ЖЮЛЬ ЛАФОРГ.
Жюль Лафорг (1860–1887). — Скрывающая ранимость и тоску за иронической пародийностью, поэзия Лафорга по-своему передает духовные метания сыновей «конца века». В лирике Лафорга нет места раз и навсегда отстоявшемуся, закрепленному в заповедях житейской и эстетической мудрости. В поисках очищенной от всякого рода штампов выразительности он перелагает серьезнейшие размышления на мотив популярной уличной песенки, соединяет философские термины с бытовым жаргоном, изобретает новые слова, а старым оборотам и давно известным формам придает совсем неожиданное звучание; гибкость его ритмов и рифм предвещает свободный стих. Немало крупных поэтов XX века (среди них Гийом Аполлинер и Т.-С. Элиот) многим обязаны Лафоргу. Кроме стихотворных книг («Жалобы», 1885; «Подражание государыне нашей Луне», 1885; «Последние стихи», 1891), ему принадлежат статьи и рассказы.
РОМАНС О ДУРНОЙ ПОГОДЕ. Перевод В. Шора.
Закат — кровавая река
Или передник мясника,
Который заколол быка…
Вот стал он рейдом, — и бродягам
Неймется плыть под черным флагом
К таинственным архипелагам…
Плывите же, мечты, отсель
К далеким берегам земель,
Где женщины жуют бетель…
А сам я заперт, как в остроге,
В пределах — о, мирок убогий! —
Парижской окружной дороги.
А, вот идет инспектор вод!
Идет, под нос себе поет…
И впрямь, воды — невпроворот.
Апрель… Повсюду слякоть, лужи,
В ветрах еще дыханье стужи…
Ну и дела! Нельзя быть хуже.
И солнце мне внушает страх,
Как генерал, весь в орденах:
Чуть взглянешь — зарябит в глазах.
Я людям чужд: мечтатель, лгун им
Смешон, — блуждать бы по лагунам
Ему в гондоле в свете лунном!
Да, здесь мечтать — попасть впросак…
Но я ведь не из тех зевак,
Которым ладно все и так!
Мой сплин — как столп отвесный, гладкий;
И я ищу ответ загадки:
Какой резон в миропорядке?
ГРУСТНО, ГРУСТНО. Перевод Елены Ваевской.
Я на огонь смотрю. Зевота сводит рот.
Снаружи плачет дождь, и ветер дует в щели.
В соседней комнате — звучанье ритурнели.
Как грустно жить… И жизнь так медленно течет!
Мне видится земля, сквозь вечный небосвод
Ничтожным атомом летящая без цели.
Лишь крохи жалкие мы разглядеть сумели.
Напрасно Целое себе разгадки ждет.
Вот общая судьба! Комедия все та же:
Болезни да грехи, пороки да пропажи,
Затем исчезнем мы, небытие придет,
И травкой порастут навек останки эти.
А здесь тем временем все то ж из года в год.
Как одиноки мы! Как грустно жить на свете!
РАЗМЫШЛЕНИЕ В СЕРЫХ ТОНАХ. Перевод Э. Липецкой.
Все утро моросит из тучи неотжатой.
Один как перст, сижу на голом островке,
У самых ног ворчит, ворочаясь в тоске,
Свинцовый океан под шквальные раскаты.
Несутся волны вскачь, гривасты и косматы,—
Их бешеный табун примчится налегке
И распластается бессильно на песке,
Роняя пену с губ, как клочья мокрой ваты.
И небо серое, и морось, и туман,
И ветер хлещущий, и сизый океан,
И ни души кругом. Сижу осиротело,
Не пряча от дождя иззябшего лица,
Сижу и думаю: нет времени предела…
Пространству нет конца… вовеки нет конца…
ЧЕХОСЛОВАКИЯ.
ЯН КОЛЛАР. Перевод с чешского.
Ян Коллар (1793–1852). — Словак по происхождению, Ян Коллар стал одним из наиболее значительных чешских поэтов XIX века, вдохновителем идей эпохи национального возрождения, выразителем общности просветительских и национально-освободительных устремлений чехов и словаков. Вопреки воле отца, управителя имения, он стремился к образованию; закончив Йенский университет, где изучал теологию, в течение тридцати лет был священником евангелического прихода в Пеште; умер в Вене, куда был приглашен в университет преподавать славяноведение. Во время учения он познакомился с Фридерикой Шмидт, ставшей в 1835 году его женой; ей посвящена поэма Коллара «Дочь Славы».
Впервые поэма «Дочь Славы», над которой поэт работал всю жизнь, постоянно ее пополняя, вышла в 1824 году; она состояла из ста пятидесяти одного сонета; последнее подготовленное автором издание 1852 года содержало шестьсот сорок пять сонетов.
Слава — символическое имя возлюбленной поэта Мины-Фридерики (по происхождению славянки-лужичанки), которая олицетворяет родину и мечту поэта о единении славян и национальном освобождении.
Коллар был известен в России по переводам еще при жизни.
ДОЧЬ СЛАВЫ. (Фрагменты из поэмы).
ПЕСНЬ ПЕРВАЯ.
СОНЕТ 129. Перевод Ю. Нейман.
Вдали, на фоне меркнущих небес,
Еще он виден, — домик при дороге.
Последний поцелуй… Несите, ноги.
Скорей, скорей, тоске наперерез!
Прощайте навсегда, края чудес!
Здесь ожидало счастье на пороге…
Еще минута… Оглянусь в тревоге,
А дома нет! Ах, дом из глаз исчез!
Прочь, прочь отсюда! Не гляди назад!
Пусть ветер гор печаль твою остудит!
Пусть птицы пеньем душу оглушат!..
Себя возьму я в руки по-мужски.
Но есть ли сердце, что меня осудит
За взгляд еще один, за взгляд тоски?!
ПЕСНЬ ВТОРАЯ.
СОНЕТ 141. Перевод Н. Берга.
Славяне, братья милые славяне!
Вы любите кровавый спор да брани —
Скажите мне: какой в тех бранях прок?
Возьмем от кучи угольев урок:
В одну семью съединены заране,
Они горят и блещут на тагане
И кверху искры мечут в потолок;
Но что ж один бы сделал уголек?
Соединимся ж все мы без изъятья:
Серб, русский, чех, болгар, поляк,
Один к другому кинемся в объятья —
Одна хоругвь, один да будет стяг;
Забудем все, что было, будем братья —
И дрогнет супротивный враг!
ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ.
СОНЕТ 110. Перевод Н. Стефановича.
Сто долгих лет изменят нас, славяне,
Изменят лик всего материка,
Славянство, как весенняя река,
Движенья своего раздвинет грани.
Германцы презирают наши знанья,
И наша речь им кажется низка,
А ей звучать везде, на все века
В устах людей, ее хуливших ране.
Войдут, проникнув в жизнь далеких стран,
Науки наши, музыка и пенье,
Их будут знать на Лабе и на Сене,
Им будет путь во все пределы дан.
О, если бы воскреснуть на мгновенье
В час торжества великого славян!
СОНЕТ 116. Перевод Н. Горской.
В желтый цвет окрасились вершины,
Тишина течет с пустых полян,
В голых ветках свищет ураган,
На домах — разводы паутины,
По дороге длинной аистиной
Август улетел из наших стран,
И старик Дунай несет в туман
Листья жухлые, цветы и льдины.
Но недолго траурным покровом
Будет плоть земли омрачена —
Возвратится май в цветенье новом.
Только мне не ведать воскресений —
Без любимой умерла весна,
Жизнь моя — извечный день осенний.
СОНЕТ 121. Перевод С. Шервинского.
Здесь под липой[328] навевал мне сны
Ангел детства колыбельной сладкой,
Здесь играл я и сидел с тетрадкой,—
Золотые дни моей весны!
Здесь мужал. Мы были влюблены.
Славы дочь встречал я здесь украдкой.
Но любовь была такою краткой!
Мы простились, мы разлучены.
Мне под липой музы лиру дали,
И с ветвей сонет сонету вслед,
Словно листья, мне на грудь слетали.
Здесь меня под липой схороните.
Мрамора не требует поэт,—
Сенью Славы прах мой осените!
КАРЕЛ ГИНЕК МАХА. Перевод с чешского.
Карел Гинек Маха (1810–1836). — Яркий представитель чешского революционного романтизма, один из наиболее значительных чешских поэтов, Карел Гинек Маха родился и вырос в Праге, окончил Пражский университет, где изучал философию и право. Отец поэта — работник на мельнице, затем владелец бакалейной лавочки. Постоянная нужда и слабое здоровье рано свели поэта в могилу, но за свою короткую жизнь он написал немало прозаических (повести «Кршивоклад», «Цыгане», «Маринка» и др.) и поэтических произведений (многое осталось незавершенным) и среди них — одно из лучших произведений чешской поэзии, поэму «Май», в которой нашли отражение мечты поколения Махи о свободе.
МАЙ[329]. (Фрагменты из поэмы). Перевод Д. Самойлова.
[329].
*
С высоты небесных странствий
Пала мертвая звезда
В бесконечное пространство,
В синий омут, в никуда.
Вопль ее звучит над бездной:
«Бесконечен страшный бег,
Где окончен путь мой звездный?»
Никогда — нигде — вовек.
Вкруг белой башни ветры веют,
А у подножья волны млеют,
И камни башенной стены
Луною посеребрены.
Но тьма царит во глубине темницы,
Там, за стеною, сумрачная ночь,
И луч луны, проникший сквозь бойницы,
Глубокой мглы не в силах превозмочь.
Столбы плечами своды подпирают
В кромешной тьме. А ветер, дуя с гор,
Поет, как узников загробный хор,
И волосами пленника играет.
А он за каменным столом
Полусидит, полусклонен,
И, на руки упав челом,
В пучину мыслей погружен;
И дума умирает в нем за думой
И омрачает лик его угрюмый,
Как тучи омрачают небосклон.
*
От гор к горам свое крыло
Ночь распахнула, словно птица.
И мгла ложится тяжело,
И вдалеке туман клубится.
Чу! За горами, одинок,
Пленительной музыкой
Свой нежный звук лесной рожок
Струит в ночи великой.
Все усыпляет этот звук,
Спокойно дремлют дали.
И узник забывает вдруг
Мученья и печали,—
«Поет о жизни этот глас,
Весь край ночной им дышит.
Но день придет, пробьет мой час,
Мой слух — увы! — в последний раз
Напев далекий слышит».
Он вновь поник; движенье рук —
И цепь звенит в темнице. И тишина.
От тяжких мук Смежаются зеницы…
О, звук рожка, печальный звук,
Как плач иль пенье птицы…
«Грядущий день! Все ближе он!
А что за ним? Бездонный сон
Иль сон без сновиденья?
А может, жизнь сама — лишь сон,
И жизнь, и смерть, и связь времен —
Лишь сна преображенье?
А может, то, о чем мечтал,
Что на земле не испытал,
Я завтра испытаю?..
Кто знает? — Мысль пустая…»
Он замолчал. И тишина
Ночную даль укрыла.
Опять упряталась луна,
Поблекли звезды, и тяжел
Ночной туман, а дальний дол
Чернеет, как могила.
Умолкнул ветр, притих поток,
Уснул пленительный рожок,
И в глубине темницы хладной
Тишь, темень, сумрак непроглядный.
«Ночь глубока — безмерна ночь!
Но что она в сравненье
С той вечной ночью? Думы, прочь!»
В нем вновь кипит волненье.
Но тишь кругом. Лишь капель звон
Роняет мокрая стена,
Он повторяется вокруг,
Как счет минут, как бег времен,
Однообразно — тук да тук,
Звук — тишина — звук — тишина,
Звук — тишина — и снова звук.
«Как ночь длинна, бездонна ночь,
Но что она в сравненье
С той вечной ночью? Думы, прочь!»
В нем вновь кипит волненье.
А капли звонкие ведут
Однообразный счет минут…
«Та ночь темней! Ведь здесь порой
Горит луна, блестит звезда.
А там лишь тень да мрак немой —
Навек — навечно — навсегда,
Как было, так и будет.
Там нет движенья, нет часов,
Там нет начал и нет концов,
Не минет ночь, не встанет день,
И время не убудет.
Ни звуков нет, ни голосов,
Там цели нет, лишь даль и тень —
И вечно так пребудет.
Там бесконечность надо мной,
И вкруг меня, и подо мной,
Там пустоты зиянье.
Бездонна тишь — там звука нет,
Там ночь и время без примет,
И это — мысли смертный сон,
„Ничто“ его названье».
ПОСВЯЩЕНИЕ В СТИХАХ[330]. Перевод А. Ахматовой.
[330].
Когда богемский лев[331]
Взметнется над врагами,
Когда взовьется знамя,
Умру я, меч воздев.
Пока ж гривастый лев
Спит и лучи над нами,
Не трубы над полями
Звучат, а мой напев.
КАРЕЛ ГАВЛИЧЕК-БОРОВСКИЙ. Перевод с чешского.
Карел Гавличек-Боровский (1821–1857). — Поэт-сатирик, публицист и общественный деятель; сыграл выдающуюся роль в развитии общественной мысли Чехии. Сын мелкого торговца, К. Гавличек мечтал, став священником, вести просветительскую работу в народе; с этой целью он поступил в 1840 году в Пражскую семинарию, но вскоре был исключен оттуда за неверие и свободомыслие. Гавличек занимается самообразованием, решив посвятить себя литературе. В 1843–1844 годах он живет в Москве в качестве домашнего учителя в семье известного славянофила профессора С. П. Шевырева. Пребывание поэта в России сыграло значительную роль в углублении его ненависти к монархическому режиму. С 1845 года Гавличек, вернувшись в Прагу, редактирует ряд чешских газет — «Пражске новины» с приложением «Ческа вчела», в 1848 году основывает «Народни новины» с сатирическим приложением «Шотек», в 50-е годы издает политический еженедельник «Слован». Во время революционных событий 1848 года Гавличек выступил как представитель либеральных взглядов, он был членом Национального комитета, принимал участие в Славянском съезде.
К. Гавличек неоднократно подвергался суду за выступления в печати против правительства и церкви; в 1851 году он был арестован и сослан в город Бриксен (Тироль), откуда вернулся больной незадолго до смерти.
Стихи, статьи, эпиграммы поэта публиковались в редактируемых им газетах, многие произведения, например, поэмы «Тирольские элегии» (написана в 1852 г., опубликована в 1861 г.), «Крещение святого Владимира» (написана в 1851–1855 гг., опубликована в 1876 г.), ходили в списках. Гавличек — один из первых переводчиков произведений Н. В. Гоголя на чешский язык.
ТИРОЛЬСКИЕ ЭЛЕГИИ[332]. (Фрагменты из поэмы). Перевод Д. Минаева.
[332].
*
Ах, свети, румяный месяц,
Сквозь туман и мрак;
Разве не люб тебе Бриксен,
Что ты хмурен так?
Не закатывайся в тучку,
Рано, красный, спать,
Я б хотел с тобой немного,
Месяц, поболтать.
Не беги, я издалека,
Здесь чужой всем, брат;
Я не treu und bieder[333], в Бриксен
Я в науку взят.
*
Я из края музыкантов[334],
Там-то мой тромбон,
Видишь, — все у венских панов
Беспокоил сон.
Деловые люди, папы,
Свой храня покой,
С полицейскими карету
Выслали за мной.
Полночь. Спал я; по когда же
Третий час пошел,—
С «добрым утром» поздравляя,
Вдруг жандарм вошел.
А за ним в парадной форме
Полицейских ряд,—
Шарф на брюхе, а мундиры
Золотом горят…
«Вам поклоны шлют из Вены,
Бах[335] целует вас,
Вы здоровы ль — знать желает
И свой шлет приказ».
Добр на тощий я желудок,
Нет игры страстям.
«Виноват я… я в рубашке…» —
Я сказал гостям.
Но мой Джек — бульдог свирепый,
Дерзкий грубиян,
К странным выходкам способен:
Он из англичан.
Лишь один параграф стали
Гости мне читать,
На жандармов под кроватью
Начал Джек рычать.
Бросил я в него Законник[336],
Нет сильней угроз,
И — недаром, я догадлив:
Стал как мертвый пес.
*
Верный долгу гражданина
И порядку дел,
При собранье — торопливо
Я чулки надел,
А потом прочел бумагу.
Вот она — со мной,
Если слог казенный знаешь,
Прочитай, родной.
Бах, как доктор[337], пишет: вреден
Будто воздух мне
Нашей Чехии, что лучше
Жить в другой стране;
Будто в Чехии мне душно,
И туман, и смрад,
Что мое теперь здоровье
Он поправить рад.
И за тем, за мной карету
Он с поклоном шлет,
Что могу я в путь пуститься
На казенный счет;
А жандармам дал приказ он
Убедить меня,
Если, в скромности, пред ними,
Заупрямлюсь я.
*
Каюсь! Глупая привычка!
Нужно же сказать:
Не могу с штыком жандарму
В просьбе отказать.
Торопил меня Дедера[338]
Ехать, чтоб за мной,
Пробудившись, не бежал бы
Целый Брод[339] толпой.
И просил Дедера — чтобы
Сабли не брал я,
Что они оружья взяли
Охранять меня;
А пока меж Чехов едем —
Был я нем и глух,
Чтоб по Чехии тревожный
Не пронесся слух.
Мне советов пан Дедера
Много мудрых дал,
И, как Баха пациент, я
Кротко им внимал.
И манил меня Дедера,
Как сирену звал.
Я ж меж тем штаны с жилетом,
Шубу надевал.
У крыльца жандармы, кони
Сбруею гремят…
Братцы! Две еще минуты —
И я ехать рад.
*
Рог трубит, бегут колеса;
Мы в Иглаве. В ряд
За каретою жандармы
С грохотом спешат.
Вот на горке церковь божья;
Золоченый крест
Грустно смотрит, провожая,
Из родимых мест —
Будто молвит: «Ты ли это?
Помню твой расцвет,
Как учил тебя викарий,
И согбен и сед;
Как ты вырос, и светильник
Правды в руки взял,
И в краю родном дорогу
Братьям освещал.
Видишь, как промчались годы,
Ровно тридцать лет…
Но… зачем жандармы скачут
За тобою вслед?»
*
Так приехали мы в Бриксен,
В Бриксене и стали;
Обо мне Дедере тотчас
Там расписку дали.
И уехал он с бумагой,
Выданной властями,
А меня орел австрийский
Давит здесь когтями.
Так раскрылась надо мною
Вечная обитель,
Где один жандарм зловещий
Ангел мой хранитель.
СВАТОПЛУК ЧЕХ. Перевод с чешского.
Сватоплук Чех (1846–1908). — Поэт родился в семье управляющего имениями, патриота; получив юридическое образование, некоторое время практиковал как адвокат; публиковаться начал еще студентом. С 1878 года, основав журнал «Кветы», целиком посвятил себя литературе.
В своих произведениях, среди которых — рассказы, повести, поэмы, стихи, наиболее значительное место занимают сборники гражданской лирики «Утренние песни» (1887), «Новые песни» (1888), «Песни раба» (1895), поэмы «Лешетинский кузнец» (1883), «Гануман» (1884), «Степь» (1907), — отклик на русскую революцию 1905 года, — сатирические повести «Путешествие пана Броучека на Луну» и «Путешествие пана Броучека в XV столетие» (1888), Св. Чех отстаивал демократические и национально-освободительные идеалы. Его произведения полны предчувствия близящейся социальной революции, что способствовало популярности его творчества в самых широких слоях читателей; поэма «Песни раба» была любимой книгой чешских рабочих и оказала влияние на рабочую поэзию того времени.
ПОСЛЕДНЕЕ[340]. Перевод Н. Глазкова.
[340].
Хотел я бросить в чешский край
Горсть искр душевного огня:
Но шлак, возможно, я собрал,
Быть может, пепел у меня.
Возможно, сгинет без следов
Весьма обыденный мой стих,
И критик лишь нахмурит бровь
Над книгою стихов моих:
«Тенденциозны и тупы,
Без аромата и огня,
Раскрашены под вкус толпы,
Написаны на злобу дня…»
Не жду похвал. Пусть как поэт
Не признан миром буду я,
Лишь бы рассвет, что мной воспет,
Сменился ясным светом дня!
Лишь бы среди цветов, в росе,
Светило дня взошло для нас,
Которого мы жаждем все,
Чей свет предчувствуем сейчас.
БУДЬ СЛАВЕН ТРУД![341]. Перевод М. Павловой.
[341].
В немую вечность рухнули столетья,
Столетья, где цвели обман и лесть,
Где ради власти и великолепья
Орава трутней попирала честь,
Давил кулак державный год за годом
Бесправный люд,
Пока не грянул первый клич свободы:
Будь славен труд!
И что осталось от державной славы?
Лохмотья, плесень — вот ее плоды!
Но скромный труд, стирая пот кровавый,
Возделал пашни, вырастил сады,
Настроил города, где пред дворцами
Фонтаны бьют
И где кричит строенья каждый камень:
Будь славен труд!
О, этот лозунг грозный и прекрасный!
Срывает путы он с согбенных плеч,
Сметает в прах кумиров самовластных,
Смиряет зло и повергает меч.
Заря займется, и расправит плечи
Рабочий люд,
И зазвучит, как песня, ей навстречу:
Будь славен труд!
Будь славен труд, в поту творящий благо!
Бей молотом, направь на пашни плуг,
Вяжи снопы, бери перо, бумагу,
Ваяй, твори не покладая рук!
Ты победишь трусливых трутней касту,
И меч, и кнут.
В тебе равны — кирка, перо и заступ.
Будь славен труд!
Сотрут века пустое славословье,
Начертанное на шелку знамен,
Утихнет спор религий и сословий,
И успокоится вражда племен.
Умолкнет бой и бранные фанфары,
Мечи падут,
Но будет все звучать, как в песне старой:
Будь славен труд!
Все вы, кто ныне встал над жарким горном,
Пускай другим дано плоды пожать,—
Вы победите мрак трудом упорным,
И будет вам весь мир принадлежать!
О братья! Пусть терновник и крапива
Ступни вам жгут,
Вперед — вас лавр украсит горделивый!
Будь славен труд!
ЯРОСЛАВ ВРХЛИЦКИЙ. Перевод с чешского.
Ярослав Врхлицкий (настоящее имя — Эмиль Фрида, 1853–1912). — Жизнь Я. Врхлицкого, поэта, драматурга, переводчика, не богата внешними событиями; получив образование на философском факультете Пражского университета, он некоторое время преподавал литературу в университете, затем занимал пост секретаря Высшей Политехнической школы.
Врхлицкий издал около девяноста томов своих сочинений — лирические стихи и эпические поэмы, прозаические и драматические произведения, литературно-критические статьи; он был выдающимся переводчиком, в основном переводил французских и итальянских авторов, а также Гете, Шиллера, Мицкевича, Петефи, Уитмена и др.
Врхлицкий воспевал жизнь, любовь, природу, обращался также к темам социального бесправия тружеников (наиболее значительный сборник социальной лирики — «Сельские баллады», 1885) и грядущей революции. Стихи Врхлицкого отличает яркая образность, метафоричность; он обогатил чешскую поэзию новыми художественными формами, стихотворными размерами, оказал значительное влияние на ее развитие.
ПОДСОЛНЕЧНИКИ[342]. Перевод К. Бальмонта.
[342].
Круговые подсолнечники,
Золотые подсолнечники,
Для чего, любопытные вы,
К нам взглянули в окно?
О, как жадно тянулись вы здесь,
Как тенились, светились вы здесь,
Дотянулись вы мягкой рукой
До подушки ее.
Там ее был красивейший лик,
То лицо близ лица моего,
И прозрачно рыдали вдали
Звонков спевы дрозда.
О, большие подсолнечники,
Золотые подсолнечники,
Вы смеялись, в светлицу глядя,
В золотое окно.
РАЗГОВОР У МОРЯ[343]. Перевод Л. Мартынова.
[343].
Сказал я птице: «Вижу даль я,
Но все же не пойму я, нет,
Куда летишь с моей печалью?» —
«За тучи!» — слышу я в ответ.
Сказал волне я: «Дочка моря,
О тень и свет, поведай мне —
Где погребла мое ты горе?»
Она сказала: «В глубине!»
Сказал я ветру: «Робкий странник,
Все трогаешь ты на бегу…
Где прошлые мои страданья?»
«Остались здесь, на берегу!»
«Свободен, счастлив, юн ты снова!» —
Сказал закат мне огневой.
«Нет! Родины моей оковы
Влачу я всюду за собой!»
ГОЛОС[344]. Перевод Л. Мартынова.
[344].
Если б даже над законом
Беззаконье стало властным,
Но не грянул гром над троном
И осталось небо ясным —
Мститель все-таки бы встал,
И из бездны без предела,
Из лесов, пустынь, со скал
И из моря бы гремело:
Мы протестуем!
За великие идеи
Мы геройски умирали;
Задыхались, коченели,
Столб позорный обнимали.
Мы встаем с полей всех битв,
Где земля еще кровава;
Пусть наш голос прозвучит,
Мертвое разбудит право:
Мы протестуем!
Кровь людская, бей ключом!
Подвига пора настала,
Если праву палачом
Беззаконье нынче стало!
Кровь, пролитая от века,—
Вся она спешит тотчас же
На подмогу человеку.
Пусть и мертвый крикнет даже:
Мы протестуем!
Бедноты растут лишенья,
Слышен стон и плач сирот —
Этот колокол отмщенья
Немезида стережет.
Дед погиб, но юный внук
Пусть к набату длань дотянет,
Взмоют к небу крики мук,
Голос миллионов грянет:
Мы протестуем!
САМУЭЛЬ ТОМАШИК. Перевод со словацкого.
Самуэль Томашик (1813–1887). — Словацкий поэт, писатель, евангелический священник, родился в Ельшавой Теплице, изучал теологию в Берлинском университете. Известность получил как автор стихотворения «Гей, славяне!», ставшего славянским гимном, который пели на мотив польской мазурки. Эту песню Томашик сложил в 1834 году во время пребывания в Праге (опубликована в 1838 г.), удрученный засильем немцев в чешской столице и «с верой в лучшее будущее своего угнетенного народа». Песня вдохновляла призывом к единению славян.
С. Томашик — автор многих стихотворений; некоторые из них стали народными (Томашик начинал писать в 30-е годы еще по-чешски, позже, после создания в 40-е годы самостоятельного словацкого литературного языка, писал по-словацки).
ГЕЙ, СЛАВЯНЕ! Перевод Н. Берга.
Гей, славяне, гей, славяне!
Будет вам свобода,
Если только ваше сердце
Бьется для народа.
Гром и ад! Что ваша злоба,
Что все ваши ковы,
Коли жив наш дух славянский!
Коль мы в бой готовы!
Дал нам бог язык особый —
Враг то разумеет:
Языка у нас вовеки
Вырвать не посмеет.
Пусть нечистой силы будет
Более сторицей!
Бог за нас и нас покроет
Мощною десницей.
Пусть играет ветер, буря,
С неба грозы сводит,
Треснет дуб, земля под ними
Ходенём заходит!
Устоим одни мы крепко,
Что градские стены,
Проклят будь, кто в это время
Мыслит про измены!
АНДРЕЙ СЛАДКОВИЧ. Перевод со словацкого.
Андрей Сладкович (Браксаторис) (1820–1872). — Словацкий поэт. Евангелический священник; происходил из семьи учителя, патриота и поклонника литературы. Учился в Братиславском лицее, изучал теологию и философию в Галльском университете, где с помощью студентов из России познакомился с русской литературой, с творчеством Пушкина. Во время революционных событий 1848 года подвергался гонениям, был арестован.
Наиболее значительные произведения Сладковича — поэма «Марина» (1844), посвященная возлюбленной поэта, с которой он был разлучен, и эпическая поэма о национально-освободительной войне словаков в XVIII веке— «Детван» (1846); А. Сладкович написал также много стихов, в которых особенно ярко проявился его талант импровизатора.
Лирическая поэма «Марина» была первым крупным поэтическим произведением, созданным на словацком литературном языке; написанная в форме коротких стихов, посвященных любимой, родине и народу, поэма созвучна колларовской «Дочери Славы» и остается центральным произведением словацкого романтизма.
МАРИНА. (Фрагменты из поэмы). Перевод М. Зенкевича.
*
Марина, громы ураганов
Моей души не устрашат,
Не страшен мне из недр вулканов
Извергнутый подземный ад.
Я не боюсь кровавой сечи,
И даже роковые встречи
Со смертью не затмят мне свет,—
Но может мир разрушить целый
В моей душе, как молний стрелы,
Одно твое решенье: «Нет!»
*
Могу к губам твоим не прикасаться,
Могу руки твоей не пожимать,
Могу, тоскующий, вдали скитаться,
Могу тебе немилым стать,
Могу изныть я, жаждою томимый,
Могу тужить с несчастьями моими,
Могу бродить в пустыне, нелюдимый,
Могу не жить с живыми,
Могу себя, изверясь, погубить,—
Но не могу тебя я не любить!
*
Юная Словакия, родная,
Ты, приют могил укромных,
Мне два образа дала, внушая
Две любви огромных!
Как любимая моя прекрасна,
Как любовь моя к ней пылко-страстна,—
Так в любви ты с ней едина.
Как прекрасен юный край родимый,
Мною страстно, горячо любимый,—
Так прекрасна и Марина!
*
О, прощай, народ родной, любимый,
О тебе и мысли и мечты!
Помни, что весь мир необозримый
Смелым душам открываешь ты.
Всей душою о тебе радея,
Я хочу служить святой идее,
Жить, как сын, с тобой повсюду.
Разделю с тобой твои все беды,
А могучие твои победы
Я встречать с восторгом буду!
ЯНКО КРАЛЬ. Перевод со словацкого.
Янко Краль (1822–1876). — Вошел в словацкую литературу не только как один из самобытных поэтов, но и как революционер, сторонник насильственного изменения общественного устройства в интересах трудящегося большинства. Родился в семье трактирщика; изучал право в Братиславском лицее, затем в Пеште, где сблизился с радикально настроенными деятелями венгерской революции, группировавшимися вокруг Шандора Петефи и Михая Танчича. Учась в Братиславе, Краль дружил с Л. Штуром (1815–1856), идеологом национально-освободительного движения в Словакии, однако вскоре разошелся с ним и его сподвижниками, не разделявшими радикальных взглядов Я. Краля.
Поэт участвовал в революционных событиях 15 марта 1848 года в Пеште и тут же отправился на родину поднимать крестьян на восстание против помещиков; едва не был повешен и провел год в тюрьме. После подавления революции занимался адвокатской практикой, почти не писал, жил в бедности.
Все созданное поэтом приходится на 40-е годы, это — оставшаяся незавершенной поэма о легендарном словацком разбойнике «Яношик» (1843–1846), задуманная как поэма о крестьянской революции, цикл философско-лирических стихов «Драма мира» (1844–1845), поэмы, баллады, песни; при жизни поэта было опубликовано сравнительно немногое, большая часть наследия увидела свет лишь в наше время.
СВАДЬБА[345]. Перевод Л. Мартынова.
[345].
Духи героев из мрака восстали,
Это — славянского мира герои;
Вижу Конарского пламенный дух,
Дух Лукасинского[346] передо мною;
Вижу и Пестеля и Муравьева,
Движутся в мощи и славе столетий
Сонмы бойцов. Вот она — Русь святая,
Вот они — Польши отважные дети!
К свадьбе готовятся. С родственным жаром
Руки друг другу призывные тянут,
Гробы священные подали голос:
Новые дни в этом мире настанут!
Солнце ласкает Москву и Варшаву,
Будит народы гром канонады;
Адская свадьба: этот повешен,
Этих в Сибирь волокут без пощады,
Этот захвачен при бегстве с отчизны,
С этого кожу кнутами сдирают.
Смотрит славянство — и взор свой отводит,
Страшный ответ на устах замирает.
Смотрит славянство — и взор свой отводит,
Не проронили ни звука славяне:
Тот на восток глядит, этот — на запад,
Словом — одно гробовое молчанье.
Мир встретил смерть нашу радостным шумом,
По погодите, палач и любитель
Зрелища казни! Еще засверкает
Страшный ответ. Час придет! Победитель
Мыслит в своем закоснении скотском,
Что не услышит он слов от немого.
Знаю — немой за себя сам ответит,
Всех на земле поразит его слово!
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ[347]. (Поется весело). Перевод Н. Стефановича.
[347].
Солнце встало — край родной неузнаваем.
Так вперед же! Мы свободу добываем.
Это вольности простор сверкает новый,
Это рабства разрываются оковы.
Солнце встало и над нашими полями.
Тот подлец, кто не пойдет сегодня с нами.
Слишком долго палачи нас истязали,
Так подняться нам, словаки, не пора ли?
Ведь росой еще покрыты травы эти,
Торопитесь же скосить их на рассвете.
Вести с юга прилетели к нам в долину.
Кто ж на барщине сгибать посмеет спину?
Соберемся же, сплотимся же, словаки,—
Нам свободы не добыть себе без драки.
Никого не побоимся, встанем смело,
С нами бог, и справедливо наше дело!
ПАВОЛ ОРСАГ ГВЕЗДОСЛАВ. Перевод со словацкого.
Павол Орсаг Гвездослав (1849–1921). — Поэт родился в обедневшей дворянской семье, занимавшейся крестьянским трудом, учился в венгерской гимназии, изучал право в Прешове, практиковал как юрист. Печататься начал еще во время учения (писал по-венгерски); первый стихотворный сборник, «Поэтические первоцветы» (1868), написан по-словацки. Поэт, мечтавший о Словакии, где «не будет угнетенных и забитых», оставил богатое наследие: поэмы «Жена лесника» (1884), «Бутора и Чутора» (1888), «Эжо Влколинский» (1890), «Габор Влколинский» (1897–1899), в которых воссоздает правдивую картину социального неравенства в современной Словакии, сборники интимной, пейзажной и гражданской лирики — «Сонеты» (1882–1886), «Псалмы и гимны» (1882–1892), «Молодые побеги» (1885–1893), «Весенние прогулки» и «Летние прогулки» (1898–1900), антивоенный цикл «Кровавые сонеты» (1914) и многое др.
Гвездослав был блестящим переводчиком западноевропейской и русской поэзии. Его произведения знали и переводили в России еще в XIX в.
«Все снегами замело…»[348]. Перевод М. Зенкевича.
[348].
Все снегами замело,
Все вокруг белым-бело,
Небо — льдистое стекло.
Стелется повсюду мгла,
Пышным саваном легла,
Кружевной покров сплела.
Каждый сломанный сучок
Распушился, как цветок,
Дом от дома стал далек.
Словно пленники тюрьмы,
В платье снежном сходим мы
В преисподнюю зимы.
Там, от холода бледны,
Мы сидим, заключены,
До пришествия весны.
Где же солнышко? Эгей!
Иль его в снегах полей
Схоронил мороз-злодей?
Иль оно ушло от нас,
Иль зажмурило свой глаз?
Или свет его угас?
Пол и своды потолка…
Пусто, радость далека…
Одиночество, тоска!
Давит сумрак пустоты,—
Муза, не усни хоть ты,
Дай нектар мне, мед мечты!
* * *
«В царство лесное!..»[349]. Перевод Ю. Вронского.
[349].
В царство лесное!
В зеленом настое
Я сердце омою и боль успокою.
У леса есть свойство лечить беспокойство,
Чтоб люди забыли про боли любые.
В царство лесное!
Опять предо мною
Причастные чуду и с тайной повсюду
Палаты без солнца. В них нет ни оконца,
Зато в них такое величье покоя!
В царство лесное!
Где пахнет сосною,
Где только вглядеться — и встретится детство,
Где сказка живая бредет, напевая,
По сумрачной чаще, легендой звучащей.
В царство лесное!
И вот колдовское
Вдыхаю дыханье и жажду признанья,
Что молод я снова, но чаща сурово
Свистит мне: спесс-сивый, и шепчет: плешш-шивый.
НЕ БУДЕТ УГНЕТЕННЫХ И ЗАБИТЫХ[350]. Перевод Ю. Вронского.
[350].
Eser zsibbadt vagyboll mert nem lesz,
Vegiil egy eros akarat,
Hiszen magyar, olah, szlav banat.
Mindigre egy banat marad[351].
Ади[352].
Ты прав, герольд грядущего: нам нужно
Скорей желанья наши слить в одно
Великое и грозное желанье.
Сегодня все мы жалуемся дружно,
Но завтра, может быть, уж не стенанье,
А счастье будет нам судьбой дано.
Да, для беды слова у всех иные,
Сама ж беда у всех у нас одна.
И раз она, племен не различая,
Как жерновом, согнула наши выи,
То верою одной судьба лихая
Соединить нас разве не должна?
Мы все стенаем в горьком исступленье,
Мы все взыскуем радостных долин. —
Объединимся же в единой воле,
Объединимся в жажде искупленья,
Восстанем против этой жалкой доли…
Народ земли, страданий исполин!
Мы здания опора и основа,
Не мостовая, как кричит лакей,
Господский прихлебатель, сын Иудин.
Мы пчелы, мы не трогаем чужого,
И раз ты мед носить не хочешь, трутень,
Так издыхай же с голоду скорей!
Мы стены башни, тянущейся в небо,
Мы судно, что в Колхиду держит путь,
Мы рычаги извечного стремленья.
А где же мзда, где наша доля хлеба,
Где право на духовное горенье?
Мы их возьмем, с пути нас не свернуть!
И это слово колоколом гулким
Должно однажды сотрясти оплот
Корысти, злобы, эгоизма, спеси.
Оно дойдет в любые закоулки.
И солнце правды города и веси —
Всю землю светом радостным зальет!
Не будет «угнетенных и забитых»,
И долг и право встанут наравне.
Лишь тот, кто для людей придет трудиться,
Из-за стола наград уйдет средь сытых.
И языки народов, словно птицы,
Оповестят отчизну о весне!
ШВЕЙЦАРИЯ.
АЛЕКСАНДР ВИНЕ.
Александр Вине (1797–1877). — Поэт, литературовед, один из первых национальных швейцарских франкоязычных писателей. Профессор теологии в Базельском и Лозаннском университетах, преподавал также историю литературы. Выступал за отделение церкви от государства, в 1845 году стал одним из вождей движения, приведшего к основанию так называемой «Независимой церкви».
Перу Вине, помимо философской лирики и теологических исследований, принадлежат работы по истории французской литературы.
РОДНАЯ СТРАНА. Перевод с французского Н. Стрижевской.
Благословенная земля!
Укрыта цепью гор от бури,
Под солнцем тучные поля,
Озера, полные лазури…
Таким я представляю рай,
Мой милый край.
Здесь колыбель моя, мой дом,
Здесь мать меня встречает ныне,
Здесь спит отец мой вечным сном.
Тебе я поклоняюсь, как святыне,
Ты сына своего узнай,
Мой милый край.
К тебе вернусь я в трудный час,
Нет у меня иной опоры,
Здесь юношей бродил я столько раз,
Как мне милы твои просторы!
Вовек в моих очах не исчезай,
Мой милый край.
В душе лик родины святой
Я уношу с собой далеко,
И речь твоя везде со мной,
И с ней не так мне одиноко…
Своих детей от горя охраняй,
Мой милый край.
Я небо за тебя молю,
Живи счастливо и беспечно,
Пусть любит бог тебя, как я люблю,
Пусть будет щедр к тебе он вечно.
Являй, как прежде, взорам рай,
Мой милый край.
ЖЮСТ ОЛИВЬЕ. Перевод с французского Н. Стрижевской.
Жюст Оливье (1804–1876). — Поэт, литературовед, историк, писал на французском языке. Выходец из крестьян. Профессор литературы в Невшателе, позднее профессор истории в Лозанне. После швейцарской революции 1845–1847 годов переселился в кантон Ваадт, затем в Париж, где жил до 1870 года, после чего вернулся в Швейцарию (в Женеву). В поэзии Оливье был певцом Швейцарии, ее природы и простой крестьянской жизни (отчего французская критика сочла его стихи «провинциальными»).
Первый сборник Ж. Оливье — «Швейцарские стихи» — вышел в 1830 году, за ним последовал сборник «Два голоса» (1835). Поздние стихи Оливье разбросаны по журналам и альманахам и до сих пор не собраны.
ШВЕЙЦАРИЯ.
Друзья мои, в любых краях чудесных
К себе отчизна призывает нас,
И на родной земле средь круч отвесных
Мы все хотели б встретить смертный час.
Вершины гор прекрасны бесконечно,
Как башни, скалы взмыли в высоту…
Тебя, тебя любить мы будем вечно,
Швейцария, Швейцария в цвету!
Как в древности, опять идет свобода
Среди высоких сосен босиком,
И глас ее яснее год от года
В раскате грома слышится глухом,
И отвечаем мы чистосердечно
На эхо, на призыв и на мечту:
«Тебя, тебя любить мы будем вечно,
Швейцария, Швейцария в цвету!»
ПО ВЕЧЕРАМ.
По вечерам, когда в окно глядим в молчанье
И тени медленно густеют по углам,—
Забытых слышится напевов нам звучанье
По вечерам.
По вечерам, когда уже и старость рядом,—
Мы детства нашего внимаем голосам,
Картины прошлого плывут пред нашим взглядом
По вечерам.
По вечерам, когда вдвоем сидим без света
И песнь свою любовь поет тихонько нам,—
Прекрасней ничего нет, чем минута эта
По вечерам.
ГОТФРИД КЕЛЛЕР. Перевод с немецкого.
Готфрид Келлер (1819–1890). — Выдающийся прозаик и поэт; писал на немецком языке. Сын токаря. После смерти отца поступил в школу для бедных. В 1840–1842 годах учился в Мюнхенской академии художеств. В 1842 году возвратился в Швейцарию и, оставив живопись, обратился к литературе. В эти годы Келлер сближается в Цюрихе с немецкими демократами-эмигрантами, в том числе с Гервегом (см. в настоящем томе). Под их влиянием Келлер создает сборник «Стихотворения» (1846), содержащий революционные мотивы. В 1848 году молодой поэт получает от либерального правительства своего кантона стипендию для поездки в Гейдельберг, где слушает лекции по истории, философии, литературе (в том числе лекции Л. Фейербаха). В 1850 году переезжает в Берлин, где в период с 1850 по 1855 год создает произведения, принесшие ему славу в странах немецкого языка: роман «Зеленый Генрих» (см. т. 88 БВЛ), «Люди из Зельдвилы», «Новые стихотворения». В 1855 году возвращается на родину, пишет многочисленные новеллы и роман «Мартин Саландер».
В современной Швейцарии одна из наиболее значительных ежегодных литературных премий носит имя Готфрида Келлера.
БЕЗМОЛВИЕ НОЧИ. Перевод Арк. Штейнберга.
Сойди на росные холмы,
О ночь! Излей свой бледный свет!
Вам, звезды, средь вселенской тьмы
Мерцающие, — шлю привет!
Извечные хребты земли
Молчат, как мой псалом ночной,
И за грядою гор, вдали,
Пучина в берег бьет волной.
Мне ветер западный несет
Свирельный зов, прощальный взмах,
Но вестник дня уже с высот
Восточных засквозил впотьмах.
Сдается, умер кто-нибудь
Сейчас, предутренней порой,
Иль к нам дитя пустилось в путь,—
Желанный, будущий герой.
Но дышит мглистый дол такой
Неизъяснимой тишиной,
Что мнится: благо и покой
Владеют всей землей и мной.
И под наплывом этих сил
В душе — ни боли, ни тревог:
Как будто наконец открыл
Свое мне имя ветхий бог.
ВЕЧЕРНИЙ ДОЖДЬ. Перевод Арк. Штейнберга.
Искрясь в закатном свете алом,
Пролился крупный дождь слепой
Над грустным путником усталым, Бредущим узкою тропой;
И капли на свету сверкали,
И скорбно чувствовал ходок,
Как по щекам они стекали,
Рождая сладкий холодок.
Он молвил: «Радуга высоко
Венец воздвигла надо мной
Затем, что солнце издалека
Взирает на мой путь земной.
Знакомцам и друзьям заветным
Не виден близкий небосклон,
Где всепрощеньем семицветным
Я примиренно озарен.
Но если будущее глянет,
Как солнце, в сумрак наших дней,
Тогда и тень моя восстанет,
И радужный венец над ней!»
ВЕЧЕРНЯЯ ПЕСНЬ. Перевод Б. Слуцкого.
Глаз моих открытое окно,
Что свой свет мне дарит так давно
И картины мира заодно!
Станет в нем когда-нибудь темно.
Свет погаснет навсегда в глазах,
И душа, забыв былой размах,
Пыль дорог стряхнет с себя впотьмах
И осядет в мрачных сундуках.
Только два дрожащих огонька
Будут мне светить сквозь облака,
Не погаснут, не замрут пока,
Словно от пролета мотылька.
Пейте, взоры, сладкий жизни сок,
Все, что я вобрать душою смог
В странствиях вдоль полевых дорог
На звезды падучей огонек!
АНРИ ФРЕДЕРИК АМЬЕЛЬ. Перевод с французского.
Анри Фредерик Амьель (1821–1881). — Прозаик и поэт, писал на французском языке. Родился в семье выходцев из Франции, изучал немецкую литературу и философию в Женеве и Берлине (1843–1848 гг.). После путешествий по Франции и Италии в 1849 году становится профессором эстетики в Женевской академии (позднее — Женевский университет).
При жизни Амьель печатался немного. Им опубликованы критические эссе, философские стихотворения, переводы с немецкого и английского. Как поэт считается классиком швейцарской франкоязычной литературы, его произведения изучаются в средних школах; его перу принадлежат самые известные песни французских швейцарцев.
После смерти писателя большую известность завоевал его многотомный «Дневник» (1847–1881), оказавший влияние на всю последующую французскую мемуарную литературу.
ИСПЫТАНИЕ ТАЛАНТА. Перевод В. Швыряева.
Искусство велико. Его леса
Таинственные манят неофита.
Смелее, посвященный! Дверь открыта,
И лестница ведет на небеса.
Оно не только праздничный чертог.
Равно прекрасны дуб и незабудка.
И песне, что насвистывает дудка,
Послушно вторит благородный рог.
Всегда храни достоинство и честь.
Порой душа, влюбленная в искусство,
Призваньем называет это чувство.
А как с талантом? Он и вправду есть?
Порою дураком слывет пророк,
А перлом остроумья — прибаутка.
Когда в почете пребывает дудка,
Никто не слышит благородный рог,
Упорен будь, коль знаешь, что силен.
Трудись! Искусства нет без огорченья.
Напрасны могут быть твои мученья.
Талант не только в силе заключен.
Гни лук, но не ломай! И мощь не впрок,
Когда выходит из границ рассудка.
Запомни: как бы ни старалась дудка,
Стократ мощнее благородный рог!
Искусство велико, искусство ждет.
Ему потребен жрец неутомимый.
В нем сильный обретает храм незримый,
Но слабый лишь могилу обретет.
К тому, кто лжет, вопрос искусства строг:
«Чего ты хочешь? Нет! Что можешь? Ну-тка!»
Когда тебе по силам только дудка,
Оставь в покое благородный рог!
УТРАТА РОДИНЫ. Перевод Н. Стрижевской.
Не отрывай себя от почвы никогда,
Где дуб посажен, там он вырастает,
Дом новый обретешь, отчизну никогда,
Цветок от пересадки засыхает.
ПРАЧКИ. Перевод Н. Стрижевской.
Чьи в этот час стучат вальки?
Иль это ветра завыванье?
Ты слышишь плеск и полосканье
В ольховой роще у реки?
Мерещится ль мне взмах руки?
Иль это лунное сиянье?
Там тени — иль из легкой ткани
Стирают девушки платки?
Прочь, путник! Уходи скорей!
Не мешкай и стоять не смей,
Работой прачек очарован.
Во тьму внимательно взгляни,
Над чем склоняются они:
Тебе там саван уготован!
ДУША ВОДЫ. Перевод Н. Стрижевской.
Непостоянна, словно пена,
Душа волны, — то холодна,
То ласкова, кротка, нежна,
Добра и зла попеременно.
Ее страстей игра и смена
Неукротима и темна,
Лишь ветру ведома она,
Непостижима и надменна.
«Прощай» — звучит на берегу,
Летит, сверкает на бегу,
Струй синеву перевивая,
И радугу увидишь ты,
Сияет в ней душа воды
И женщины душа живая.
ДВА ГРЕБЦА. Перевод Н. Стрижевской.
Боль с моим сердцем ужилась давно,
Ни днем, ни ночью с ним не расстается,
Задремлет боль — и отдохнет оно,
Проснется боль — сжимается и бьется.
Два каторжника на одной скамье,
Гребут вдвоем, пока еще есть силы…
Так разлучить и не удастся мне
Страдание и душу до могилы.
НА БЕРЕГУ МОРЯ. Перевод В. Швыряева.
На воды ночь сошла неторопливо,
Блестел на небосклоне рой светил,
Взбирались волны на берег лениво…
Внезапно бриз глаза мне увлажнил.
Похолодело сердце. Молчаливо
Лежал я на песке, лишившись сил.
Корабль земли, несом волной прилива,
Со мною вместе в беспредельность плыл.
И с палубы его, смятенья полный,
Я созерцал мерцающие волны
Сменяющихся световых лавин;
И, опьянен восторгом бесконечным,
Я слышал гимн миров, о властелин,
И музыку времен в эфире вечном!
ГЕНРИХ ЛЕЙТХОЛЬД. Перевод с немецкого В. Вебера.
Генрих Лейтхольд (1824–1879). — Поэт и переводчик, писал на немецком языке. Сын бедного альпийского пастуха. Учился в университетах Цюриха и Базеля, служил учителем в Лозанне. В 1857 году поселился в Мюнхене, где организовал «Мюнхенский кружок поэтов», в 1860–1864 годах — редактор «Южнонемецкой газеты» и «Швабской газеты». В конце жизни вернулся в Цюрих. В 1934 году книгу избранных стихотворений Лейтхольда составил и издал Герман Гессе. Лейтхольд известен также как один из крупнейших немецких переводчиков французской и античной поэзии.
ЛЕСНОЕ ОЗЕРО.
Как воды твои, озеро, ясны!
Голубизна, не тронутая тиной.
Лишь лилия ярчайшей белизны
Всплывает на груди твоей невинной.
Сеть не тревожит эту глубину,
И челн не беспокоит эти воды,
Лишь леса шум нарушит тишину,
Звуча как гимн величию природы.
Тебе цветы даруют аромат,
И плотно обступают сосны бора.
На их вершинах небеса лежат,
Как своды исполинского собора.
Так знал и я когда-то существо
С душой, столь сокровенной, что казалось,
Она на свете только для того,
Чтоб в ней, как в тайне, небо отражалось.
ЛИСТОПАД.
О развеянные песни,
Вы как листья в миг паденья,
Листья дерева, ни разу
Не узнавшего цветенья.
О развеянные листья,
Зимней неги обещанья,
Мягко падая, укройте
Мертвые мои желанья.
ОТЧЕГО?
Всех загадочней на свете
Звезды милых карих глаз!
Что уста скрывают эти —
Как мне выведать у вас?
Если мне в глаза глядите
С голубиной чистотой,
Как спокойствие храните
Вы, укравшие покой?
КОНРАД ФЕРДИНАНД МАЙЕР. Перевод с немецкого.
Конрад Фердинанд Майер (1825–1898). — Выдающийся поэт и прозаик, писал на немецком языке. Родился в старинной дворянской семье. Изучал в Лозанне и Цюрихе юриспруденцию, историю и философию; интенсивно занимался живописью. К литературному труду обратился сравнительно поздно, в 60-е годы. Первые литературные публикации (переводы с французского, в 1864 г. — собственные стихи) появились анонимно. С 1877 года постоянно жил в Кильхберге, близ Цюриха.
Выросший в обстановке двух языков (родного немецкого и французского, который он знал, как родной), К.-Ф. Майер долго не мог решиться, какой из этих двух языков ему выбрать для литературной деятельности. Лишь изданный в 1882 году сборник избранных стихотворений Майера принес ему подлинную поэтическую славу. К.-Ф. Майер известен как большой мастер исторической новеллы (как в поэтическом ее жанре, так и в прозаическом). Широко известен его роман из швейцарской истории «Юрг Енач». В 1939 году дочь писателя Камилла Э. Майер учредила премию К.-Ф. Майера, которая раз в два года вручается деятелям литературы и искусства.
ВЕСЛА Я СУШУ НА СОЛНЦЕПЕКЕ. Перевод В. Топорова.
Весла я сушу на солнцепеке,
Капли с них срываются в потоки.
Ничего не жаль! Ничто не в радость!
Пена дней — не горечь и не сладость.
А внизу, во тьме, в речной пучине,—
Все, что помню и люблю поныне.
Хоть вчерашний день уже не знает,
Кто его на свете поминает.
МИР НА СВЕТЕ. Перевод В. Топорова.
Ранним утром, на рассвете,
Шли Мадонне яснолицей
И Младенцу поклониться
Пастухи, забыв стада.
Ведь послышалось тогда —
Это ангелы запели,
Это звезды зазвенели:
«Мир на свете! Мир на свете!»
Но с тех пор — о, боже правый! —
Блещет меч во тьме кровавой,
Свищут стрелы, хлещут плети,
Гибнут люди, льется кровь…
И поют всё вновь и вновь
То с надеждой, то с укором
Божьи духи светлым хором:
«Мира… мира… ждут на свете!»
Но не меркнет в людях вера,
Что и мукам — будет мера,
Что за все страданья эти
Им воздастся — и сполна!
Справедливость быть должна
В смуте жизни, в бездне срама —
И она воздвигнет храмы,
И настанет мир на свете.
Справедливость — пусть не сразу —
Злую выведет проказу,
А несправедливость встретя,
Смело в бой пойдет она.
И воспрянут племена,
И поднимутся народы,
Возвестив до небосвода:
«Мир на свете! Мир на свете!»
МИКЕЛАНДЖЕЛО И ЕГО СТАТУИ. Перевод В. Швыряева.
Твой рот открыт, несчастный раб,
Но стоны не слетают с губ.
Мыслитель, на твое чело
Не давит каменный покров.
Рукою бороду схватив,
Вскочить ты хочешь, Моисей,
Но безмятежен твой порыв.
Мария с мертвым сыном, ты
Рыдаешь, но не видно слез.
Вы символ горя, но оно
Безгорестно для вас самих.
Вот так освобожденный дух
Глядит на муку бытия:
Живым она приносит боль,
Но камень делает живым.
Увековечивая миг,
Вы умираете, но смерть —
Бессмертья вашего залог.
А в тростниках Харон мой ждет,
Бег времени остановив.
РОЗА НЬЮПОРТА. Перевод В. Швыряева.
Спешился всадник, цветами осыпан,
Локоны дивные пали на плечи,—
Уж не весну ли принес конь крылатый?
Юношу Карла, британского принца.
В золоте майского воздуха быстро
Ньюпорта стены к нему приближались,
Герб городской над воротами: роза!
Флаги ликуют на улочках тесных.
Шумная юность беспечно пирует,
Радостью Стюарта сердце наполня:
Там, под цветущими липами рынка,
Юные девы ведут хороводы.
Принцу прекраснейшая преподносит
Ньюпорта розу с улыбкой сердечной:
«И да пребудет с тобою отныне
Ньюпорта роза, символ благостыни!»
Утром шептали цветущие липы
Сказку о Ньюпорта розе увядшей.
Спешился всадник, весь снегом осыпан,
Волосы спутаны и поседели,—
Уж не зима ль этот мрачный бродяга?
Карл, что с британского свергнут престола.
Видит он кровь, что народ обагрила,
Скачет по краю разверзшейся бездны,
И приближаются в белой метели
Ньюпорта стены знакомые быстро,
Герб городской над воротами: роза!
Нет ликованья, и флагов не видно.
Стук молотков и напильников скрежет.
Стиснуто каменной дланью страданья,
Стонет опального Стюарта сердце:
Там, под озябшими липами рынка,
Мальчик засохшую розочку держит
И подает королю со словами:
«И да пребудет с тобою отныне
Ньюпорта роза, символ благостыни!»
Карл, похудевший, бесплотный, как призрак,
Молча пронзительным взглядом окинув
Детское шествие, в зеркале скорби
Собственный лик с содроганием видит.
Утром шептали озябшие липы
Сказку о том, что король обезглавлен.
ЭЛИДЖИО ПОМЕТТА.
Элиджио Пометта (1865–1954). — Поэт, литературовед и историк, один из первых швейцарских италоязычных писателей. Жил в Лугано, Милане, Риме. Первые поэтические публикации Пометты относятся к 80-м годам XIX века; в более поздние годы от поэзии отошел и завоевал известность как крупный историк литературы.
ЗАКАТ В ЛОМБАРДИИ. Перевод с итальянского А. Баранова.
Внизу — миндаль, цветущий под балконом,
Листы изящно-робкие простер,
И тянется земля ковром зеленым
В величественный круг Альпийских гор.
На горизонте, в блеске растворенном,
Пик Монтерозы врезался в простор —
В немых долинах, по пустынным склонам
Ко сну отходят горцы с этих пор.
И в том, как тени падают косые,
Как башни совершают свой подъем,
Рождаются гармонии святые.
И кровли Альп сверкают в хоре том,
Как будто бы оранты[353] Византии
Вздымаются на фоне золотом.
ШВЕЦИЯ.
ЭСАЙАС ТЕГНЕР.
Эсайас Тегнёр (1782–1846). — Крупнейший поэт шведского романтизма, родился в семье сельского священника. В 1799 году поступил в Лундский университет; с 1812 года — профессор кафедры греческого языка. Ранние произведения Тегнера написаны в традициях академической школы. Славу национального поэта приносит Тегнеру патриотическое стихотворение «Боевая песнь сконского ополчения» (1809), написанное в то время, когда южным областям Швеции угрожала опасность со стороны Дании; за это стихотворение Тегнер удостаивается премии Шведской Академии. В 1812 году Тегнер примыкает к Готскому союзу, объединению писателей и поэтов, стремившихся воскресить дух свободы и мужества предков. В журнале «Идуна» Тегнер публикует ряд стихотворений, посвященных Наполеону, прославляющих величие человеческого гения, силу разума, героические деяния. Большое место в творчестве Тегнера занимает тема природы. Поэт стремится к простоте, ясности, пластичности. Художественные устремления Тегнера воплощаются в поэмах «Первое причастие» (1820) и «Аксель» (1822), а также в многочисленных стихотворениях 20-х годов.
Ярким выражением гуманизма и демократизма Тегнера явилась поэма «Сага о Фритьофе» (1825), написанная на материале древнеисландской «Саги о Фритьофе Смелом». Образ крестьянина-викинга Фритьофа, наделенного чертами романтического героя, воплощает в себе идеи свободолюбия, бесстрашия и справедливости. В 30-е годы творчество Тегнера окрашено настроениями безысходности, чему способствовало душевное заболевание поэта.
На русский язык неоднократно переводилась поэма Тегнера «Сага о Фритьофе». Первый перевод поэмы, заслуживший высокую оценку В. Г. Белинского, был осуществлен в 1841 году академиком Я. К. Гротом (1812–1893).
ПРОЩАНИЕ. Перевод А. Парина.
Прощай, о лира! Мне пришел конец.
Уснешь и ты, уснет и твой певец.
Ты боль мою развеивала смехом,
Из северного сердца гулким эхом
Летела песнь, рождая пламена
В сердцах. Но пробил час — черта подведена.
Я пел деянья Фритьофа и Свею,
Природу пел, пред ней благоговея,
Я пел людей, и в божью высь глядел,
И жил на деле, только если пел.
На юг летел холодный дух Борея,
И часто ныло сердце, леденея,
Но многоустый жар его согрел.
Не знаю, жизнь в уме перебирая,
Чего в ней больше — ада или рая.
Ты мне была гербом — не знал иного,
Была щитом — иного не носил.
Мы покоряли мир оружьем слова,
Мы шли вперед, пока хватало сил.
Но над могилами щиты разбиты,
И ныне час настал последнему из свиты.
Прощай, мой стих, душа души свободной,
Прощай навек, прощай, о небородный!
Ты был мне истиной, ты был добром —
Но час настал, я покидаю дом.
Я жил, лишь одному тебе подвластный,—
В лазури в этот миг маячишь ты, безгласный!
Настанет день — крушащего, как гром,
Сказителя взрастит мой прах остылый.
Он в трубных звуках станет петь о том,
Чего допеть мне недостало силы,
И он прославится, векам поведав
О нескудеющем величье шведов.
Да, мне конец, но песням Свеи — литься,
Их дух на крыльях дерзостных стремится
В былую высь. Бесстрашья в этот час
В борьбе и песнях люди ждут от нас.
Бесстрашье — как свеченье золотое
Над головой серебряной героя.
Дух Густава живет меж нас досель,
Хоть и смягченный. Дней грядущих цель —
Триумфы и победы. Свято верьте!
Вперед! Вершины не покорены!
Победа — дочь бесстрашья. Мы должны
К вершине всех вершин идти до самой смерти.
Прощай! Я кончу тем, с чего я начал.
Мой стих, не ты ль для сердца больше значил,
Чем жизнь моя? Ты — жизни соль и суть.
Прости! Пора идти в далекий путь.
Уж поздно, братья! И в последний раз
Окину взглядом дом и своды неба.
Прощайте! Недалек свиданья час.
Увяньте на челе, о лавры Феба!
Умри в гортани, мой последний сказ!
ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ. Перевод Ю. Вронского.
Все пальмы над Нилом лишились теней,
А солнце палит все сильней и сильней…
О, как мы тоскуем по отчему краю!
Нас Север зовет! Мы слетаемся в стаю,
И вот уж под нами, на солнце горя,
Земля зеленеет, синеют моря.
Там штормы бушуют, там буйствуют бури,
А мы, словно тучки, скользим по лазури.
Высоко в горах расстилается луг.
Спускается стая. Пустынно вокруг.
Там яйца кладем мы под ласковым взглядом
Полночного солнышка, с полюсом рядом.
Ни зверь, ни охотник тех мест не сыскал,
Лишь гномы там золото ищут средь скал,
Крылатые эльфы играют там в салки
И бродят в зеленых нарядах русалки.
Но вот возвращается стужа опять
И снежным крылом начинает махать.
И всюду бело, лишь рябины багряны,
И мы собираемся в теплые страны.
К лугам зеленеющим, к теплым волнам
И к пальмам пора уже трогаться нам.
И там, отдохнув от похода большого,
Начнем тосковать мы о Севере снова.
ВЕЧНОЕ. Перевод А. Парина.
Насилье секирою строит свой мир,
Орлом его слава ширяет.
Но миг — и осколки летят от секир,
И стрелы орлов усмиряют.
Насилье невластно творить на века,—
Как буря в песках, его власть коротка.
Ведь истина с нами — меж пик и секир
Стоит и спокойно и строго.
Пред ней — пустотою пугающий мир
И к миру иному дорога.
Ведь истина вечна: из рода в род
Глагол ее вечным потоком течет.
И вечно живет справедливость — ее
Не вытоптать злобной ораве.
И в мире, где власть завоюет зверье,
Ты алкать справедливости вправе.
Обступят тебя и насилье и ложь —
Но ты справедливость в душе сбережешь.
И воля в груди, чей огонь не угас,
Чье мужество — бога орудье,
Даст мощь — справедливости, истине — глас,
И встанут к свершениям люди.
Все жертвы твои и лишенья летят,
Как звезды, из Леты и строятся в ряд.
Стихи — многоцветью цветов не чета
И радуге в пестром свеченье,
Не прах — воплощенная в них красота
И взглядам несет просветленье.
Прекрасное вечно: как в толще морской,
Мы во времени ищем песок золотой.
Возьми справедливость и истину в путь,
Твори красоту вдохновенно.
Всем трем — не погибнуть и не обмануть,
К ним тянется дух неизменно.
Что время дарует — то дар твой вернет.
Лишь вечное в сердце поэта живет.
КАРЛ ЮНАС АЛЬМКВИСТ. Перевод И. Бочкаревой.
Карл Юнас Альмквист (1793–1866). — Шведский поэт, писатель, драматург. Родился в Стокгольме. После окончания Упсальского университета сотрудничал в газетах либерального направления. В 1823 году женился на крестьянской девушке и поселился в Вермланде, но экономические трудности заставили поэта вернуться в Стокгольм. В 1851 году Альмквист покидает Швецию и проводит четырнадцать лет в США. После возвращения и Европу в 1865 году поселяется в Бремене и через год умирает.
Творчество Альмквиста, включающее в себя произведения различных литературных форм (поэма «Аморина», 1822; аллегорическая сага «Ормус и Ариман», 1823; повесть из крестьянской жизни «Мельница в Шельнуре», 1838; романы «Это касается», 1839, «Три госпожи Смоланна», 1842–1843, и др.). развивается от романтизма к реализму.
На русский язык переводились повести Альмквиста, а также стихотворение «Песнь воспоминаний» (в кн.: «Поэты Швеции». СПб., 1899).
ПЕСНЯ РЫБАКА С БЕРЕГОВ КАЛЬМАРА.
Скорей, скорей домой,
Дорогой волновой
В камыш береговой!
И пестрых, пестрых сигов,
Лососей, щук, плотву
Я высыплю, как золото, в прибрежную траву.
Пускай, пускай угрями,
Навагой и хамсой
Сверкает луг зеленый,
Как дорогой парчой.
Плыви, плыви, рыбарь!
И молодой и старый
Рыбарь на море — царь!
Вдали от родных берегов,
С морем один на один
Он ветрам господин.
Но лишь кончится лов,
Как от мрачных валов
Он, подхлестнут тоской,
Поспешает домой:
В нем сердце изныло,
Все сделалось мило,
Все дразнит душу —
И песни, и пляски, и женские ласки!
На сушу, на сушу, на сушу!
Добыт мой улов
У мрачных валов —
Дорогая цена
За него дана.
На родном берегу,
На зеленом лугу
Ждут и песни, и пляски, и ласки!
СЛУШАЮЩАЯ МАРИЯ.
Боже мой, о, как прекрасно
Услышать звук блаженных ангельских речей!
Боже мой, о, как мне сладко
Под эти звуки умереть!
Без страха дух мой взлетит с потоком,
С пурпурным темным потоком в небо.
Без страха сойдет душа, ликуя,
В живые, добрые руки бога.
ВИКТОР РЮДБЕРГ.
Виктор Рюдберг (1828–1895). — Шведский поэт, прозаик, философ, один из крупных представителей шведской культурной жизни XIX века. Рюдберг родился в городе Йёнчёпинге. С 1847 года сотрудничал в либеральных газетах; в 1851 году поступил в Лундский университет, но вскоре из-за недостатка средств вынужден был оставить ученье и вернуться к журналистике. Как писатель дебютировал романами «Вампир» (1848) и «Шарманщики» (1851). Интересны «романы-фельетоны» В. Рюдберга «Корсар на Балтике» (1857), «Сингуалла» (1857), «Последний афинянин» (1859), написанные под влиянием творчества А. Дюма и Э. Сю. В этих романах автор выступает против религиозного догматизма и нетерпимости.
Среди научных трудов Рюдберга выделяется книга «Учение Библии о Христе» (1862), пользовавшаяся большой популярностью в Швеции вплоть до конца столетия. Рюдберг опубликовал также ряд литературоведческих и искусствоведческих работ, много занимался переводами (комментированный перевод первой и некоторых эпизодов второй частей «Фауста» Гете и др.). В 1884 году он был назначен профессором истории культуры Стокгольмской Высшей школы. Либерал по убеждениям, Рюдберг пытался воплотить свои идеи в жизнь, когда в 1870–1872 годах был членом парламента.
В 1891 году Рюдберг опубликовал свой последний роман — «Оружейник», а в 1882 и 1891 годах выпустил два сборника стихов. Стихотворения Рюдберга, отличающиеся законченностью формы, построены, как правило, на материале античной истории, мифов, народных легенд, саг.
ОСЕННИЙ ВЕЧЕР. Перевод Л. Парина.
Солнце садится. В печали, медленно шествуют тучи,
Застя кипящую ширь, распластавшись над шепчущим лесом.
Плачут чайки над гладью шхер,
Кречет, облюбовав скалу,
Прячет клюв в обессилевших крыльях,
Нехотя чистит намокший пух.
Солнце погасло. Все гуще тени под кронами сосен,
Дремлет, закутавшись в мох, ручья потускневшая влага.
Изжелта-белые пятна лучей
Медлят на западных склонах холмов,
Гаснет прощальная ласка светила —
Крепнущей тени резная кайма.
Дождь заунывно бормочет долгую, грустную сказку —
Сказку, рожденную в муках мрачно настроенной тучей.
Берег кромсая, хнычет волна,
Жалуясь вслух на злодейство ветров,
И из глубин ошалевшего леса
Птицы в паническом страхе кричат.
И у подножья утеса, омытого черною влагой,
В оцепененье блаженном смотрит и слушает путник.
Внемлет ли сердце звукам шальным —
Песне, летящей в беззвездную ночь —
И одолеет ли боль и тревогу
Осени мощно звучащий псалом?
НИССЕ[354]. Перевод Ю. Вронского.
[354].
Ночь морозная. Звездный узор
В небе бездонном стынет.
Спит одинокий крестьянский двор
В снежной глухой пустыне.
Месяц проходит свой древний круг,
Дремлют белые поле и луг,
Дрёма всю землю объемлет.
Ниссе один не дремлет.
Серый, почти неприметный на взгляд,
Ниссе стоит у сарая,
Так же, как многие зимы назад,
Тот же простор озирая.
Смотрит на черный, безмолвный бор,
Двор обступивший, словно забор,
И на луну над поляной,
И о загадке странной
Он размышляет опять и опять
В призрачном лунном свете.
«Нет. Этой тайны не разгадать
Мне ни за что на свете».
И, как обычно, мысли о ней
Ниссе отбрасывает скорей.
Ночь на земле настала —
Ждет его дел немало.
Он проверяет при свете луны
Двери, замки, засовы.
В стойлах прекрасные летние сны
Смотрят сейчас коровы.
Спит и Буланка в конюшне своей.
Сено в кормушке. Забыты над ней,
Полной благоуханья,
Все дневные страданья.
Ниссе заходит проведать ягнят —
Спят ли, все ли на месте.
Смотрит в курятник, где куры сидят
В ряд на уютном насесте.
К Шарику в гости заходит потом.
Пес, просыпаясь, виляет хвостом,
Носом в карманах шарит —
Сахару просит Шарик.
После к хозяевам милым своим
Ниссе идет, безмятежный,
Муж и жена не скрывают, что им
Дорог их Ниссе прилежный.
Ну, а сейчас ребятишек черед.
Ниссе на цыпочках к детям идет.
Нет для него на свете
Зрелища лучше, чем дети!
Видит он: сын сменяет отца —
Снова знакомое чудо!
Век за веком — и так без конца.
Вся эта жизнь — откуда?
Род возникал, исчезал без следа.
Цвел, увядал, уходил. Но куда?
Снова загадка эта
Тщетно ждала ответа.
Вот и опять он в сарае сенном
Рядом со старой ивой.
Здесь он живет, под самым гнездом
Ласточки хлопотливой.
Пусто в гнезде, но наступит весна,
Все расцветет, и вернется она
С мужем щеголеватым
Снова к родным пенатам.
Будет о многом она щебетать,
По не поведает птица
Ниссе о тайне, что он разгадать
Столько столетий тщится.
Месяц сквозь щелку в стене сенника
Светит на бороду старика.
В призрачном этом свеченье
Он погружен в размышленье.
Мир застыл, молчалив и угрюм.
Лес — как глухая ограда.
Лишь издалёка слышится шум.
Слышится шум водопада.
Кажется Ниссе, будто ему
Слышно, как время струится сквозь тьму.
Где же начало потока?
Кто побывал у истока?
Ночь морозная. Звездный узор
В небе бездонном стынет.
Будет спать до рассвета двор
В снежной глухой пустыне.
Месяц проходит свой древний круг,
Дремлют белые поле и луг,
Дрема всю землю объемлет.
Только Ниссе не дремлет.
ЮХАН АВГУСТ СТРИНДБЕРГ. Перевод А. Парина.
Юхан Август Стриндберг (1849–1912). — Крупнейший шведский писатель и драматург конца XIX века. Родился в Стокгольме, сын крупного коммерсанта и служанки. В 1867 году Стриндберг становится студентом Упсальского университета, но из-за банкротства отца прекращает занятия. Меняет множество профессий: работает домашним учителем, актером, журналистом; в 1874 году получает место в Стокгольмской королевской библиотеке. Первые крупные произведения Стриндберга (историческая драма «Местер Улуф», 1872, и роман «Красная комната», 1879) отличаются острой критикой буржуазного общества и вызывают травлю писателя со стороны консервативной прессы. В середине 80-х годов выходят в свет сборники рассказов «Браки» (1884–1885), разоблачающие фальшь буржуазной семьи, а также «Утопии в действительности» (1885), написанные под воздействием идей утопического социализма и показывающие формирование человека будущего в современной жизни. В конце 80-х годов Стриндберг создает так называемые «натуралистические» драмы «Отец» (1887), «Фрекен Юлия» (1888) и др., вновь поднимая в них проблемы семьи и воспитания. В 1887 году выходит в свет автобиографический роман писателя — «Сын служанки». В 90-е годы Стриндберг испытывает на себе влияние декаданса, увлекается идеями Ницше, обращается к мистицизму. В 900-е годы Стриндберг создает ряд символико-экспрессионистских пьес, а также пьесы исторического содержания, в которых он возвращается к принципам реалистической драматургии. Поздние романы Стриндберга — «Готические комнаты» (1904), «Черные знамена» (1907) — также продолжают традиции реализма в творчестве писателя.
Поэтические произведения Стриндберга собраны в трех сборниках (1883, 1884, 1905). Стихотворения Стриндберга отличаются свежестью и новизной поэтических образов; поэт смело вводит в стихи разговорную речь, использует нерифмованный свободный стих.
Стихотворения Стриндберга на русский язык переводятся впервые.
СУББОТНИЙ ВЕЧЕР.
Ветер стих, светлы морские дали,
Спит ветряк, и паруса опали.
По раздолью пастбищ мирно бродит стадо,
Всё и вся отдохновенью радо.
Вальдшнепова зова ждет охотник,
Песни на гумне поет работник,
Крыльца чисты, и в саду порядок,
Ладен куст сирени, влажна почва грядок.
Притулились детские игрушки
В цветнике на травяной подушке,
Затаились стебли, мяч скрывая,
И рожок скрывает бочка дождевая.
Ставни глухи — встретить ночь готовы,
Заперты задвижки и засовы,
Мать семьи сама везде огонь потушит,
И ничто покоя не нарушит.
Ночь июньская тепла и дрёмна,
Сад раскинул свой шатер огромный.
Еле слышно волны зашумели —
В мертвой зыби отзвук бурных дней недели.
ЗАКАТ НА МОРЕ.
Улегшись в укромном углу корабля,
Курю «Пять синих братьев»
И не думаю ни о чем.
Море зеленое,
Темное, абсентово-зеленое,
Горькое, как хлористый магний,
Солонее, чем хлористый натрий,
И целомудренное, как йодистый калий;
И забвенье, забвенье —
Большие грехи и большие заботы
Предает забвенью лишь море
И абсент.
Ты, зеленое абсентовое море,
Ты, тихое абсентовое забытье,
Оглушите чувства мои
И дайте мне мирно уснуть,
Как спал я когда-то
Над длинной статьей
В «Revue des deux Mondes».
Швеция разлеглась дымом,
Дымком от мадуро-гаваны,
А солнце воссело сверху
Полупотухшей сигарой,
Но вкруг горизонта
Встали алые всполохи,
Будто бенгальские огни,
Высветив контур беды.
В ДУХЕ ВРЕМЕНИ.
Писатель так ее ласкал!
Издатель толк во всем искал.
Издатель к ней посватался.
Писатель мигом спрятался.
Писатель гол был как сокол —
И как он мог жениться?
Издатель рай земной обрел,
Заполучив девицу.
Писатель дрался за кусок
И чуть с ума не спятил.
Издатель процветал как бог
И женушку брюхатил.
ГУСТАВ ФРЁДИНГ. Перевод Веры Потаповой.
Густав Фрёдинг (1860–1911). — Родился в семье горнозаводчика. После окончания Упсальского университета занимался журналистикой. В 1891 году дебютировал сборником стихов «Гитара и гармоника». Ранняя лирика Фрединга, пронизанная народным юмором, жизнеутверждающа и оптимистична. Однако в некоторых стихотворениях поэта звучат трагические тона, особенно усиливающиеся в произведениях следующего сборника — «Новые стихи» (1894). Стихи Фрединга посвящены изображению природы, крестьянского быта, воспоминаниям детства. Они просты по форме, напевны и пластичны, разнообразны по ритмике, часто стилизованы под народную песню. В конце 90-х годов выходят в свет сборники Фрединга «Брызги и осколки» (1896), «Новое и старое» (1897), «Брызги Граля» (1898).
БЫЛИ ТАНЦЫ В СУББОТНЮЮ НОЧЬ.
Были танцы в субботнюю ночь у дороги,
Хохот, музыка, — в лад сами прыгали ноги.
Были крики: «Гей! Гоп! Веселей!»
Нильс Уттерман — музыкант бродячий
С гармошкой и с придурью в придачу —
Наяривал «дудели-дей».
Там плясала красотка из Такена, Булла,
Чьи карманы пусты, будто ветром продуло,
Зубоскалка, смела, весела;
Да вертлявая Марья, да шалая Керсти —
Дикарка, — погладить не смей против шерсти!
Там из Финнбаки Бритта была.
Ну а Петер и Густен слывут пареньками,
Что умеют вовсю загреметь каблуками
И девчонку подкинуть — вот так!
Были Флаксман — что с хутора, Никлас, Калль-Юхан,
Был и рекрут Пистоль, — прибежал во весь дух он.
Был из Хёгвальда парень, батрак.
Будто пакля горела у каждого в теле,
Так девиц они в рейландском танце вертели.
Как кузнечики, прыгали те!
По камням каблуками без устали топали,
Косы, юбки взлетали, передники хлопали,
И визжала гармонь в темноте.
В самой гуще берез, и ольхи, и орешины,
Где лесные тропинки ветвями завешены,
Шорох слышался, смех, болтовня.
Игры, шалости были среди бурелома,
Поцелуи в кустах, воркованье, истома:
— Вот я — здесь, если любишь меня!
Над окрестностью звезды сверкали; по черной,
Окаймленной деревьями, глади озерной
Тихий блеск разливался с небес.
Запах клевера с пажитей несся душистых,
А с нагорья — дыхание шишек смолистых.
Там сосновый раскинулся лес.
Ухнул филин из Брюнберской чащи в ту пору,
Да лисица примкнула к веселому хору.
Их не слышал никто из людей.
Эхо с Козьей вершины «угу!» прокричало
И гармонике Нильса, дразнясь, отвечало
Дальним «дудели! дудели! дей!».
МОШЕННИКИ.
Есть в Каттебухульте у нас, возле Бу,
Мошенники, плуты, жулье.
Там гогот услышишь, и брань, и божбу.
Разгульное, право, житье!
В уезде нет хуже, чем этот притон,
Цыган черномазых приют.
Священник и ленсман — для них не закон.
На всех отщепенцы плюют.
А старый цыган по дорогам весной
Слонялся, шатался в лесу.
Лихой браконьер, конокрад записной,
Хоть восемьдесят на носу!
Старуха его страхолюдная — страсть
И ноги волочит едва.
Всю осень она побираться и красть
Ходила, хоть еле жива.
Сейчас они в Каттебухульте тайком
Без пошлины гонят вино.
Пройдешь мимо дома — разит кабаком,
И всякого сброду полно.
Все парни у них поножовщики сплошь,
Пропойцы, — чуть свет — за питье!
У женщин, поверьте, стыда ни на грош:
Шалит с кем попало бабье.
Наш ленсман из местности гнал это зло.
Расправится с шайкой одной,
Уйдут — а на смену, глядишь, принесло
Другую из чащи лесной.
А тут еще Альстерин, миссионер,
К безмозглым таким загляни!
Всю спину бедняге на лучший манер
Разделали дегтем они.
Горбун, говорят, распрямится в гробу.
Ягненком не сделаешь рысь.
Отребье из Каттебухульта, близ Бу,
В людей обращать не берись!
ЛЕШАЧИХА.
На опушке рощи, в Гуннерудскбгене,
Пройдя торфяник, при Бротторпслогене,
Аккурат лешачихи жилье!
Взглянуть бы вам на нее!
Она, любовью к мужчинам ужалена,
Парнишку Викбумов из Никласдаллена
Кружила, когда отсель
Шел он вечером к Анне, во Фьель.
Разодета, как пастор в пасхальный день!
Из папортника венок набекрень,
Юбчонка из хвои, корсаж слюдяной,
И пахнет фиалкой ночной.
Можжевельника гибче, стройней, чем сосна,
Извивалась, юлила, вихлялась она,
Как змея, что пятой раздавлена.
И страх взял Калле из Даллена!
Она, по законам ведьмовской науки,
Творила нечистые фигли и штуки,
Скакала, как дикий козел,
Петляла, что рысь, и — за ствол.
А парень из Даллена спятил, бедняга.
Поныне слоняется он, как бродяга,
Несет околесицу, гиль…
Вот и видно, что все это — быль!
ЧЕРТОВЩИНА.
Что значит — чертовщина?
Что значит — чертовщина? —
Выспрашиваешь ты.
Узнаешь, дурачина,
Что значит чертовщина!
Дождись лишь темноты.
Лесовички тенями
Хоронятся за пнями
Тишком, тишком, тишком.
И за кустом лещины
Хватает чертовщины:
Вон, вон — карга с мешком.
Что там искрится, блазнит,
Мерцает, ровно дразнит,
Белеет, — вот, вот, вот?
Девчонок в рубашонках
И с розами в ручонках
Мелькает хоровод.
С рогами, с рылом диво
Кривится криво-криво…
Не пяль, однако, глаз
На эту образину.
Спугнешь ты чертовщину —
И пропадет как раз.
Что значит — чертовщина?
Вся нечисть воедино,
Что проклял наш господь
И повелел: «Являйся,
Мерещись, представляйся,
Морочь и колобродь!»
ЮГОСЛАВИЯ.
ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН. Перевод со словенского.
Франце Прешерн (1800–1849). — Словенский поэт, основоположник новой национальной поэзии своего народа. Родился в семье крестьянина села Врба, недалеко от Любляны, тогдашнего Лайбаха. Окончил латинскую школу и лицей в Любляне, затем (в 1828 г.) — Венский университет но юридическому факультету, став доктором прав. Почти всю жизнь (до 1846 г.) занимал скромную должность помощника адвоката, преследуемый австрийской цензурой и администрацией, а также католическим духовенством; трагически сложилась и личная жизнь поэта. Сравнительно небольшое по объему поэтическое наследие Прешерна исключительно богато и разнообразно. Тонкий и проникновенный лирик, Прешерн был мастером сонета (циклы «Сонеты любви», 1831–1832; «Сонеты несчастья», 1832; «Венок сонетов», 1834), он создал великолепные по красоте и изяществу терцины, стансы, романсы. Важное место в лирике Прешерна принадлежит балладам и стихотворной сатире (послания, эпиграммы и проч.). В 1833 году вышел его сборник «Газели», в 1836 году — «повесть в стихах» «Крещение на Савице»— страстный призыв к борьбе за сохранение и развитие национальной словенской культуры.
На русском языке существует несколько изданий сочинений поэта, первое из которых было выпущено в 1901 году (перевод академика Ф. Корша), последнее — в 1971 году.
ПРОСЬБА. Перевод М. Петровых.
Я не ропщу и втайне,
Что смотришь на других,
Но любоваться дай мне
Сияньем глаз твоих.
Цветы к земле склонились
Под хмуростью небес,
И птицы затаились,
Притих звенящий лес,
И не кружатся пчелы
Над липой молодой,
Рыбешек плеск веселый
Не слышен над водой.
Печалится любое
Живое существо,
Коль солнце золотое
Уходит от него.
Умолкли птицы в чаще,
Фиалок нет в саду,
Не слышно пчел летящих,
Рыбешек нет в пруду…
А мысли, что таятся
В сердечной глубине
И вырваться стремятся
В строке, в ее огне,—
Чтобы взлететь к высотам,
В их крыльях силы нет,
Покуда не блеснет им
Очей небесных свет.
Чтоб вольного полета
Не погубил мороз,
Чтоб средь словенцев кто-то
Твой образ превознес,—
Взгляни хоть ненароком,
Пусть я тебе не мил,
И в горе одиноком
Найду источник сил.
КУДА? Перевод Н. Тихонова.
Когда мечусь с судьбой не в лад,
«Куда?» — приятели кричат.
У волн летящей синевы,
У облаков спросите вы,
Когда их гонит вихрь — один
Над ними в мире властелин.
«Куда?» — не знаю тоже я
Несет меня тоска моя.
Одно лишь знаю я в пути —
Не смею к милой я прийти.
И нет на свете места мне
Забыть то горе хоть во сне.
ЗДРАВИЦА. Перевод Д. Самойлова.
Други! Нам родили лозы
Это сладкое вино,
Осушает наши слезы,
В жилах буйствует оно.
С ним тоска не горька,
Радость кажется близка.
Здравицу кому в веселье
Мы певали искони?
Подарил господь нам земли,
Боже, всех славян храни —
Не развей сыновей,
Верных матери своей!
Пусть над недругами рода
Разразится горний гром!
Как при пращурах, свобода
Пусть войдет в словенский дом,
Пусть смелы, как орлы,
Мы разнимем кандалы!
Единенье, счастье, право
Пусть вернутся на века,
Пусть твои потомки, Слава,
Встанут об руку рука,—
Все, как есть, чтобы честь
Рядом с мощью стала цвесть.
Сохрани словенок, боже,
Пусть цветут они в любви!
Не на розу ли похожи
Наши сестры по крови?
Пусть родят нам орлят,
Тех, что недругов сразят!
И за юношей с весельем
Пьем из чаши круговой!
Не отравят гнусным зельем
Их любовь к земле родной.
Ибо нас в этот час
Вновь зовет отчизны глас.
Пьем за вечную свободу
Всех народов и племен.
Да не будет злу в угоду
Мир враждою осквернен.
За межой — не чужой,
Друг-товарищ дорогой.
За себя поднимем чашу!
Выпьем, други, под конец
За святую дружбу нашу,
За согласие сердец.
Там, где пьют, там и льют,
Веселится добрый люд!
ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНА ВОДНИКА[355]. Перевод В. Луговского.
[355].
В степях аравийских
На свет рождена,
Чудесная птица
Стареет одна.
Никем не любимой,
Не свить ей гнезда,—
Ее побратимы
Луна да звезда.
И нет у нее
Ни друзей, ни родных,
Она одиноко
Влачит свои дни.
И не для забавы —
Для смертного сна
Редчайшие травы
Сбирает она.
Чтобы закурились
Над пеплом седым
Дыхание мирры
И ладана дым.
Когда ж наступает
Кончины пора,
Та птица вступает
На угли костра.
И, облаком вспенясь,
Из огненных рук
Прославленный феникс
Взвивается вдруг.
Как феникс, воскреснет
И сердце певца
И пламенной песней
Наполнит сердца.
ЗВЕЗДОЧЕТАМ. Перевод Л. Мартынова.
Подите вы все к черту,
Вы врете про погоду,
О лживые пророки,
Пустые звездочеты!
Вы, мудрецы! Хотите
Прочесть о всем на свете
По звездам: благосклонно ль
К нам будет нынче солнце
И урожай случится
Или проснутся бури,
Челны потопит море,
Град грянет, нам на горе,
Покончит зной нещадный
С лозою виноградной?
Лгуны вы, звездочеты,
Подите вы все к черту!
Лишь две звезды я видел:
Глаза моей любимой.
В две светлые звезды я
Смотрел, слепец неумный,
Прочел там дней веселых
Безоблачную повесть
Любви счастливой.
Но появились слезы,
Стыд, гнев и сожаленье,
И моему покою
Тут смерть настала.
Две только сбили с толку
Меня звезды — две только
Мне разум помутили.
А вы все звезды эти
Перемудрить хотите.
Лгуны вы, звездочеты,
Лгуны вы, звездогляды,
Подите вы все к черту!
* * *
«Когда надежды нет и близится конец…». Перевод Н. Стефановича.
Когда надежды нет и близится конец
С неотвратимостью суровой и железной,—
Запреты не нужны, лекарства бесполезны:
Несчастный все равно на свете не жилец…
Когда, кромешный ад беря за образец,
Бушует ураган в косматой тьме беззвездной,—
Не видя выхода из разъяренной бездны,
Навстречу гибели бросается пловец.
Прочь чаша горькая! Пускай мечты кипят.
Терять мне нечего: все кончено, отпето,—
И я с моих страстей снимаю все запреты!
Мгновенья дороги, — их не вернуть назад…
О, только бы успеть упиться жизнью этой,—
И пусть убьет меня ее сладчайший яд.
ПЕТР ПЕТРОВИЧ-НЕГОШ. Перевод с сербскохорватского.
Петр Петрович-Негош (1813–1851). — Черногорский поэт, светский и духовный правитель (с 1830 г.) независимой Черногории. Сторонник идей просвещения и прогресса, Негош осуществил в своей стране ряд важных реформ, направленных на ликвидацию племенных распрей и на развитие светского образования. Им, в частности, была создана типография в Цетинье, организовано несколько школ. В своей внешней политике, опираясь на поддержку России, где он побывал дважды (в 1833 г., когда был рукоположен в митрополиты, и в 1837 г.), отстаивал свободу и независимость своего государства против австрийцев и турок. Поэтическое творчество Негоша сложилось на основе богатейших эпических традиций черногорцев (поэмы «Голос жителя гор», 1833; «Свободиада», 1835; сборник «Лекарство от ярости турецкой», 1834, где воспевались битвы народа за свободу). Религиозно-философские воззрения поэта отразились в написанной под известным влиянием «Потерянного рая» Д. Мильтона поэме «Луч микрокосма», 1845. Вершина творчества Негоша — драматическая поэма «Горный венец», представляющая своеобразную энциклопедию жизни черногорского народа, апофеоз его борьбы с насильниками. В основе сюжета поэмы — события конца XVII века, когда перед Черногорией, управлявшейся тогда митрополитом Данилой Петровичем, во всей своей грозной опасности встала проблема выбора: или стать турецкой провинцией, или, покончив с так называемыми потурченцами, то есть черногорцами, принявшими мусульманство и изменившими своей стране, сохранить свободу. Потурченцы были истреблены, и страна сумела отстоять свою этническую и религиозную целостность.
Поэма неоднократно издавалась на русском языке (перевод М. Зенкевича) и на других языках народов нашей страны.
ИЗ ПОЭМЫ «ГОРНЫЙ ВЕНЕЦ». Перевод М. Зенкевича.
Игумен Стефан (Поет).
Света солнечного нет без зренья,
А без рождества нет и веселья!
Славил рождество я в Вифлееме,
Славил на святой горе Афонской,
Славил в Киеве первопрестольном.
Только наш сегодняшний сочельник
Самый и радушный и веселый.
Пламя пышет здесь теплей и ярче,
Пред огнем разостлана солома,
Перекрещены в огне поленья,
Выстрелы гремят, шипит жаркое,
Хоровод поет, рокочут гусли,
И с внучатами и деды пляшут,
Все в веселье стали однолетки,
А всего приятней то, что с каждым
Надо выпить за его здоровье!
Владыка Данила.
Счастлив ты воистину, игумен,
Даровал тебе сам бог веселье!
Игумен Стефан.
Молодой сынок, владыка славный,
Мир весь веселится этой ночью,
Душу каплями я сам наполнил,
Старая, она над чашей пляшет,
Словно над ракией пламень бледный.
Кости старые веселье будит,
Им напомнив молодые годы.
Владыка Данила.
Нет на свете ничего прекрасней,
Чем лицо в сиянии веселья,
Вот как у тебя сейчас такое —
С бородой серебряной по пояс,
Полное веселости и ласки.
То всевышнего благословенье!
Игумен Стефан.
Я прошел сквозь решето и сито,
Испытал весь этот свет злосчастный,
Чашу всех его отрав я выпил,
И познал до дна я горечь жизни.
Все, что может быть, все, что бывает,
Я изведал, и мне все знакомо.
Ко всему, что жизнь пошлет, готов я.
Ведь все зло, что тяготит под небом,
На земле удел для человека.
Молод ты, неискушен, владыка!
Капли первые из чаши яда
Пить всего трудней, тяжка их горечь.
Если б знал ты, что с тобою будет!
Этот мир тиран и для тирана,
Что же для души он благородной!
Мир составлен весь из адских распрей,
В нем душа воюет вечно с телом,
В нем воюет море с берегами,
В нем с теплом воюет вечно холод,
В нем воюет ветер буйный с ветром,
В нем воюет дикий зверь со зверем,
В нем один народ с другим воюет,
Человек воюет с человеком,
В нем воюют вечно дни с ночами,
В нем воюют духи с небесами.
Тело стонет под душевной силой,
И душа трепещет зыбко в теле,
Стонет море под небесной силой,
Небеса трепещут зыбко в море,
И волна волну, поправши, гонит,
Обе разбиваются о берег.
В мире нет счастливых, нет довольных,
Нет миролюбивых, нет спокойных.
Человек поносит человека:
В зеркало глядится обезьяна!
ЛОВЧЕНУ[356]. Перевод Б. Слуцкого.
[356].
Ловченская гордая вершина,
Ты главою тучи задеваешь
И надменно видишь под собою
Чудные творения природы:
Черногории кровавый камень,
Боснии равнины и Албанию,
Турции поля, латинский берег!
У себя за пазухой ты прячешь,
Как невеста яблоки дареные,
Молнии за тысячи столетий.
Никого ты не считаешь ровней,
Кто на Милоша[357], на Карагеоргия[358],
На орла и волка не походит.
Вуковцев[359], предателей народа,
Ядовито предаешь проклятью.
ТЕНИ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА[360]. Перевод Б. Слуцкого.
[360].
Над многоочитым звездным сводом
И под самой верхней сферой неба,
Там, где взгляд людской достичь не может
Юных солнц бессменное рожденье,—
Выбитые из кремня творца рукою,
Осыпаются они роями,—
Там и был зачат твой гений
И поэзией миропомазан;
Из тех мест, где вспыхивают зори,
К людям прилетел твой гений.
Все, что может совершить геройство,
На алтарь чудесный я слагаю,
Посвящаю я святому праху
Твоему, певец счастливый
Своего великого народа.
ИВАН МАЖУРАНИЧ. Перевод с хорватскосербского.
Иван Мажуранич (1814–1890). — Хорватский поэт, крупный политический и государственный деятель, в молодости участник движения иллиризма, стремившегося к единению славян. В дальнейшем был баном (правителем) Хорватии (1873–1880). Поддерживая централистскую политику австрийского правительства, в то же время всячески способствовал развитию национальной хорватской культуры. Благодаря деятельности И. Мажуранича были основаны Югославянская академия наук и искусств, Загребский университет и др. Литературное наследие И. Мажуранича невелико. В истории хорватской и югославской литературы почетное место принадлежит его эпической поэме «Смерть Смаил-аги Ченгича» (1846), посвященной одному из эпизодов борьбы черногорцев за свободу. Реально существовавший потурченец и насильник Смаил-ага Ченгич был убит осенью 1840 года при сборе дани. Голова его была выставлена в Цетинье на всеобщее обозрение. Негош показывал ее посещавшим его друзьям — Вуку Караджичу, русскому историку и филологу Н. Надеждину, а также брату И. Мажуранича Антуну, под влиянием рассказов которого, вполне вероятно, и родился замысел И. Мажуранича.
Публикуемый отрывок представляет собой одну из глав поэмы.
ИЗ ПОЭМЫ «СМЕРТЬ СМАИЛ-АГИ ЧЕНГИЧА».
ДАНЬ. Перевод М. Зенкевича.
Хорошо на поле Гатском[361],
Коли там не мучит голод,
Лютый голод, лютая неволя!
Да, на горе, поле придавили
Войско злое, светлое оружье,
Боевые кони и палатки,
Тяжкие оковы и колодки.
Для чего ж там войско и оружье?
Для чего там кони и палатки,
Тяжкие оковы и колодки?
Смаил-ага дань взимает кровью
И на поле Гатском, и в округе.
Середь поля он шатры раскинул,
Сборщиков он разослал повсюду,
Пусть их, лютых, волки растерзают!
Требует с души он по цехину,
С очага — по жирному барану,
Каждой ночью — новую девицу.
Едут турки-сборщики с востока,
Тянут райю голую арканом,
Едут, змеи, с севера и юга,
Тянут райю[362] голую арканом.
Руки бедным за спиной скрутили,
Тянут их за конскими хвостами.
Боже, в чем же райя виновата?
В том, что злоба на душе у турок?
В том, что их сердца позаржавели?
Виновата в чем? За что расплата?
Нет того, что туркам на потребу:
Золота нет, белого нет хлеба.
У аги скакун горячий,
Пред шатром ага верхом маячит,
Держит он копье десницей храброй,
Смотрит зорко, словно кречет.
Борзый конь аги быстрей всех скачет,
А копье ага всех метче мечет.
Воин добрый, только сам не добрый!
Увидав, что на арканах
Сборщики волочат пленных,
Он стрелой на них понесся
На коне буланом борзом,
И на всем скаку с разлета
Он копье метнул рукою правой
В голову валаха для забавы.
Но подчас и у юнака
Храбрая рука задремлет:
Так и тут вдруг по-иному вышло,
Борзый конь аги споткнулся,
Свистнуло копье в полете,
Пролетело легкокрыло мимо,
Поразило не ягненка — волка,
У Сафера, что волок валаха,
Выбило один глаз светлый.
На зеленую траву глаз вытек,
Брызнула кровь темною струею,
Взвизгнул турок и змеей взметнулся.
Пламенем живым ага тут вспыхнул,
Ведь позор для славного юнака
Собирать и не собрать всей дани,
Целиться копьем и промахнуться,
Не валаха ослепить, а турка,
На злорадный смех всем христианам.
Пламенем живым ага зарделся,
Боже, на кого падет расплата,
Ведь всегда валахи виноваты!
— Эй вы, Муйо, Хаса, Омер, Яшар,
Во всю прыть коней гоните,
Пусть за вами на аркане
Поспевают христиане! —
Словно лютый бык, ага вдруг рявкнул.
Слуги быстро все повиновались,
Во всю прыть коней они пустили,
Хлопают плетьми и с гиком гонят.
Топают под всадниками кони,
За конями сзади райя стонет.
Мнится в первый миг, что райя мчится,
Ласточкой коней перегоняет,
Во второй миг разобрать не можешь,
Кто быстрее, — кони или люди,
А в четвертый миг, — не поспевая,
Повалилась на землю вся райя.
Всех волочат кони за собою
И по грязи, и по пыли,
Словно тело Гектора вкруг Трои,
Когда Трою боги позабыли.
Сам ага со свитой смотрит, стоя,
Тешит зрелищем жестоким
Гневные и злые очи,
Утоляет кровожадность
Влашской кровью, влашской мукой.
А когда их сердце разыгралось,
Громко турки засмеялись,
Любо им — упала райя,
Люди ползают, будто собаки.
Так хохочут дьяволы, от скуки
Грешникам придумывая муки.
ПЕТАР ПРЕРАДОВИЧ. Перевод с хорватскосербского.
Петар Прерадович (1818–1872). — Хорватский поэт, лирика которого представляет одно из достижений национального романтизма XIX века. Родился в семье младшего офицера, окончил военную академию в Винер-Нейштадте. Стал профессиональным военным и после долгих лет гарнизонной службы (в городах Италии, Венгрии, Словении, Хорватии) был произведен в чин генерал-майора. Патриотическая и рефлективная лирика Прерадовича, собранная в книгах «Первенцы» (1846), «Новые стихи» (1851) и созвучная настроениям революционно-романтической молодежи, пользовалась в XIX — начале XX века широкой популярностью в славянских странах и, в частности, в России.
ЗВЕЗДНЫЙ ХОРОВОД. Перевод Л. Трефолева.
На лазурном небосводе
Звезды ходят в хороводе;
Все столпились в тесный ряд
И о страннице печальной,
О Земле многострадальной,
Робко, нежно говорят.
Тихо молвила Денница:
«Наша бедная сестрица
И печальна и темна.
Не судите Землю строго:
У нее заботы много,
Истомилася она.
Сколько ног босых блуждает,
Твердой почвы ожидает
На мельчайшей из планет!
Сколько рук там крепких страждет
И работы алчет, жаждет,
А работы — нет как нет!
Сколько там сердец, с любовью,
Обливающихся кровью
И болящих за народ!
Не будите Землю! Тише!»
И, смотря на Землю свыше,
Разошелся хоровод.
МОЯ ЛАДЬЯ. Перевод В. Соловьева.
Плыви, плыви, моя ладья,
Плыви куда-нибудь!
Не знаю я, где цель твоя,—
Ты цель себе добудь.
Коль так далеко занесла
Тебя судьбины мочь,—
Вот парус твой и два весла:
Плыви и день и ночь!
Во власть ветров себя отдай,
На волю бурных волн,
Гляди вперед, не унывай,
И к небу стяг, мой челн!
ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ. Перевод Н. Стефановича.
Страшный день! Ты черною страницей
Пребываешь в памяти моей
Посреди беспечной вереницы
Самых светлых, самых ясных дней.
Эти дни прозрачны для очей,
Только сквозь тебя нельзя пробиться,—
Ты гранита черного мрачней,
Всех надежд холодная гробница.
В этот мир я сброшен, как в тюрьму,
Черной бурей из страны надзвездной.
Смерть желаньям, радостям — всему…
Предо мной — бесформенная бездна,
И мечты, стуча клюкой железной,
Ковыляют, уходя во тьму…
* * *
«Нет, мечты, в кромешном мраке…». Перевод Н. Стефановича.
Нет, мечты, в кромешном мраке
Некуда идти.
Или верные к неверной
Ищете пути?
Все напрасно: сквозь преграды
Рветесь вы, — и что ж?
Не желает возвратиться,
Значит, не вернешь.
По чужой пошла дороге
За чужим она,
Пестрота цветов не наших
В косы вплетена.
Но, мечты, зачем метаться?
В дом родной опять,
Может быть, она вернется,—
Надо только ждать.
БРАНКО РАДИЧЕВИЧ. Перевод с сербскохорватского А. Ахматовой.
Бранно Радичевич (1824–1853). — Сербский поэт, один из сторонников и соратников Вука Караджича в его борьбе за новую сербскую литературу. Родился в семье мелкого чиновника, изучал право и медицину в Венгрии и Австрии. Участвовал в революционных событиях 1848 года. Умер в Вене от туберкулеза. Стихотворения Б. Радичевича, изданные в сборниках 1847 и 1851 годов, нанесли сокрушительный удар господствовавшей тогда в Сербии ходульной, ложно-классицистической поэзии. Пронизанные революционным бунтарским пафосом, они внесли в нее новые темы, новый дух и новые настроения, определив ее дальнейшее развитие. Поэзия Б. Радичевича для многих поколений сербской молодежи стала путеводным знаменем.
БЕДНАЯ ВОЗЛЮБЛЕННАЯ.
Ветер веет,
Липа млеет,
Как тогда.
Речи
Журчанье,
Леса
Молчанье,
Как тогда.
Я — молодая,
Здесь ожидаю,
Как тогда.
Солнце заходит,
Друг не приходит,
Как тогда.
Солнца другого
Нет дорогого…
Вечера, как сладко ожиданье,
О вы, ночи, светлых дней светлее,
А над вами два светили солнца,
Где же вы?.. Где друг мой ненаглядный?
Плачут травы, птица запевает,
Золото мое земля скрывает…
Боже, порази грозою сушу,
Громом бей в мою живую душу!
Друга у меня взяла могила,
Ничего на свете мне не мило.
14 Октября 1844 Г.
ГОЙКО.
Эй, ко мне скорее, гусли-други,
Натяну вас туго на досуге,
Натяну вас, заиграю лихо,
Чтоб на сердце снова стало тихо,
Чтобы снова я увидел счастье,—
Чудо, не разбитое на части.
И заря чиста, и солнце ясно,
Лес зеленый и поля прекрасны,
Милы мне цветы и ключ прохладный,
И, дитя мое, мой луч отрадный,
Лишь в глаза твои я гляну снова,—
Вспыхнет в сердце песенное слово.
Ты, земля, мила мне бесконечно.
Дивно сотворил тебя предвечный!
Только бы пожить еще немного,
Но пора в последнюю дорогу,
Смертный час пробьет мой скоро, скоро,
Светлый мир сокроется от взора.
Гусли упадут из рук остылых,
Но что пел я — будет людям мило,
И пока душа к душе стремится
И народ за чашей веселится,
Будет песня для него отрадой,—
Ничего мне больше и не надо!
ДЖЮРА ЯКШИЧ. Перевод с сербскохорватского.
Джюра Якшич (1832–1878). — Сербский поэт и художник, крупный представитель бунтарской романтической лирики. Родился в семье священника в одном из сел Воеводины; изучал живопись, участвовал в революции 1848 года. После ее разгрома пытался завершить образование в Вене и Мюнхене, но безуспешно. В течение почти всей своей жизни служил учителем рисования, страшно нуждался. В поэзии Д. Якшича, наряду с меланхолической рефлективной лирикой, важное место принадлежит патриотическим, социально-сатирическим стихотворениям, утверждавшим идею социального бунта. Выступал с историческими драмами, проникнутыми свободолюбивыми идеями. Подчеркнуто социальны по своим сюжетам рассказы Д. Якшича, вышедшие четырьмя сборниками в 1876–1878 годах. Творчество Д. Якшича было тесно связано с движением сербской молодежи 60–70-х годов прошлого века, боровшейся за национальное освобождение и политические свободы.
СКВОЗЬ ПОЛНОЧЬ. Перевод В. Луговского.
Сквозь гибких веток переплетенье
Светил мерцанье, планет роенье,
Утихомирься, сердцебиенье.
И глубже в гущу, в стеблей сплетенье.
Ручей, бегущий полночной далью,
Здесь, в этих кущах, любви свиданье,
Здесь, где с растеньем сплелось растенье,
И глубже в гущу, в стеблей сплетенье.
Моя душа тобой согрета,
Меня растопит до рассвета,
Сметет, как снега наважденье,—
И глубже в гущу, в стеблей сплетенье!
ЕВРОПЕ. Перевод О. Колычева.
Тебя восславить, тебя — тираншу!
А душу гложут и гнев и яд,
И злые жала твоих насмешек
Живую песню мою казнят…
О, миллионы сердец страдают,
И миллионы домов сожгли,
И миллионы людей, как черви,
Живут в клоаке, ползут в пыли!
И миллионы людей смиренно
На суд суровый идут к тебе:
Не можем больше мы жить рабами
И покоряться своей судьбе!
Тиран казнит нас, позорит женщин,
Посевов наших плоды берет.
Сама суди же, будь справедлива,
Да разве может так жить народ!
Мы погибаем!.. — И погибайте! —
Что ей, Европе! Все нипочем!
Сплотимся ж, братья! Падем со славой,
Но цепи рабства мы рассечем!
Пусть кровь прольется, но — мы свободны,
Мы не желаем рабами быть!
Клянемся, сербы: в бою погибнуть
Или свободу в бою добыть!
ОТЧИЗНА. Перевод М. Зенкевича.
Даже камни кряжей горных сербских,
Что сквозь облако грозятся солнцу,
Сумрачно кремнистый лоб нахмурив,
Повествуют о веках далеких
И показывают молчаливо
На лице глубокие морщины.
Это мрачный след веков прошедших,
Это борозды расщелин черных,
Камни эти, словно пирамида,
Поднимаются из праха к небу.
То гора костей окаменелых,
Что в борьбе с заклятыми врагами
Вольно наши прадеды сложили,
Кровью сердца своего скрепляя
Мышцы мощные костей разбитых,
Чтобы внукам крепость приготовить,
Где б могли они бесстрашно встретить
Хищные грабительские орды.
Может, ты дойдешь до этих кряжей,
До твердыни этой,
Даже ступишь здесь ногой поганой,
Но дерзнешь ли дальше? Ты услышишь,
Как вдруг тишину земли свободной
Громы страшным грохотом разрушат.
Ты поймешь тогда пугливым сердцем
Смелый голос громовых раскатов,
Будешь ты о каменные глыбы,
Обезумевши от страха, биться,
Голым теменем своим обритым,
Мысль одну, одно лишь изреченье
Ты услышишь средь борьбы смертельной
«Здесь отчизна сербов!»
ЙОВАН ЙОВАНОВИЧ-ЗМАЙ. Перевод с сербскохорватского.
Йован Йованович-Змай (1833–1904). — Сербский поэт, просветитель и общественный деятель, талантливый переводчик. Родился в городе Нови Сад. Изучал право и медицину в Вене, Праге и Пеште. В течение многих лет совмещал литературную работу с медицинской практикой. Был создателем и редактором многих литературных журналов как для взрослых, так и для детей, снискавших широкую популярность и признание по всей стране. Обладая глубоким и своеобразным лирическим талантом, Змай создал прекрасные образцы интимной лирики (сборники «Розы», 1864; «Стихи», 1871; «Увядшие розы», 1882; «Сновидения», 1895), в которых отразились события личной жизни поэта, рано потерявшего жену и детей. Искренние и непосредственные стихотворения Змая вошли в сокровищницу сербской лирической поэзии. В своих сатирах Змай высмеивал существовавшие в Австро-Венгрии и затем Сербии порядки, разделяя взгляды сербского революционного демократа Светозара Марковича (сборник «Девясил», 1900). Змай был родоначальником сербской поэзии для детей, и его детские стихи по сей день остаются излюбленным чтением ребят.
ИЗ ЦИКЛА «РОЗЫ». Перевод А. Ахматовой.
«Ничего, любовь, ты не забыла…».
Ничего, любовь, ты не забыла.
Иль ты лжешь, иль это так и было.
Слушай, друг мой нежный, сказки эти,
Ты одна поверишь мне на свете…
В древнем веке, в дали беспросветной,
В облаке, лучом не озаренном,
Пепельном, неясном, отдаленном,—
Так теперь я верю беззаветно,—
Жили мы с тобою двое,
Две души в любовном зное,
И не ведали покоя,
И томились мы любовной жаждой,
А любовь росла с минутой каждой,
И печаль росла в воздушном теле,
Но друг друга мы обнять не смели,—
И печали власть
И стремленья страсть
В домовине под землей истлели.
А могилы наши разделила злоба.
Душно было нам под мрачным сводом гроба!
Годы возникали, годы угасали,
Но не гасла в пепле искорка печали.
Наконец и богу это надоело —
Он с постели поднял нас оледенелой,
Чтоб мир холодный обогреть,
Чтоб этот мир увидел вновь
И понял он, какой была
Та несравненная любовь.
* * *
«Как этот мир…».
Как этот мир
Дивно широк,
Там розы цвет,
А здесь поток.
Там нивы блеск,
Здесь светлый сад,
То солнца жар,
То лютый хлад.
В золоте весь
Дунай течет,
Там зелень трав,
Жасмин цветет!
Там соловья
Слышится песнь,
Моя душа
С твоею здесь.
ИЗ ЦИКЛА «УВЯДШИЕ РОЗЫ». Перевод А. Ахматовой.
«Из чего ты, боже, вздумал…».
Из чего ты, боже, вздумал наше сердце сотворить?
Поначалу хлынет счастье, чтобы сердце утомить,
И с неслыханною мощью черным жжет его огнем.
Но еще не гибнет сила в нем.
А потом приходят муки, лед и стужа без конца,
Но тоску одолевают наши стойкие сердца,
Окружают сердце тени многих горестных могил,
Все же сердце не теряет сил.
Но пройдут года, и сердце станет кладбищем навек,
Даже это переносит человек.
Вот еще доска, вот камень, и на камне имена
Тех, с кем я и пел и плакал, кем душа была полна,
Самых близких, без которых я не мог проявить и дня,
Тех, которые живыми остаются для меня.
* * *
«Из истерзанного сердца…».
Из истерзанного сердца,
Не из глаз упали слезы
И теперь росою стали
В лепестках увядшей розы.
Ночь прошла, и утром рано
Солнце радостное встало,
И лучи поют, сверкая:
«Мы хотим, чтоб слез не стало».
Снова ночь, и вновь слезами
Эта роза заблистала,
Утром вновь лучи запели:
«Мы хотим, чтоб слез не стало».
Это было долгим летом,
Солнце слезы осушило,
Но зима сменила осень,
Вьюга в поле закружила,
И метель, найдя в засохших
Лепестках погибшей розы
Капли слез, спокойно молвит:
«Леденеют эти слезы!»
И когда замерзли росы,
Прелесть розы отблистала,
Перестала роза плакать,
Сердце биться перестало.
* * *
«Не одни, поверь, страдаешь…».
Не одни, поверь, страдаешь
Ты по воле рока.
Много есть на свете горя
Близко и далеко.
Льется песня, как надежда,
В брызгах водопада,
Ей в пучине общей боли
Раствориться надо.
ДЕВЯСИЛ. Перевод М. Исаковского.
Девясил — траву здоровья
В ночь русалка поливает.
Девясил — слыхать в народе —
Девять сил в себе скрывает.
Волшебством своим, русалка,
Обаяньем, сердцу милым,
Ты полей и эту песню,
Что назвал я Девясилом;
Может, эта песня рану
Сыну Сербии прикроет
И хотя бы на мгновенье
Боль и муку успокоит.
ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ. Перевод Н. Глазкова.
Жизнь люблю, она дает мне
Иногда удачу, радость…
Жизнь люблю я всей душою,
Но и смерти не пугаюсь.
Бог, за то тебе спасибо,
Что любой из сербов знает,
Что он серб, и твердо верит
В то, за что он умирает.
Вспоминаю, как в народе
О свободе говорится:
«Кто всю жизнь боится смерти,
Тот не должен был родиться!»
ПОЭТ И ПЕСНЯ. Перевод А. Суркова.
Поэт.
Песня, ты обманываешь мир,
Воспевая счастье, и веселье,
И любовь, и ласки, и похмелье,
Песня, ты обманываешь мир!
Песня.
Разве я обманываю мир?
Я тебе шепчу слова обмана,
Чтобы кровь не источала рана.
Разве я обманываю мир?
Поэт.
Будешь мне шептать обманы вечно?
Чтоб в неволе тысячи несчастий
Сердце не терзали мне на части —
Будешь мне шептать обманы вечно?
Песня.
Встань, живи, борись и не сгибайся!
С колыбели мы сдружились оба,
И дружить нам суждено до гроба.
Встань, живи, борись и не сгибайся!
МИЛОСТИВОЙ ЕВРОПЕ. (На могиле расстрелянных коммунаров). Перевод О. Колычева.
Ты в живых бросала грязью,
А возносишь после смерти.
Крепко спавшее, внезапно
Пробудилось милосердье.
И трепещешь ты, взирая
На геройство этой смерти!
Много зол ты совершила,
Их попробуйте измерьте!
Ни к чему над прахом павших
Приторное милосердье!
«Бойся, бойся тех, кто может
Смерть принять без страха смерти!»
ПАМЯТНИК НА РУЕВИЦЕ[363]. Перевод Н. Тихонова.
[363].
Скинь ты шапку, если здесь проходишь,
Помолися богу;
Знай, за братство тут юнацкой крови
Пролито много.
Встали сербы защищать родные
Славянские нивы,
Брат наш крикнул, видя в бой идущих:
«Нет, не одни вы!»
Из далеких из краев студеных
Тут русские встали,
С братской они славянской любовью
Помощь нам дали!
Вы заслужили, чтобы в потомстве
Бессмертно бы жили,
Многие здесь за сербский народ наш
Жизнь положили.
Отдали жизнь, а ее обратно
Не вернешь ведь с поля,
Может ли дать кто-нибудь другому,
Дать еще боле?
Скинь же здесь шапку и помолись ты,
Вспомни дни боя,
То береги, что предки геройски
Взяли борьбою.
Камень большой на русской могиле
Славою дышит!
Память, живущая в сердце сербском,
Больше и выше!
БРАТЬЯМ БОЛГАРАМ. Перевод С. Маршака.
Здравствуйте, соседи.
Добрый день вам, братья.
Здравья и свободы
Рад вам пожелать я.
Пусть всегда нас греют
Братские объятья.
Братья мы по крови
И по духу братья.
Сербы край свой любят,
Отчий дом свой старый.
Сербы любят волю
Так же, как болгары.
Пусть грозят нам беды,
Мы их одолеем,
Вместе наши руки
Во сто раз сильнее!
ЧЕСТЬ. Перевод С. Маршака.
Чести золото не купит:
Честный чести не уступит.
Честь нужна ему, как свет.
Рад продать ее бесчестный,
Но, как всякому известно,
У бесчестных чести нет.
АНТОН АШКЕРЦ. Перевод со словенского.
Антон Ашкерц (1856–1912). — Словенский поэт и общественный деятель. Родился в бедной крестьянской семье, окончил католическую семинарию в Мариборе и в течение нескольких лет служил священником в разных селах Словении. В 1898 году, после конфликта с верхушкой католического духовенства, сложил с себя сан, посвятив себя исключительно литературе. Цикл эпических баллад Ашкерца «Старая правда» (1888) о средневековых крестьянских восстаниях сыграл важную роль в борьбе словенцев за национальное равенство и социальную справедливость. Вообще антиклерикальная боевая социальная поэзия А. Ашкерца занимает особое место в развитии реалистической поэзии XIX века у югославских народов (сборник «Новые стихи», 1900). Поэт много путешествовал, в частности, побывал в Центральной России, в Крыму, на Кавказе, а также в странах Африки, Ближнего Востока, центральной и южной Европы. Вместе с поэтом Й. Веселом-Косеским был инициатором издания и переводчиком «Русской антологии» (1902).
«Дымится черное, распаханное поле…». Перевод С. Штейна.
Дымится черное, распаханное поле…
Проходит селянин по свежей борозде
И семена рукою неустанной
Бросает в землю, словно мимоходом.
И мудрая кормилица Земля
Встречает радостно весенние посевы,
Скрывая их в таинственные недра,
Откуда золотом они заколосятся.
Дымится черное, распаханное поле,
Проходит сеятель по свежей борозде,
Бросая семена… Не так ли ты, поэт,
В сердца людей свои роняешь мысли?
РУССКИЙ ЯЗЫК. Перевод А. Сиротинина.
Язык прекрасный русского народа,
Как ты пленителен, как близок мне!
Какие тайные созвучья-струны
Родишь ты вдруг в душевной глубине!
Великий, мощный, благозвучный,
Язык славянский, ты — язык и мой.
В твоих ласкающих так сладко звуках
Не говорила ль мать моя со мной?
Ты — нежная, серебряная арфа
В руках у вдохновенного певца,
И райский звук твоей волшебной песни
Волнует мощным эхом все сердца.
Она то млеет вся, как страсти шепот,
То плач отчаянья, то тяжкий стон
В ней слышится, то вопль тоски безбрежной.
Она летит, то плавная, как звон
Колоколов, зовущий властно и призывно,
То грозная, как гром из тучи грозовой,
То шумная, как моря гул прибрежный,
То разудалая, как вихрь степной.
Ты — царь. Властительное молвишь слово,
И вмиг сынов твоих бессчетный строй
На твой призыв встает и смело рвется
За родину и за свободу в бой.
Мыслителю ты — крепкой стали молот.
Он из тебя кует победной правды меч,—
И, мыслей новых искрами сверкая,
Твоя несется пламенная речь.
Гигант славянства, рабства ты не знаешь!
Не может быть невольником герой.
Не даст себя он заковать в оковы,
Ему несносен мрак тюрьмы сырой.
О нет, ты не орудье силы темной:
Ты света властелин, ты гонишь ложь!
Глашатай истины ты и свободы,
Из тьмы ты к солнцу правды нас ведешь!
Да светит же твой яркий, мощный светоч
От дальних Балта синего брегов
Чрез горы, дол, чрез тундры и чрез реки
До океана Тихого валов!
От солнца Индии до стран полночи
Простертых в прахе к счастью да зовет,
Народы к жизни воздвигает новой
И всем им весть спасения несет!
ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ПАМЯТНИК ПУШКИНУ. Перевод А. Сиротинина.
Туда, туда, в зеленый темный парк,
Из спертой комнаты на воздух чистый,
Свободный, утренний, весенний воздух!
Заря уж брезжится… Уходит ночь.
И вышел ты… Поспешными шагами,
В лицейский завернувшись плащ, ты шел
Дорожкой белой меж деревьев темных
Туда, туда, в приют уединенья,
В ту рощу дальнюю, где тишь кругом…
Хотел ты быть один с самим собой.
И сел на лавку низкую… О, ночь,
О, эта ночь порывов вдохновенья,
Налетов творчества. Как их назвать,
Благословеньем божьим иль проклятьем?
Придут они — и нет душе покоя,
Встают за мыслью мысли, точно волны,
Морским подъемлемые ветром;
В сердечной глубине, не уставая,
Кипит и страстно рвется чувств поток,
На волю просится, ласк солнца жаждет
И хочет вылиться наружу в слове,
И в песнях огненных, и в строфах звучных…
О, эти чувства, образы и мысли!
Как тесно им в объеме груди нашей…
Священны вы, минуты вдохновенья,
Счастливый час восторгов несравненных,
Когда сама собою льется песня,
И под незримой божьего рукой
Дрожат, звенят и стонут струны сердца…
Тот миг — он твой теперь, не правда ль, Пушкин?
Мечтой объят, сидишь ты предо мною,
Слегка склонившись на руку главой,
И вдаль глядят задумчивые очи.
Куда младые сны тебя уводят?
Какая песнь неведомая зреет
В душевной глубине? Младая ль дева
Играет там симфонию любви,
Иль пестрый мир народных русских сказок,
Преданья старины тебя влекут?
Как знать? Как угадать? Ты сам не знаешь,
Какой мотив из сердца первым встанет,
Какие первыми сегодня строфы
Из-под пера польются на бумагу.
Вдаль смотрят заглядевшиеся очи,
Надеждой молодою грудь полна,
И сам ты молод этим утром свежим,
И родина твоя, как утро, молода!
Сквозь тьму ветвей пробился солнца луч
И, точно гений, с высоты слетевший,
Чело твое приветливо целует.
Его ты чуешь ласковый привет,
Ты чувствуешь: над Русью утро встало.
СИЛЬВИЕ СТРАХИМИР КРАНЬЧЕВИЧ. Перевод с хорватскосербского.
Сильвие Страхимир Краньчевич (1865–1908). — Хорватский поэт. Родился в небольшом городке Сень, изучал теологию в Риме, но отказался от церковной деятельности и стал учителем. Долгие годы провел в Боснии и умер в Сараеве. Начав с традиционной патриотической романтики, Краньчевич впоследствии создал выдающиеся образцы философской и революционной поэзии, по существу, впервые подняв современную ему хорватскую лирику на уровень европейской. Страстный протест против социального гнета, революционное отношение к жизни определяют его поэзию начала XX века. В стихотворении «Видение» (1905) воспел первую русскую революцию.
RESSURECTIO[364]. Перевод А. Наймана.
[364].
Улицы в огне пожара, над Парижем смерть витает:
Восемнадцатого века год великий громыхает.
Валят камни и деревья тени мрачные средь ночи,
С криками идут на гибель, каждый смерти первый хочет.
Доски стонут под ногами, и помост трухлявый гнется.
Пасть раскрыта баррикады, флаг над ней трехцветный вьется.
Словно призраки на стенах вдруг сплетаются руками,
И сверкает из Бастильи желто-красным светом пламя.
И летят в глубины улиц над землей большие тени,
И ужасных бликов пляска гаснет в дымном отдаленье.
Мальчик сел в гнилое кресло на вершине баррикады,
Для помазанников божьих троном бывшее когда-то.
Пурпур с кресла сорван бунтом; и дрожит оно, и глухо
Стонет, как на лобном месте оголенная старуха.
А на спинке, той, которой короля касалось тело,
Флаг, трехцветием блистая, вьется весело и смело.
Зарево пылает. Косу смерть оттачивает ровно,
Взмах руки: из пушек, ружей пули градом бьют по бревнам.
На колени опустился кто-то, кто-то пал без слова,
Лишь один над баррикадой встал, похожий на святого.
Не коленопреклоненно, но гранитною скалою
Встал великий, встал средь улиц, над свинцовым зноем боя.
Поднял правую он руку, тотчас по его приказу
Все в густом дыму рванулось, в пламени взметнулось сразу.
«Франция!» — воскликнул кто-то, и слезами взор закрыло:
Вспомнил он свой дом, отчизну, вспомнил то, что прежде было.
«Месть!» — вскричал другой, и снова заблистал взор на мгновенье,
Вспомнил он: страданья были — не было за них отмщенья.
Задрожала баррикада, лишь он встал стопою твердой,
И шагнул толпе навстречу, сделав знак главою гордой.
Он ступал широким шагом по залитым кровью бревнам,
И за ним толпа летела, словно по тропинке ровной,
И кричала вдохновенно: «Братство! Равенство! Свобода!»
Все быстрее неизвестный мчался впереди народа.
И никто не знал, ни кто он, ни откуда появился,
А потом, после победы, не нашли, куда он скрылся.
Только раненным смертельно стало ясно среди ночи,
В час, когда слезой последней затуманило им очи:
Он покинул неизвестность, чтобы кануть в неизвестность, —
Метеор, что на мгновенье осветил средь мрака местность.
На сверкавший след смотрели и с улыбкой умирали:
То Христос сошел с креста к нам, вел в победные нас дали.
СЛАВЯНСКАЯ ЛИПА. Перевод В. Луговского.
Издревле ты бушуешь в мире,
Ствол вечной верности славянской,—
От голубой ядранской шири[365]
До глади тихоокеанской;
За триста рек в прозрачный воздух
Ты ветви тянешь — и далече
Все те же птицы в тех же гнездах,
Все та же нежность общей речи!
Твой дух — в стенах кремлевской славы,
Градчан[366] ты осыпаешь стены,
Ты — над волной жемчужной Савы[367],
Над Ловченом ты неизменно,
Кропишь ты Вавелево[368] темя,
И Лабе[369] ты несешь прохладу,
Летит твое святое семя
На грудь Мефодиева града[370]!
От края света и до края,
Ты полумиром овладела:
В раю славянском восседая,
Перун лелеет молний стрелы,
Грозит жезлом, чтоб злобный недруг
Не затоптал славянства пламя.
Пусть пращуры — в столетий недрах,
Простерты руки их над нами!
Родник из-под корней струится,
Он утоляет великанов,
А над живой водою длится
Напев, в чреде веков не канув!
О Славе говорят вершины
Дерев, — их песнь не раскололась;
В ней — наши деды и старшины,
В ней — мертвецов бессмертный голос!
Звучит их зов неуловимый,
Скрепляя нас чрез оси света,
Горит, как огнь неугасимый:
Им наша отчина согрета,
Звучит — единое в значеньях —
Славянства дружеское слово;
Как песня в благостный сочельник
В преддверье счастия людского!
Ребенок дремлет под тобою,
Как Моисей спал в Нильских плавнях,
Славянской станет он судьбою,
Славян в нем — племя, род и пламя!
Чтоб фимиамом задышала
Надежда в сердце голубином,
В артерии земного шара
Он хлынет сам теплом любимым!
Пусть в хороводе под ветвями
Вершится братство неустанно,
Пусть к ласке уст прильнут устами
Нежнее Лада и Живана[371]!
Пусть возлетит наш вольный сокол
В лазурь превыше стаи птичьей,
Пускай ширяет он высоко,
Восславит новых дней величье!
Взор сокола заблещет снова
По-над тобой, о ствол славянский,
От волн Ядрана голубого
До глади тихоокеанской;
За триста рек в прозрачный воздух
Ты ветви тянешь — и далече
Все те же птицы в тех же гнездах
И нежность материнской речи!
ДРАГОТИН КЕТТЕ. Перевод со словенского Л. Мартынова.
Драготин Кетте (1876–1899). — Словенский поэт. Родился в семье сельского учителя и органиста. Рано лишился родителей и с большим трудом сумел получить образование. Умер от туберкулеза. Был одним из членов группы так называемого «Словенского модерна» (И. Цанкар, О. Жупанич, Й. Мурн), с которой связано дальнейшее развитие словенской поэзии в ее борьбе с эпигонским псевдореализмом. Опираясь на традиции словенской народной лирики, поэты «Модерна» обогатили ее достижениями европейской поэзии второй половины XIX века, прежде всего французской и немецкой. Д. Кетте писал баллады, романсы, газели, сонеты, публикуя их в периодике. Первая книга стихов его вышла посмертно («Стихи», 1900).
ВОЗЛЮБЛЕННОЙ.
Не думай — о нет, — не молюсь я тебе,
Ведь ты же отнюдь не святая.
Тебя бы поставили — знай! — в алтаре,
Когда бы была ты святая!
Не Иерихон ты, чтоб жадно смотреть,
Лишь издали видя тот город.
Не я Моисей, чтоб в пути умереть
Пред тем, как войти в этот город!
Я понял: тебе угодить нелегко —
Сама ты не знаешь, что хочешь:
С тобой я не ласков — скорбишь глубоко,
Тебя я целую — ты плачешь!
Понятно мне все это. И потому
Ласкать тебя впредь не хочу я.
Просить? Нет, не стану. Но в жены возьму.
Порядку тебя научу я!
* * *
«Село легло под полог темноты…».
Село легло под полог темноты,
А где-то в дальней дали,
Таясь, благоухали
Ночных полей сладчайшие цветы.
Из дома вашего донесся лай собак,
Там кошечка играла.
Ты вышла, рядом встала,
Защебетала шаловливо так:
«Конечно, думает: большое дело мне
Смотреть, как ус он крутит!
Мальчишка! Пусть не шутит —
Не склонится ко мне он, как к жене!»
Взыграл — я это видел! — легкий смех
На ротике на алом,
К щекам перебежал он
И скрылся в двух чудесных ямках тех.
В тех ямочках, сокровище мое,
Так хорошо, так мило, так приятно,
Что я оставлю безвозвратно
Благоразумье там свое!
Да и на что оно мне? Ах,
Не жаль его ни малость,
Лишь только б ты со мной осталась,
Ты, с ямочками на щеках!
ЙОСИП МУРН-АЛЕКСАНДРОВ. Перевод со словенского М. Петровых.
Йосип Мурн-Александров (1879–1901). — Словенский поэт-лирик, один из участников «Словенского модерна» (см. выше). Трагическая судьба Й. Мурна, обладавшего ярким поэтическим даром, напоминает судьбу Д. Кетте. Будучи «незаконнорожденным» сыном служанки, он всю свою недолгую жизнь провел в крайней нужде. Он сумел окончить гимназию и отправился учиться в университет — сперва в Вену, затем в Прагу, но не был принят. Умер от туберкулеза двадцати двух лет, в той же комнате и на той же постели, где двумя годами раньше скончался Д. Кетте. Книга стихотворений Й. Мурна «Песни и романсы» вышла посмертно, в 1903 году. Стихи Мурна проникнуты предчувствием скорой смерти. В лирике Й. Мурна ощущаются следы увлечений русской поэзией, в частности, А. Кольцовым.
НА ПЕРРОНЕ.
Поезда несутся мимо,
Рельсы звонкие гудят.
Облака густого дыма
Провожает чей-то взгляд.
Кто-то ждал вчера напрасно.
Ждет сегодня, ждет всегда.
Каждодневно, ежечасно
Он встречает поезда.
Он измучен, он измотан
Одиночеством, бедняк.
Да, без родины живет он,
Но не спрашивайте — как.
Одинокий и суровый,
Ждет живых родных сердец.
Задрожали рельсы снова…
Наконец-то, наконец!
Ждет безмолвно, недвижимо,
Безнадежно, слепо ждет,
А в лицо — лишь хлопья дыма.
Мчится поезд… Нет, не тот.
КОГДА УСНУТ ЛЕСА.
В час, когда уснут леса,
Слышу тайные рыданья,
Всех сердец людских страданья,
Дальних жалоб голоса.
В мир нисходит тишина,
Но душа полна тоскою,
Не найти душе покоя
В сладостных глубинах сна.
Я — лишь безответный глас
Вопиющего в пустыне…
Блещут звезды в темной сини,
И молчит полночный час.
Жаркой жизни торжество,
Вихри буйные, примчите
И в ночи перекричите
Ропот сердца моего!
Пусть вернутся дни в цвету,
Жгучей битвы гром и пламя!..
Ночь с блестящими глазами
Тихо, тихо вьет мечту.
* * *
«Длится зимняя ночь сквозь пургу…».
Длится зимняя ночь сквозь пургу
И сквозь вихрь, завывающий тонко;
Я не сплю, я уснуть не могу,
Словно мать, что качает ребенка.
Не щадит меня темная ночь,
Мучит совесть, и в сердце истома;
Буйный ветер не тронется прочь —
Все кружит и кружит возле дома…
Как схожи мы, ветер! Подобно твоей,
Судьбе моей некуда деться —
Напрасно молить у закрытых дверей,
Коль негде душе отогреться.
МГНОВЕНИЕ.
В небе птица промчалась невесть куда.
Где окончит полет и начнет когда
Новый путь?
Свет мгновенья из сердца вот-вот уйдет,
И не знаем — куда и когда блеснет
Где-нибудь…
ИЛЛЮСТРАЦИИ.

Михай Мункачи. Последний день осужденного.

Захарий Зограф. Автопортрет.

Анри де Тулуз-Лотрек. Цирк Фернандо.

Франсиско Гойя. Расстрел в ночь со 2 на 3 мая 1808 года.

Андрес Цорн. Мадонна.

Иозеф Манес. Ян Постава.

Эжен Делакруа. Греция на развалинах Месолонги.

Франсуа Милле. Собирательницы колосьев.
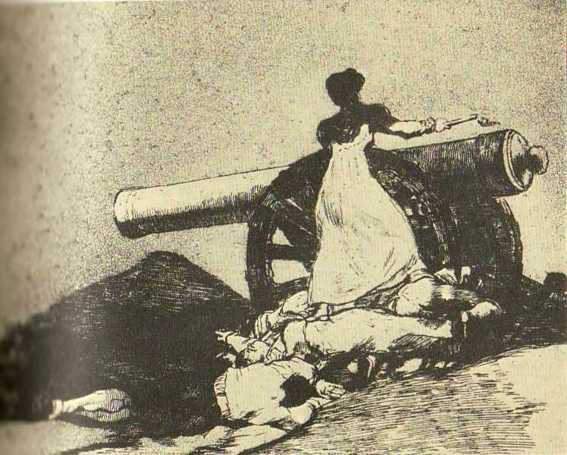
Франсиско Гойя. Какое мужество! (Из серии «Бедствия войны»).
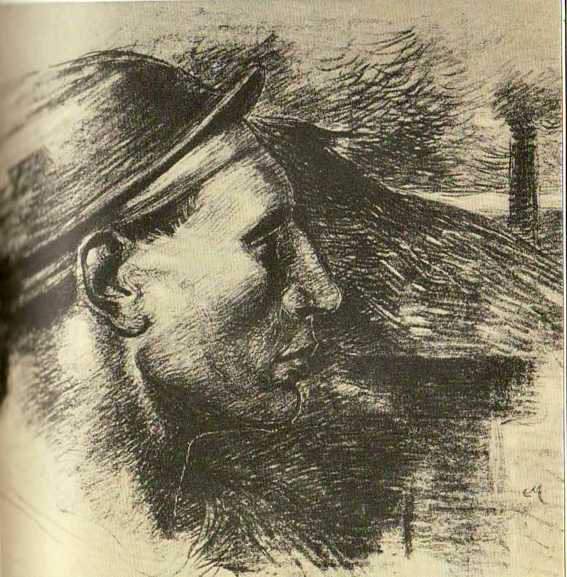
Константин Менье. Голова шахтера.

Оноре Домье. Улица Трансонен 15 апреля 1834 года
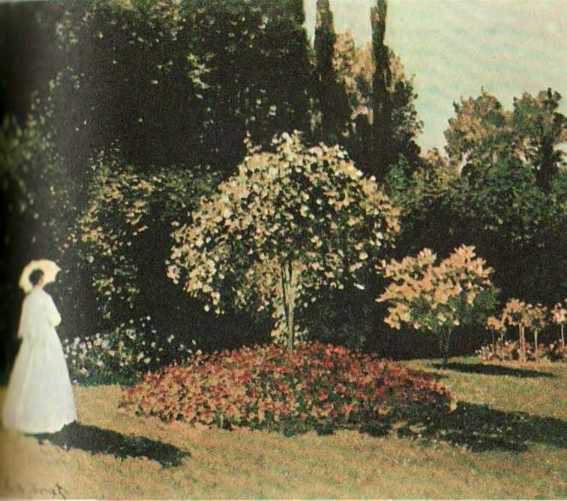
Клод Моне. Дама в саду.

Камиль Писсарро. Бульвар Монмартр.

Винсент Ван-Гог. Хижина.
ПРИМЕЧАНИЯ К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ.
Настоящий том иллюстрирован репродукциями картин и рисунков выдающихся художников XIX века.
Ведущее положение в изобразительном искусстве прошлого столетия занимает французская школа. Одним из крупнейших художников первой половины века является Эжен Делакруа (1798–1863), чье творчество связано с романтизмом. Картина Э. Делакруа «Греция на развалинах Месолонги» (1826) воссоздает один из трагических эпизодов борьбы Греции за свою независимость; именно в Месолонги погиб в 1824 году Байрон, принимавший участие в этой героической борьбе.
Высокой поэтичностью отмечены полотна Франсуа Милле (1814–1875), художника-реалиста, близкого к прославленной барбизонской школе французского пейзажа; картина Ф. Милле «Собирательницы колосьев» (1857) воссоздает сцену повседневного крестьянского труда.
Литография крупнейшего французского графика Оноре Домье (1808/1810? — 1879) «Улица Трансонен 15 апреля 1834 года» (1834) — гневный отклик художника-демократа на расправу правительственных войск с жителями столицы во время революционных выступлений в Париже.
Непосредственность, умение передать мгновенный, мимолетный облик сцены свойственны искусству французского импрессионизма, оказавшего влияние не только на дальнейшее развитие европейской живописи, но и на поэзию. Живопись импрессионизма представлена в томе картинами «Дама в саду» (1867) Клода Моне (1840–1926) и «Бульвар Монмартр» (1897) Камиля Писсарро (1830–1903).
В творчестве французских художников конца прошлого века Ван-Гога и Тулуз-Лотрека сказались обусловленные сложными социальными противоречиями изменения в эстетической оценке окружающего мира. Обостренное восприятие реальности, ее трагизма особенно свойственно произведениям Винсента Ван-Гога (1853–1890); в нашем томе его творчество представлено картиной «Хижины» (1890). Автор картины «Цирк Фернандо» (1888) Анри де Тулуз-Лотрек (1864–1901) — художник Парижа, его темпа жизни, его улиц и развлечений; зрелищные представления в кафе, кабаре, цирке привлекали художника остротой и яркостью впечатлений.
Испанское искусство представлено в томе произведениями Франсиско Гойи (1745–1828), выдающегося живописца и графика. Оба помещаемых в книге произведения принадлежат к лучшим работам Гойи и связаны с борьбой испанского народа против наполеоновских войск. Картина «Расстрел в ночь со 2 на 3 мая 1808 года» изображает расправу французских оккупантов с испанскими повстанцами; художник сумел передать высокий накал гражданских чувств с помощью выразительной и напряженной гаммы цвета. Высокое мастерство Гойи-гравера можно оценить по листу «Какое мужество!» из знаменитой серии офортов «Бедствия войны».
Немецкое искусство первой половины XIX века представлено работой художника Каспара Давида Фридриха (1774–1840), принадлежавшего к романтической школе. Его картина «Этапы жизни» (1835), где пять кораблей олицетворяют судьбы пяти изображенных на полотне персонажей, насыщена характерным для Фридриха символико-философским содержанием.
Ведущим жанром английской живописи XIX века становится пейзаж. В томе воспроизводится картина выдающегося пейзажиста прошлого столетия Джона Констебля (1776–1837) «Морской пейзаж» (около 1824–1825 гг.). Передачей свето-воздушной среды и тонкостью понимания природы Констебль предвосхитил достижения французского пейзажа второй половины XIX века.
Одним из первых европейских художников, обратившихся к индустриальной теме, к созданию образа рабочего, был бельгийский скульптор Константин Менье (1831–1905); многие его произведения, в том числе и литография «Голова шахтера», воспроизведенная в настоящем томе, созданы под влиянием поездки в угольный район Боринаж.
Образ молодой женщины из народа создает в своей гравюре «Мадонна» (1900) крупнейший шведский художник Андерс Цорн (1860–1920), испытавший на себе сильное влияние французского импрессионизма. В своих лучших работах он передает своеобразие национального характера, особенности жизненного уклада своего народа.
Национальная тематика лежит в основе большинства произведений классика чешского искусства Иозефа Манеса (1820–1871), который представлен здесь акварелью «Ян Постава» (1854).
К числу лучших произведений венгерского искусства XIX века относится картина Михая Мункачи (1844–1900) «Последний день осужденного» (в томе воспроизводится второй авторский вариант 1876 г.). Полотно посвящено судьбе революционера.
В XIX веке складывается и светское искусство болгарского народа, тормозившееся веками иноземного владычества. Созданный в 40-е годы «Автопортрет» выдающегося болгарского просветителя и живописца Захария Зографа (1810–1853) дает наглядное представление о первом этапе болгарского реализма XIX века.
К. Панас.
Примечания.
1.
Мемнон — в античной мифологии сын богини Эос (Авроры), убитый под Троей. Именем Мемнона греки называли статую египетского фараона Аменхотепа III, которая при восходе солнца издавала звук, похожий на жалобное пение. Считалось, что Мемнон приветствует свою мать Эос.
2.
Диоскуры — дети Зевса и Леды, братья-близнецы Полидевк и Кастор; Зевс превратил их в созвездие Близнецов (греч. миф.). Диоскуров почитали как покровителей воинов и мореходов.
3.
Гёте. — В 1826 г. Грильпарцер совершил «паломничество» в Веймар и читал свои произведения Гете. Имя Гете постоянно присутствует на страницах произведений Грильпарцера.
4.
Авиньон — французский город, где с 1309 по 1377 г. находилась резиденция римских пап.
5.
Мбусат — город в Калабрии, недалеко от родины поэта, деревни Маки. Хотя действие поэмы происходит в Албании, возле города Шкодры, поэт часто вводит в поэму калабрийские топонимические названия.
6.
Води — символическое название реки в поэме.
7.
Пилури — название леса возле деревни, где родился поэт.
8.
Теута — жена правителя иллирийского государства ардианов Агрона. Правила страной после смерти мужа (231 г. до н. э.), прославилась своей воинственностью.
9.
Бардюль — правитель иллирийского племени энкелеев (начале IV в. до н. э.), неоднократно воевавший с Филиппом II, царем Македонии.
10.
Песня о рубашке. — Эти стихи — отклик на попавшее в печать сообщение о бедственном положении одной лондонской швеи, вдовы с двумя детьми, которая зарабатывала в неделю семь шиллингов.
11.
Лотофаги. — Стихотворение основано на сюжете из «Одиссеи» (IX, 82–102). Теннисон использовал также мотивы из произведений английских поэтов, например, Э. Спенсера («Королева фей», кн. II, песнь VI).
12.
Годива. — Стихотворение написано после посещения А. Теннисоном Ковентри. Леди Годива жила в Ковентри в середине XI в.; ей посвящали свои стихи и другие поэты XIX в., например, Ли Хант (1784–1859).
13.
К ***, после прочтения… — Скорее всего, отклик на возмутительную, с точки зрения А. Теннисона, публикацию интимных писем Джона Китса.
14.
У моря. — Стихотворение написано, очевидно, на смерть Артура Галлама, умершего в юности друга А. Теннисона.
15.
«В чем, в чем причина этих странных слез…» — песня из поэмы А. Теннисона «Принцесса».
16.
Тифон — сын троянского царя Лаомедонта, возлюбленный Эос, богини утренней зари, которая унесла его к себе на край земли и неба. По просьбе Эос Зевс сделал Тифона бессмертным, но богиня не испросила для него вечной молодости, и Тифон превратился в дряхлого неумирающего старца. Эос разлюбила его и превратила в цикаду (греч. миф.).
17.
Оры (Горы) — богини, ведавшие сменой времен года и порядком в природе. Оры изображались в виде девушек, украшенных плодами или держащих их в руках (греч. миф.).
18.
…При возведенье илионских стен. — Вместе с Посейдоном, богом морей, Аполлон служил царю Лаомедонту и соорудил неприступные стены Трои (греч. миф.).
19.
Улица Нёв-де-Пти-Шан — букв.: Новая улица Малых Полей (франц.).
20.
Конечно, сударь!.. Желаете ли что-нибудь выпить? Какого подать вина? (франц.).
21.
Дорогие (итал.).
22.
Андреа дель Сарто… — Один из монологов книги «Мужчины и женщины». Андреа дель Сарто — флорентинский художник, живший с 1487 по 1531 г. Однажды брат Элизабет Браунинг, поэтессы и жены Р. Браунинга, попросил показать автопортрет Андреа с женой. Браунинг не смог его найти, но написал это стихотворение, в котором раскрывает характеры художника и его жены.
23.
Фьезоле — город в трех милях на запад от Флоренции.
24.
Морелло — самая высокая гора Апеннин на север от Флоренции.
25.
Франциск — Франциск I Французский (1494–1547). Он пригласил Андреа к себе во дворец в Фонтенбло и одарил многочисленными подарками. Когда Андреа вернулся во Флоренцию, то в течение короткого времени промотал все деньги, которые Франциск дал ему в счет будущих картин.
26.
Аньоло — Микеланджело Буонарроти (1475–1564) — итальянский художник, скульптор, поэт эпохи Возрождения.
27.
Скуди — итальянская монета.
28.
Леонардо — Леонардо да Винчи (1452–1519) — итальянский художник, скульптор, архитектор эпохи Возрождения.
29.
Рафаэль (1483–1520) — итальянский художник эпохи Возрождения.
30.
Развитие. — Стихотворение из последнего сборника Браунинга «Асоландо», который вышел в свет в день кончины поэта, 12 декабря 1889 г.
31.
Поп — Александр Поп (1688–1744), английский поэт эпохи Просвещения. Перевел на английский язык «Илиаду» и «Одиссею».
32.
Буттман — автор греческой грамматики.
33.
Хайне — редактор общепринятого текста произведений Гомера.
34.
Вольф Фридрих Август (1759–1824) — немецкий филолог и критик. Известность приобрел работами о гомеровском эпосе. Считал, что «Илиада» и «Одиссея» — произведения народной поэзии.
35.
…Как Пелеев сын… — Имеется в виду Ахилл, герой Троянской войны.
36.
«Этика» — одна из работ Аристотеля.
37.
Стагирит. — Имеется в виду Аристотель (384–322 гг. до н. э.), родившийся в Стагиросе.
38.
Софокл (496–406 гг. до н. э.) — великий драматург Древней Греции. Здесь имеется в виду его трагедия «Антигона» (эписодий II, строки 686–694).
39.
Палладий — изображение вооруженного божества, считавшееся охранителем города. Слово происходит от имени Афины-Паллады. Троянский палладий был сброшен Зевсом с неба основателю Трои — Илу. Троянцы считали, что, пока палладий находится в городе, стены Трои неприступны для неприятеля. Одиссей и Диомед похитили троянский палладий, и Троя пала (греч. миф.).
40.
Симоис — река, на которой, согласно Гомеру, стояла Троя.
41.
Ксанф — река возле Трои.
42.
Аякс — имя двух греческих царей, принимавших участие в осаде Трои. Большой Аякс — один из соискателей руки Елены. Сразился с Гектором у стен Трои и свалил его на землю. Поединок прервали боги. Гектор и Аякс обменялись подаркам (греч. миф.).
43.
Гектор — сын троянского царя Приама, отважный защитник Трои (греч. миф.).
44.
Елена — Причиной Троянской войны послужило похищение Елены, жены Менелая, сыном троянского царя Парисом (греч. миф.).
45.
Итис, или Итил — имя персонажей двух греческих мифов. В первом — фиванская царица Аэдона по ошибке убила своего сына Итила и так оплакивала его, что боги превратили ее в соловья. Во втором — афинская царица Прокна из зависти к своей сестре Филомеле убила ее сына Итила и тоже была превращена в соловья.
46.
Прозерпина (рим. миф.), или Персефона (греч. миф.) — владычица преисподней, богиня земного плодородия и произрастания злаков.
47.
Аталанта в Калидоне. — Сюжетом трагедии послужил греческий миф об охоте на гигантского вепря, посланного богиней Артемидой и опустошавшего окрестности города Калидона. Когда Алтея, царица Калидона, была беременна, ей было предсказано, что ее сын умрет, как только догорит пылавшее в это время в очаге полено. Алтея вытащила полено из огня и спрятала его. Спустя много лет сын Алтеи Мелеагр во время охоты убил вепря и отдал обещанный за это приз прекрасной охотнице Аталанте. Плексипп, дядя Мелеагра, тоже участвовавший в охоте, отнял приз, и Мелеагр убил его и его брата. Разгневанная Алтея бросила в огонь головню, от которой зависела жизнь Мелеагра, и сама умерла от горя.
48.
…О фракийских судах… — Фракия — земля вдоль Черного и Эгейского морей. Фракийцы считались искусными мореходами.
49.
Вакх (Дионис) — бог растительности, покровитель виноградарства и виноделия, один из наиболее популярных богов Древней Греции (греч. миф.).
50.
Вассариды, менады — спутницы Вакха (греч. миф.).
51.
Непобедимый (лат.).
52.
Macte аnimо. — Здесь: будь мужествен [подбодряющий возглас] (лат.).
Стихотворение, название которого здесь можно прочитать «Слава жизни», написано за два часа до смерти Роденбаха (поэт умер от туберкулеза), что, несомненно, служит ключом к его пониманию.
53.
Хаджи Димитр (1840–1868) — герой национально-освободительной борьбы болгарского народа, предводитель повстанческого отряда, погиб в бою с турками.
54.
Караджа Стефан (1844–1868) — предводитель повстанческого отряда, переправившегося вместе с отрядом Хаджи Димитра из Румынии в Болгарию. Раненный, он попал в плен и был повешен турками.
55.
Васил Левский (1837–1873) — национальный герой Болгарии, революционер-демократ. Казнен турецкими властями.
56.
Ужасное чудовище (лат.).
57.
Так судьба стучится в дверь. — Бетховен (нем.).
58.
Поэт. — Пенчо Славейков восхищался русской культурой и гением русского народа, ратовал за укрепление культурных связей Болгарии с демократической Россией. Стихотворение посвящено судьбе народного учителя и поэта Бачо Киро Петрова (1835–1876), активного участника Апрельского восстания 1876 г.
59.
Хэш — дословно: бродяга; хэшами называли в период национально-освободительного движения 60–70-х годов болгарских бедняков-эмигрантов в Румынии и Сербии.
60.
Армяне. — Стихотворение посвящено армянам, бежавшим за рубеж, в том числе и в Болгарию, после кровавой резни, учиненной в 1895–1896 годах турецким правительством в Западной Армении.
61.
Гоце Делчев (1872–1903) — друг Яворова, один из выдающихся организаторов национально-освободительного движения в Македонии.
62.
Призыв (1837) — в «эпоху реформ» (1825–1841) самое популярное в Венгрии патриотическое стихотворение.
63.
Арпад (840 — ок. 907 гг.) — основатель и первый правитель венгерского государства.
64.
Хуняди Янош (1387–1456) — известный полководец и правитель венгеро-хорватского королевства; в 1456 г. наголову разбил турецкое войско под Белградом.
65.
Лаура — Лаура Чаяги, будущая жена поэта.
66.
Проклятие. — Это стихотворение было полностью напечатано лишь в 1925 г.
67.
Гёргей Артур (1818–1916) — главнокомандующий венгерской революционной армией; в 1849 г. под городом Вилагошем без боя капитулировал, сделав невозможным продолжение революционно-оборонительной войны.
68.
Предисловие. — Это впервые напечатанное в 1864 г. стихотворение посвящено, как и «Старый цыган», поражению венгерской революции 1848 г.
69.
Уэльские барды. — Баллада написана по случаю предполагавшегося в 1857 г., впервые после подавления революции, посещения Венгрии австрийским императором Францем-Иосифом; опубликована в 1863 г.
70.
Открытие моста — единственная «городская» баллада Араня. Написанная на открытие в Будапеште моста Маргит через Дунай (1876 г.), она передает атмосферу вопиющей социальной неустроенности в пору утверждения в Венгрии капитализма.
71.
«Скоро встречу Рику снова…» (1771) — одна из «Зезенгеймских песен» Гете, посвященных Фридерике Брион, дочери деревенского пастора в Зезенгейме, в которую Гете был влюблен во время своего пребывания в Страсбурге (1770–1771).
72.
Прометей (1774). — Это стихотворение является одним из самых вольнолюбивых манифестов литературного движения «Буря и натиск» в Германии.
73.
Ганимед (1774). — Используя образ греческой мифологии (Ганимед — мальчик необыкновенной красоты, сын дарданского царя Троя; взятый богами на небо, он стал виночерпием и любимцем Зевса), Гете передает здесь особенно характерное для него в период «Бури и натиска» восторженно-благоговейное отношение к природе, ставшее основой пантеистического мировосприятия Гете и его приверженности к философии Спинозы.
74.
Фульский король (1774). — Песенка Маргариты из «Фауста» Гете. Фула, по верованиям античности, — легендарная страна на дальнем севере.
75.
К Лили Шёнеман (1776). — Одно из стихотворений, отразивших глубокое увлечение молодого поэта Лили Шёнеман, дочерью франкфуртского банкира.
76.
«Ты знаешь край лимонных рощ в цвету…» (1784). — Песенка Миньоны из «Театрального призвания Вильгельма Мейстера»; вошла затем в роман «Годы ученья Вильгельма Мейстера» (1795).
77.
Буонапарте (1797–1798). — Набросок оды, посвященной Бонапарту — тогда еще генералу революционной (хотя уже и не якобинской) Франции, сделан после разгрома австрийских армий в Италии. Поэт надеялся, что военные победы Франции приведут к глубоким общественным изменениям и внутри Германии.
78.
«Зайди, о солнце!..» (1800) — набросок оды. Под именем Диотимы, заимствованным из философского трактата Платона «Пир», Гельдерлин воспел в своем творчестве Сюзетту Гонтар (поэт был домашним учителем в купеческой семье Гонтаров во Франкфурте-на-Майне). Интересна переписка Гельдерлина и Сюзетты, дошедшая до нас, однако, не полностью.
79.
Напутствие (1796). — Эту песню поет под аккомпанемент лютни «Незнакомый певец» в повести-сказке Тика «Удивительная история любви прекрасной Магелоны и графа Петера Прованского», опубликованной во втором томе «Народных сказок Петера Лебрехта» в 1797 г.
80.
Уверенность (1797). — Стихотворение было впервые опубликовано в качестве «лирической вставки» в романе «Странствования Франца Штернбальда» в 1798 г.
81.
«Жила на Рейне фея…» — Эту песню поет графиня Виолетта во втором томе романа «Годви» (1801). Образ красавицы Лорелеи — плод воображения Брентано, хотя крутой утес Лурлей на Рейне упоминался уже в X в. Созданный Брентано образ привлек затем внимание Эйхендорфа, Гейне, Жерара де Нерваля, Аполлинера и других европейских поэтов.
82.
Этот утес, называемый Лорелей, стоит у Баххараха; все, кто проплывает по Рейну мимо него, окликают его и восхищаются многократным эхом.
83.
Замок Бонкур (1827) — родовой замок семьи Шамиссо, снесенный в годы революции.
84.
Инвалид в сумасшедшем доме (1827) — одно из лучших стихотворений Шамиссо, отражающее глубокое разочарованно широких демократических слоев немецкого народа в итогах освободительной войны 1813 г. Герой стихотворения — участник так называемой Лейпцигской битвы народов (1813 г.), где Россия, Австрия, Пруссия и Швеция одержали решающую победу над Наполеоном.
85.
Три песни (1807). — Этот перевод В. Жуковского привлекает своей поэтичностью и удавшейся передачей тираноборческого «духа» подлинника. Что же касается «буквы» оригинала, то Жуковский несколько изменил его ритм, заменил «короля Зигфрида» на «могучего Освальда», «брата» на «отца» и, введя «деву любви», отсутствующую у Уланда, придал концовке баллады налет сентиментализма, характерный во многом для собственной поэзии В. Жуковского.
86.
Хороший товарищ (1809). — Одно из самых популярных стихотворений Уланда, сразу же ставшее народной песней.
87.
К Родине (1814). — Это стихотворение, так же, как и «Новая сказка» (1816), выражает надежду поэта на то, что национально-демократический подъем в Германии в годы борьбы против Наполеона вызовет к жизни прогрессивные общественные преобразования.
88.
Проклятие певца (1814). — Одна из наиболее популярных баллад Уланда, в которой развивается весьма характерная для поэта идея тираноборчества и противопоставления «силы духа», заключенной в поэтическом слове, «силе меча». Баллада звучала в те годы весьма актуально, и образ монарха-тирана соотносили и с Карлом-Евгением и Фридрихом II — правителями Вюртемберга — и даже с Наполеоном.
89.
Жница (1815). — Это стихотворение, написанное на основе газетной заметки о крестьянке, обманутой помещиком, характерно для развитого Уландом жанра актуальной политической баллады. Сюда же относится и баллада «На мосту над Бидассоа» (1834), отражающая реальные события борьбы партизан в Испании против феодальной монархии.
90.
А. Ш. — Эти стихи Уланд посвятил, по всей вероятности, своему другу Альберту Шотту.
91.
Ночное приветствие. — Первые два стихотворения из этого цикла были впервые опубликованы в 1819 г. в тексте новеллы «Мраморная статуя», третье — в 1834 г., в новелле «Поэты и их спутники».
92.
Возвращение свободы. — Это стихотворение, написанное в 1814 г., отражает чувства Эйхендорфа в связи с окончанием освободительной войны 1813 г.
93.
Лорелей. — Стихотворение, написанное в 1812 г., вошло в роман «Мечта и действительность».
94.
Моя Родина (1813). — Стихотворение из сборника «Меч и лира».
95.
Падение Варшавы. — Стихотворение из цикла «Польские песни».
96.
Калиш — город в Королевстве Польском; находился после разделов Польши близ границы, в XVIII–XIX вв. отделявшей русские области Польши от тогдашней Пруссии, захватившей польскую Силезию.
97.
Симонид — греческий поэт (ок. 556—ок. 468 гг. до н. э.), автор надгробных песен героям Фермопил.
98.
Перегрина. — Стихотворение, написанное в 1824–1828 гг., вошло в роман «Художник Нольтен».
99.
Оконный переплет. — Написано в 1844 г.
100.
Курфюрст — Георг-Вильгельм Бранденбургский (умер в 1640 г.), получивший от польского короля право взимать дань с Пруссии, которая являлась в то время данницей Польши.
101.
Вопреки всему! — Это стихотворение, использующее мотивы «Честной бедности» Р. Бернса, было напечатано в «Новой Рейнской газете» 6 июня 1848 г.
102.
Прощальное слово «Новой Рейнской газеты». — Стихотворение было напечатано вместо передовой статьи в последнем, триста первом, номере «Новой Рейнской газеты» 19 мая 1849 г.
103.
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 21, с. 4.
104.
«Кровь из ран уж больше не сочится…» — Стихотворение из цикла «Оправдание боли» (№ 3), написано в 1844 г.
105.
«Боль, загадочна ты!..» — Стихотворение из цикла «Оправдание боли» (№ 10), написано в 1841 г.
106.
В лесу. — Это стихотворение, помеченное «18 февраля 1849 года», было впервые опубликовано в новелле «Иммензее» (1850).
107.
Приказ короля (франц.).
108.
Боже седлешко — мифическое существо лужицкого пантеона, чье появление предвещало близкую кончину.
109.
Блоты (по-немецки — Шпревальд) — болотистая низменность, образуемая Спревой в среднем течении между городами Хочебузом и Любином (Люббен). В балладе М. Косика отражен известный мотив о спящем в пещере короле, который проснется в ту минуту, когда его народу будет угрожать гибель, и спасет его.
110.
Утро. — Стихотворение представляет собой секстину, форму, изобретенную трубадурами и перешедшую в литературу Возрождения.
111.
Ода Святому полку. — Ода посвящена павшим героям войска Александра Ипсиланти, выступление которого положило начало греческой революции.
112.
Пожелания. — Негодование поэта вызвано враждебной позицией западных держав по отношению к греческой революции.
113.
Ксантула. — Одно из ранних стихотворений Соломоса. Положенное на музыку, оно стало народной песней. Имя «Ксантула» значит «белокурая».
114.
Carmen sаеси1аге. — В переводе с латинского — «Гимн века». Так называется торжественный гимн римского поэта Горация (65–8 гг. до н. э.) по случаю игр в честь подземных богов; эти игры проводились примерно раз в сто лет. Мотив прославления животворных сил природы сближает стихотворение Соломоса с гимном Горация.
115.
Свободные осажденные. — Поэма посвящена героической обороне города Месолонги, который дважды подвергся турецкой осаде. Вторая осада началась в апреле 1825 г. и закончилась через год, когда истощенные голодом защитники города решились пойти на прорыв. В живых остались немногие. Месолонги был сожжен дотла.
116.
Сулиот — житель горного местечка Сули в Эпире. Маленькое племя сулиотов прославилось своей героической борьбой против турецких завоевателей.
117.
Араба конь, Француза ум, пуля Турка… — Эта фраза символизирует мощь вражеских сил, ополчившихся против маленького Месолонги.
118.
Мьяулис — один из военачальников греческой революции 1821 г.
119.
Керкирец — уроженец острова Керкиры. Имеется в виду И. Каподистрия, избранный в 1827 г. президентом Греции. Суцос упрекает Каподистрию в отступлении от демократических принципов греческой революции, закрепленных конституцией Национального собрания Греции (1822).
120.
Песня клефтов. — Стихотворение написано в духе клефтского фольклора времен освободительной борьбы греческого народа.
121.
Ах, был один!.. — Имеется в виду датский поэт и драматург Й. Эвальд (1743–1781).
122.
Рунгстед — место, в котором Й. Эвальд жил с 1773 по 1776 г. Здесь он создал, в частности, драму «Смерть Бальдра» (1775), высоко ценимую Эленшлегером.
123.
Гёфион (или Гевьон) — в древнескандинавской мифологии — богиня плодородия. По преданию, шведский король Гюльфе обещал дать Гефион столько земли, сколько она могла вспахать на четырех быках за один день. Гефион превратила своих четырех сыновей в быков и отделила от Швеции остров Зеландию. На месте проделанной ею борозды возник пролив Зунд.
124.
Скония, или Сконе — область южной Швеции.
125.
Данеборг — датский государственный флаг, на красном поле изображен белый крест.
126.
П.-Б. Шелли (1792–1822), английский поэт-романтик, утонул в Тосканском заливе.
127.
Безымянный. — Стихотворение автобиографично.
128.
Темнокудрая Розалин. — Переложение старинного ирландского стихотворения, написанного во времена королевы Елизаветы. В нем заключено обращение к Ирландии.
129.
Вот лиса… — В одной из исландских народных сказок, возникших в XVII в., говорится, что известный поэт этого века — Хадльгримур Пьетурссон, автор рим и религиозных стихотворений — убил своим стихом лису, приносившую много вреда.
130.
Виса — строфа в скальдической поэзии.
131.
…Стихотворец мог убить заговорным сказом. — В Исландии поэзии приписывалась магическая роль, в особенности это относилось к стихам хулительным, которые назывались «нид» и были близки к заклятиям.
132.
Островок Гуннара. — В основу этого известного стихотворения положен эпизод из «Саги о Ньяле». Гуннар с братом должен был покинуть родину, но по дороге к кораблю его конь споткнулся, Гуннар соскочил с коня, взгляд его упал на склон горы и на родной хутор. Гуннар сказал: «Как красив этот склон! Таким красивым я его еще никогда не видел; желтые поля и скошенные луга. Я вернусь домой и никуда не поеду». После этого на тинге, исландском вече, Гуннар был объявлен вне закона и позже убит своими врагами в собственном доме. Приведенная здесь цитата из саги знаменита тем, что это едва ли не единственный случай эмоционального, личного отношении к природе, встречающийся у действующих лиц исландских родовых саг. Стихотворение было написано после поездки поэта по южной Исландии, где происходили описываемые события. Этот исторический район некогда был очень плодородным, но впоследствии превратился в бесплодную пустыню из-за разлива рек. Уцелел лишь клочок земли, покрытый травой; по традиции это место зовется «Островком Гуннара», — здесь Гуннар решил вернуться домой.
133.
Фьялар и Фрости — карлики, упоминаются в «Младшей Эдде».
134.
Тинд — горы в южной Исландии.
135.
Ранга и Маркарфльот — реки, между которыми стоял хутор Гуннара.
136.
Хлидаренди (букв.: «конец склона») — хутор Гуннара.
137.
Кольскегг — брат Гуннара, отправлявшийся с ним в изгнанье.
138.
Гуннарсхольм — букв.: «Островок Гуннара».
139.
Катаракт — самый большой водопад в Исландии и один из самых крупных в Европе.
140.
Эггерт Олафссон (1726–1768) — исландский натуралист, филолог, поэт. Со своей молодой женой он утонул в Бредафьорде, переправляясь с северной пристани Скор на южную сторону фьорда.
141.
Гимн Тысячелетию Исландии. — Был написан в 1874 г. и стал национальной песней.
142.
Мартовское восстание. — Имеется в виду восстание народных масс в марте 1808 г. против французских оккупантов и против Карла IV, потворствовавшего оккупации Испании наполеоновскими войсками.
143.
Бетис — древнее название реки Гвадалквивир.
144.
Фернандо. — Имеется в виду Фернандо III (1199–1252), король Кастилии и Леона, отвоевавший у мавров Севилью и Кордову.
145.
Гонсало. — Имеется в виду Фернандес де Кордова (1453–1515), полководец, прославившийся в битвах с маврами и французами.
146.
Сид (Родриго Диас де Бивар, 1043–1099) — герой борьбы против мавров; его подвиги увековечены в испанском народном эпосе (см. т. 10 БВЛ).
147.
Хениль — река в Андалусии, на берегу которой стоит Гранада.
148.
Как Вашему Сиятельству угодно. — Сонет написан, возможно, около 1812–1813 гг. и имеет биографическую основу; точный адресат при столь убедительной типизации вряд ли важен, хотя поэт признавался: «Этот сонет… разит одно лицо, занимавшее в свое время блестящую должность».
149.
…Трапезундским королем меня вы объявили… — Трапезунд (город в Турции) во многих миланских поговорках и пословицах — символ недосягаемой, сказочной земли.
150.
К Флоренции. — Сонет написан около 1800–1801 гг., опубликован в 1802 г.
151.
Арно — Флоренция стоит на берегу реки Арно.
152.
…В чьем имени рокочет гром латыни. — Смысл подлинника: после падения Рима именно Флоренция дала приют Славе.
153.
…Вымещали гнев на гибеллине и гвельфу воздавали… — Гибеллины и гвельфы — две партии, ведшие кровавую борьбу за господство в средневековой Италии, в частности, во Флоренции (XII–XV вв.).
154.
…У твоего моста… — Имеется в виду Санта-Тринита, главный мост через Арно во Флоренции.
155.
…Прибежищем служить поэту… — Поблизости жил драматург В. Альфьери (1749–1803), в те годы для Фосколо и его современников — первый среди живущих итальянских поэтов (об Альфьери см. также т. 51 БВЛ).
156.
Гробницы. — Поэма написана в 1806 г., опубликована в 1807 г. Поводом к ее созданию послужило распространение на Италию французского эдикта 1804 г., разрешавшего хоронить покойников только на муниципальных кладбищах. Фосколо беседовал на эту тему с поэтом И. Пиндемонте (1753–1828), которому и посвятил свою вскоре написанную поэму; она построена как обращение к Пипдемонте, которого Фосколо называет в поэме другом. О своей поэме Фосколо писал: «Я научился поэзии такого рода у греков, которые из древних преданий черпали нравственные и политические уроки, представляя их не рассудочным заключениям читателей, но воображению и сердцу».
157.
О Талия, и твой вернейший жрец… — Талия — муза комедии и — как в данном случае — сатирической поэзии. Ее жрец — названный ниже по фамилии Дж. Парини (1729–1799), автор сатирической поэмы «День». Он был похоронен на общем кладбище, и его могила быстро затерялась.
158.
…Того Сарданапала из Милана… — Герой поэмы Парини назван именем ассирийского царя (VIII в. до н. э.), которое символизирует бесхарактерность и развращенность.
159.
…Кто не страшился… — Имеется в виду Н. Макиавелли (1469–1527), характеристика которого у Фосколо объясняется тем, что в эпоху Просвещения было распространено убеждение, будто Макиавелли в своем сочинении «Государь», по видимости наставляя власть имущих в средствах к достижению политического успеха, на самом деле разоблачал сущность и нравы тирании.
160.
…Кто в Риме… возносил… купол… — Речь идет о Микеланджело Буонарроти (1475–1564), великом итальянском художнике, воздвигшем купол собора св. Петра в Риме.
161.
…Кто в поднебесье разглядел… — Имеется в виду Г. Галилей (1564–1642), великий астроном, утвердивший коперниковскую гелиоцентрическую систему мира.
162.
Бритту… дорогу открыло... — Бритт — И. Ньютон (1642–1727), подчинивший научные представления о вселенной законам механики.
163.
О, как благословенна ты… — Поэт обращается к Флоренции.
164.
…Ты первой услыхала… — Фосколо в авторском примечании отсылает к утверждению, широко распространенному в его время (но опровергнутому в наше), будто Данте начал писать «Божественную Комедию» (с ее инвективами против Флоренции — «лютый гнев» данного перевода) еще до изгнания из родного города.
165.
…Достойного собрата Каллиопы... — Каллиопа — муза эпической поэзии и старшая между музами. Фосколо ставит в заслугу Петрарке, что тот сладострастную эротику древних сумел претворить в духовность любовного поклонения Лауре.
166.
Витторио — В. Альфьери (об Альфьери см. также т. 51 БВЛ).
167.
К Франческо Ломонако. — Ранний (1802 г.) сонет Мандзони обращен к итальянскому философу и политическому деятелю (1772–1810) в связи с выходом в свет сочинения Ломонако «Жизнь Данте» (что и объясняет его начальные строки).
168.
Флора — здесь: Флоренция.
169.
…Изгнанник сам… — Ф. Ломонако принимал активное участие в неаполитанской революции 1799 г., издавал якобинскую газету; чудом спасшись после разгрома революции, бел; а л за границу.
170.
С трубою — Данте… — Труба здесь — символ эпической поэзии.
171.
Лебедь Воклюза — то есть Петрарка, в Воклюзе под Авиньоном сложивший лучшие сонеты в честь Лауры.
172.
Аскра — городок на склоне Геликона, обители муз; родина Гесиода, автора языческой «Теогонии», которого, — говорит Мандзони, — «догнал» автор христианской «Божественной Комедии» — флорентинец Данте.
173.
Оробии не стоит Сиракуза. — Оробией (от названия племени, жившего там в древности) поэт называет Бергамо. Из этого итальянского города происходил Т. Тассо, чья пастораль «Аминта», считает Мандзони, выше античных идиллий Феокрита, уроженца Сиракузы.
174.
Любимец Мельпомены италийской… — Имеется в виду В. Альфьери.
175.
…Ты, что смелый подъемлешь бич… — Обращение к Дж. Парини.
176.
…Плектрону отдых дав? — То есть оставив лирическую поэзию: плектрон (плектр) — приспособление для игры на лире.
177.
…На стезе аскрийской… — то есть на пути к вершинам поэзии (от города Аскры).
178.
Рождество. — Написано в 1813 г., опубликовано в 1815 г.; входит в цикл «Священные гимны». По замыслу Мандзони, он должен был состоять из двенадцати гимнов, по числу важнейших праздников католического церковного года. Написаны были (1812–1822) только шесть; сохранились также фрагменты седьмого. Обращение Мандзони в католичество привело его к темам, питавшим высокое всенародное искусство средних веков и Возрождения. В XVII–XVIII вв., у предшественников Мандзони, эта тематика выродилась в академическую, холодную риторику. Задачею поэта было вернуть глубину и непосредственность восприятию евангельской истории. Мандзони обратился к вековым запасам поэтического слова, укорененного в читательской памяти.
179.
…Ефрафов город… — Вифлеем, где, но ветхозаветному пророчеству (Мих. 5, 2), родился Иисус Христос.
180.
Март 1821 года. — Ода написана в марте 1821 г., когда казалось неминуемым, что пьемонтские войска (Пьемонт был независимым итальянским государством) в ближайшие дни перейдут пограничную реку Тичино и окажут помощь либералам Ломбардии, принадлежавшей австрийской короне. Для итальянских патриотов это чаемое событие знаменовало начало полного освобождения родины. Мандзони в своей оде представляет переход через Тичино свершившимся. Но поход не состоялся: пьемонтский король предпочел сговориться с австрийцами о борьбе с либералами в своем собственном королевстве. Опубликована ода впервые только в 1848 г., в период «Пяти дней», когда австрийцы были временно изгнаны из Милана.
181.
…Памяти Теодора Кернера… — Т. Кернер (см. прим. к с. 290) — немецкий поэт, герой борьбы против Наполеона. Мандзони, как и многие его современники, считал, что Кернер пал в битве под Лейпцигом, тогда как в действительности он погиб 26 августа 1813 г. под Гадебушем.
182.
…Двух рек соименных… и дальше. — Нераздельность По, главной реки Северной Италии, с ее перечисляемыми притоками Мандзони делает эмблемой единства Италии. «Соименные реки» — Дора Балтеа и Дора Рипариа.
183.
От Альп и до Сциллы… — то есть от края до края Италии: Сцилла— скалистая оконечность Калабрии.
184.
…Замышляли злодейство… о воле крича… — В пору борьбы с Наполеоном австрийцы не скупились на обещания дать свободу Италии, но итальянские патриоты обманулись в своих надеждах.
185.
…Под гнетом вы стенали… — Австрийцы, недавно бившиеся за свою свободу с Наполеоном, победив, стали угнетателями Италии, ее врагами.
186.
Он, кто красные волны обрушил… — Бог, по известному библейскому преданию, дал перейти Красное море евреям, «яко по суху», заставив расступиться морские воды, которые сомкнулись над головами преследователей — египтян.
187.
…В руку вложил Иаили молоток… — Библейская Иаиль умертвила ханаанского военачальника, притеснителя евреев Сисару, вбив ему молотом в висок кол (Книга Судей, IV).
188.
Стяг победный — святые цвета! — То есть трехцветное итальянское знамя.
189.
Пятое Мая. — Ода написана 17–19 июля 1821 г., сразу по получении в Милане известия о смерти Наполеона. Она разошлась в списках, выдержала (с 1823 г.) множество изданий. Ею восторгался Гете. Ф. Тютчев перевел ее частично.
190.
…Позор Голгофы… — Мандзони неоднократно пояснял, что его слово «позор» включено в тот семантический ряд латинских и восходящих к ним выражений, в основе которого евангельские слова о смерти Христа, и славянском переводе звучащие: «юродство», «соблазн», «поношение».
191.
Оружье мне, оружье! — Леопарди цитирует свой перевод (1816) «Энеиды» Вергилия (II, 668).
192.
Где сыновья твои? — Цитата из «Последних писем Якопо Ортиса» Уго Фосколо (см. выше).
193.
…Твои сыны в чужих краях сражаются. — Поэт говорит об участии итальянских войск в русском походе Наполеона; этой теме он посвятил также канцону «На памятник Данте…» (1818).
194.
Теснины фессалийские… — Фермопилы, где в 480 г. до н. э. пали триста спартанских воинов во главе с царем Леонидом, сдержав натиск персидских полчищ Ксеркса. Потерпев поражение и на море при Саламине, Ксеркс бежал в Азию (за Геллеспонт).
195.
Симонид. Леопарди, посвящая свою канцону поэту Винченцо Монти (1754–1828), писал что «никакой другой лирический Поэт не затрагивал столь возвышенной и столь достойной темы», и утверждал, что его «К Италии» — только «переделка» песен Симонида.
196.
Алтарь — гробница ваша… — Сам Леопарди указал, что цитирует здесь дошедший до нас фрагмент из Симонида.
197.
К себе самому. — В этом стихотворении 1833 г. отразилась убежденность поэта, что «любовь и смерть одни прекрасны у мира, и только они и достойны стремления к себе», как писал он любимой, которой посвящено это стихотворение.
198.
Палинодия. — Поэма написана и опубликована в 1835 г. Палинодия — песнь отречения от прежде сказанного; по преданию, поэт Стесихор, хуливший Елену за бедствия, которые принесла развязанная ею Троянская война, был наказан слепотой, и зрение вернулось к нему после того, как он обратился к Елене с палинодией, первой в своем роде.
199.
Джино Каннони (1792–1876) — историк и общественный деятель-либерал; издевки Леопарди над восторгами перед машинной цивилизацией но нашли отклика у адресата, разделявшего ходячий оптимизм эпохи.
200.
И в воздыханъе вечном… — Эпиграф взят из сочинения Петрарки «О средствах против всяких превратностей судьбы» (CV, 4).
201.
Гоа — португальская колония в Индии.
202.
Век золотой… — Картины «золотого века», прорисованные сатирическим пером Леопарди, испещрены ироническими отсылками к IV эклоге Вергилия (см. т. 6 БВЛ), предрекавшей обновление вселенной и всеобщее благоденствие после рождения божественного младенца (средневековые христианские толкователи считали, что Вергилий говорил о рождении Иисуса Христа); из всех упомянутых цитат в настоящем издании отмечена, как наиболее существенная, конечная.
203.
…Внуки Сима, Хама и Яфета… — то есть все современное человечество, ведущее, по библейскому сказанию, свой род от трех сыновей Ноя.
204.
…Дальний брег Атлантики… — Америка.
205.
…Ни Вольта… ни Дэви… — Инженерные достижения и научные открытия итальянца Алессандро Вольта (1745–1827) и англичанина Хэмфри Дэви (1778–1829) были для современников символами грядущего торжества прикладной науки.
206.
…Под… ложем Темзы будет прорыт тоннель… — Лондонский путепровод под Темзой был задуман еще в 1799 г.; ко времени написания «Палинодии» его сооружение не было закончено.
207.
Лучшие умы… — Леопарди имеет в виду пассаж из «Послания о лиссабонском землетрясении» Вольтера, цитируя который он писал в 1826 г.: «Еще того труднее — составить, как делают философы, из несчастий всех существ всеобщее счастье»; и в 1831 г.: «Я смеюсь над счастьем масс, потому что мой маленький мозг не может представить себе счастливую массу, состоящую из несчастных личностей».
208.
Один твой друг… — Имеется в виду Никколо Томмазео (1802–1874) — итальянский писатель, филолог, философ, политический деятель, виднейший представитель католического либерализма; Леопарди в дневниковых записях язвительно пишет о его вере в прогресс.
209.
…О надежде… залог которой… — Леопарди имеет в виду такой «залог надежды», как бороды — по моде времени отличительную черту либералов.
210.
Ликуйте, милые потомки… — Леопарди иронически отсылает к ключевой 60-й строке IV эклоги Вергилия (см. выше): «Мальчик, мать узнавай и ей начинай улыбаться» (перевод С. Шервинского.).
211.
Паровая гильотина. — Стихотворение написано в 1833 г. и, как многие другие произведения Джусти, разошлось во множестве списков; впервые опубликовано — без ведома автора — в 1844 г. Адресат сатиры — моденский герцог Франческо IV д’Эсте (1779–1846), после разгрома революции 1831 г. предательски казнивший патриотов Менотти и Борелли; Джусти неоднократно бичевал его своими стихами.
212.
…Малость алчен… — Франческо IV отличался скупостью.
213.
Плачет моденский Тиберий… — то есть тиран (Тиберий, 42 г. до н. э. — 37 г. н. э., римский император, кровавый деспот, чье имя стало нарицательным).
214.
Улитка. — Стихотворение 1841 г., опубликовано в 1845 г. В нем звучит самоирония: Д. Джусти был любителем и защитником покойной домашней жизни, самодостаточность которой олицетворяет улитка.
215.
…План ступеней стал совершенней. — Имеется в виду конструкция лестницы «улиткой».
216.
…Обрящет голову она другую. — По народному поверию, улитка обладает способностью восстанавливать утраченную голову.
217.
…На площади перед Святым Петром… — то есть на площади перед собором Петра, первым по значению собором католического мира.
218.
…Тридцать лет… — Отрезок времени с 1517 г., когда Лютер выступил со своими богословскими тезисами, ставшими знаменем антикатолической Реформации, до 1546 г. — года его смерти.
219.
Плач извечный. — В 1870 г. за несколько месяцев до написания этого стихотворения Кардуччи потерял трехлетнего сына.
220.
Эллинская весна (I. Эолийская). — Стихотворение (1871) из маленького цикла, в который входят еще два, также преобразующие на итальянском языке стиль древнегреческой лирики (II. Дорийская; III. Александрийская). «Весна эолийская» в подлиннике написана эквивалентом малой сапфической строфы. В основу стихотворения поэт положил известный в пересказах гимн Алкея Аполлону. Эолия — область в Древней Греции, куда входил Лесбос, уроженцами которого были Алкей и Сафо.
221.
Федриада — вершина Парнаса.
222.
Солон. — Солон (640 — ок. 560 гг. до н. э.) — афинский государственный деятель и поэт. В основе поэмы лежит легенда, переданная в «Пестрых рассказах» Элиана (вторая половина II в.). Солон услыхал, будучи глубоким стариком, на пиру песню Сафо. Он горячо просил научить его этой песне. Когда же Солона спросили, почему в нем вспыхнуло столь страстное желание, он ответил, что хочет выучить песню и умереть. Сохранились пояснения Пасколи к замыслу этой поэмы, из которых следует, что помимо общеочевидных тем в ней поэт развивает и свое мифологическое истолкование образа Сафо (в действительности, говорит он, такой женщины, возможно, не существовало; ее образ — символ слияния с бесконечным; гибельный прыжок Сафо, о котором говорит предание, со скалы в море и означает прорыв в светозарную бесконечность).
223.
…В Пирей завезены женой аресской… — Пирей — афинская гавань; Эресс — по одной из версий, родной город Сафо.
224.
Фок. — Солон слышит песню Сафо в Афинах, на пиру у Фока, которому была посвящена отрывочно сохранившаяся элегия Солона.
225.
Был праздник Антестерий. — Трехдневный праздник в честь Диониса, приходившийся на февраль — март.
226.
Пектида — двадцатиструнная арфа, по преданию, изобретенная Сафо.
227.
Яблоневый сад… и т. д. — Далее Пасколи употребляет рифмованную сапфическую строфу.
228.
Родопида — возлюбленная одного из братьев Сафо.
229.
Сильвы. — Так по примеру Стация (ок. 45–96 гг.) многие латинские поэты называли собрания своих стихотворений «на случай».
230.
Из «Малых сильв» Януса Неморина. — Пасколи подписывал свои латинские стихотворения именем «Янус Неморин» (Лесной Янус).
231.
Хульдра — сказочное существо, очаровывающее людей своим пением. В данном случае подразумевается природа.
232.
Дисе — в скандинавской мифологии богиня судьбы.
233.
Сизиф — в древнегреческих сказаниях царь Коринфа. Наказанный богами, он должен был в царстве душ умерших вечно вкатывать на гору каменную глыбу, которая затем снова падала вниз.
234.
Элизиум — местопребывание теней умерших героев.
235.
Лета — в греческой мифологии река в подземном мире, в которую погружаются тени умерших.
236.
Моргенблад («Моргенбладет») — норвежская консервативная газета, выступавшая с нападками на Х.-А. Вергеланна.
237.
Торд Фолесон. — Стихотворение написано на материале «Саги об Олафе Святом» исландского средневекового историка, философа и поэта Снорри Стурлусона (1178–1241). Олаф Святой (Олаф II Харальдсон, ок. 995–1030 гг.) — норвежский король. Опираясь на церковь, боролся за укрепление королевской власти, против родовой знати. Был убит в 1030 г. в битве при Стиклестаде во время восстания знати и рядовых общинников. Одним из тех, кто нанес смертельный удар Олафу, был знатный норвежец Торд Собака. После смерти Олаф II Харальдсон, завершивший введение христианства в Норвегии, был причислен церковью к лику святых.
238.
Кулик — старопольская масленичная забава, участники которой разъезжают санным поездом по окрестным усадьбам.
239.
Мечник — старопольский шляхетский титул.
240.
Исход из Польши. — Осенью 1831 г. остатки разбитых повстанческих войск перешли на территорию Пруссии, где были разоружены. Большая часть солдат была затем выдана царским властям.
241.
Разлука. — По мнению исследователей, стихотворение посвящено матери поэта Саломее Бекю, к которой Словацкий всю жизнь относился с величайшим уважением и с которой вел многолетнюю переписку.
242.
Погребение капитана Майзнера. — Юзеф Майзнер (1803–1841) — участник восстания 1830–1831 гг., умерший в эмиграции в крайней нужде.
243.
Выстрел бельведерский. — Бельведер, дворец в Варшаве, был резиденцией великого князя Константина Павловича. С нападения на него в ночь с 29 на 30 ноября 1830 г. началось польское восстание.
244.
…У кармелитов ждал… — Монастырь ордена кармелитов в Варшаве был превращен властями в тюрьму для политических заключенных.
245.
«Смилуйся» (лат.).
246.
В альбом Зофье Бобровой. — Посвящено дочери земляка поэта, помещика Бобр-Пётровицкого, с семейством которого Словацкий встречался за границей.
247.
«Друзья, надел земли мне дайте в Польше…» — В стихотворении отразились настроения поэта в 1845 г., когда конспираторы-патриоты вели в разных частях Польши приготовления к новому восстанию и эмиграция жила надеждами на близкий революционный взрыв.
248.
Последний Ромео. — В стихотворении используются мотивы из шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта».
249.
Памяти Бема траурная рапсодия. — Написано в годовщину смерти генерала Юзефа Бема (1794–1850), в 1830–1831 гг. участника польского восстания, в 1846–1849 гг. военачальника восставшей Венгрии, командующего армией.
250.
Гражданину Джону Брауну. — Написано в дни, когда прогрессивная общественность протестовала против смертного приговора борцу за освобождение негров в США Джону Брауну (1800–1859).
251.
Импровизация. — Написано в связи с патриотическими манифестациями 1861 г. в Варшаве: 25 февраля состоялось шествие в память битвы 1831 г. под Гроховом, закончившееся вмешательством войск и арестами, 27 февраля — демонстрация с требованием освободить арестованных, в ходе которой солдаты стреляли в толпу и пять человек было убито, 2 марта — торжественные похороны жертв.
252.
Фортепиано Шопена. — Поводом для написания стихотворения стал эпизод восстания 1863 г. 19 сентября в Варшаве из дворца Замойских на улице Новы Свят стреляли в царского наместника Ф. Ф. Берга, руководившего репрессиями против поляков. Здание было разгромлено войсками, из окна на мостовую выкинули фортепиано, на котором играл Шопен до своего отъезда из Варшавы.
253.
Стихи посвящены поэту, а затем профессору Петербургского университета Антонию Чайковскому (1816–1873), знавшему Норвида в 40-е годы в Варшаве.
254.
…Был у тебя в предпоследние дни… — Норвид встречался с Шопеном в 1849 г. в Париже.
255.
Польша колесников преображенных! — Имеется в виду древняя легенда о колеснике Пясте, родоначальнике средневековой королевской династии.
256.
…Дополнение, сверхсодержанье… — Здесь и далее Норвид излагает свой взгляд на поэзию, согласно которому она должна обладать содержанием скрытым, угадываемым и постигаемым в результате усилий впечатлительного читателя, становящегося как бы участником акта творчества.
257.
Совершенное (лат.).
258.
Зыгмунтов меч. — Речь идет о варшавской «колонне Зыгмунта» на Замковой площади.
259.
Траурных вдов… — Варшавские женщины во время патриотических манифестаций и в дин восстания демонстративно носили траурную одежду, что было запрещено специальным распоряжением царских властей.
260.
Город Авиньон (лат.).
261.
Фарандола — провансальский танец.
262.
Присяга. — Стихотворение стало одной из популярнейших патриотических песен; во время второй мировой войны было гимном созданного в СССР Польского народного войска.
263.
Лузитания — древнее название Португалии.
264.
Сигамбры — древнегерманское племя, упоминаемое в литературе как риторическое обозначение франков.
265.
Киприда. — В «Лузиадах» Камоэнса богиня любви Венера изображена покровительницей португальцев, любящей их за храбрость, равную храбрости римлян, и за мелодичность языка.
266.
Тонущий Камоэнс. — В 1560 г. корабль, на котором плыл пленный Камоэнс, был разбит бурей; поэт спасся вплавь и спас рукопись «Лузиад».
267.
Вставай и шествуй! (лат.).
268.
Цыганиада. — Основное художественное произведение Будай-Деляну, первая в румынской литературе ирони-комическая эпопея. Написана в 1792–1812 гг., опубликована посмертно. В поэме звучит резкая сатира на феодалов и духовенство, прославляется республиканский строй, патриотизм. Отрывок взят из песни X (речь Слобозана против монархии).
269.
Тырговиште — старинный город с крепостью, бывший до середины XVIII в. господарской резиденцией княжества Валахия.
270.
Штефан Великий (год рождения неизвестен — ум. в 1504 г.) — молдавский господарь, боролся с турецким владычеством.
271.
Эминеску Михай (1850–1889) — выдающийся румынский и молдавский поэт (см. т. 126 БВЛ).
272.
Кангасала — название места в провинции Хяме, недалеко от Тампере. В тексте затем упоминаются озера, которые видны с горы Харьюла.
273.
Илкка — вождь крестьянского восстания в Финляндии, известного как «Дубинная война» (1596–1597 гг.).
274.
Клаус Флеминг — наместник шведского короля в Финляндии (1591–1597).
275.
Сатурн летит стрелой. — Здесь Сатурн выступает в роли бога времени (в греч. миф. — Хронос).
276.
Та…чьи сосцы… питали Ромула и Рема… — По преданию, Ромула, будущего основателя Рима, и его брата-близнеца Рема, новорожденными брошенных в лесу, вскормила своим молоком дикая волчица.
277.
Трагический Дюма. — Здесь имеются в виду романтические драмы Александра Дюма-отца (1803–1870).
278.
Тень Лазаря следит голодными глазами… — В евангельской притча (От Луки, XVI, 19–25) покрытый струпьями нищий Лазарь лежал у ворот богача и желал насытиться крошками, падавшими с его стола.
279.
Рыжий Крест — предместье Лиона, где в ноябре 1831 г. вспыхнуло восстание ткачей.
280.
Quos ego! (лат.) — «Я вас!», возглас, которым в «Энеиде» Вергилия Нептун обуздывает разбушевавшиеся волны.
281.
Сатурналии. — На время этих буйно-веселых празднеств рабы в древнем Риме получали свободу.
282.
Иснар — Максимен Иснар (1755–1825), жирондист, пророчивший гибель якобинскому Парижу.
283.
Обездоленный (исп.).
284.
Аквитанский принц. — Нерваль возводил свое происхождение к знатному роду из Перигора, области на юге Франции; возможна здесь и ассоциация с конкретным историческим лицом — герцогом Аквитанским Ваифром, скрывшимся от преследований в лесах Перигора и убитым там (VIII в.).
285.
…Моя звезда мертва… — Комментаторы «Химер» связывают этот образ, в частности, со смертью (в 1842 г.) актрисы Женни Колон, неверной возлюбленной Нерваля.
286.
Позилиппо — грот на холме близ Неаполя, в котором, по преданию, погребен Вергилий.
287.
Лузиньян. — Родоначальницей феодальной фамилии Лузиньянов была, по средневековой легенде, фея Мелюзина («фея» последней строки сонета); она появлялась на башне замка Лузиньянов и издавала тревожные крики всякий раз, когда этому роду грозило несчастье.
288.
Бирон (Шарль де Гонто Бирон, 1562–1602) — вельможа из Перпгора, сподвижник Генриха IV, вступивший под влиянием астрологов в заговор против короля и казненный.
289.
Царицы поцелуй. — Из примечания самого Нерваля, сохранявшегося в одной из рукописей сонета, следует, что под «царицей» он подразумевал царицу Савскую, библейскую подругу царя Соломона. Здесь уместно вспомнить и о том, что Нерваль собирался написать оперу «Царица Савская», заглавную роль в которой должна была исполнять Женни Колон.
290.
Ахерон — мифологическая река в царстве мертвых.
291.
Артемида — одно из самых загадочных стихотворений Нерваля. В его названии Артемида появляется, может быть, как богиня- спасительница в верованиях многих мистических сект античности.
292.
Тринадцатая. — Здесь возможны самые различные толкования: это и тринадцатая карта в специальной гадальной колоде, означающая смерть, переход в другое состояние, и тринадцатая годовщина смерти Софи Доус, юношеской любви Нерваля; сохранилось и примечание самого поэта; «Тринадцатый, поворотный, час».
293.
И у нее в руке сияет роза… — К этой строке Нерваль сделал сноску: «Филомена». Святая Филомена — христианская мученица эпохи последних римских императоров; на современной Нервалю гравюре она изображена о розой в руке.
294.
Роза пламени, Неаполя святая… Святая бездны… — По примечанию Нерваля, Розалия. Святая Розалия — покровительница Палермо, и в одном из вариантов текста она названа «сицилийской святой»; впрочем, и в Неаполе ее чтили как защитницу от многих бедствий. Но так или иначе, она связана с мыслью об огнедышащей разверстой бездне (вулканов Везувия или Этны).
295.
Христос в Гефсиманском саду. — В Евангелии рассказывается, что в ночь перед распятием Иисус пришел с учениками «на место, называемое Гефсимания… Тогда говорит им Иисус: душа моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со мною. И, отошед немного… молился и говорил: „Отче мой! если возможно, да минует меня чаша сия; впрочем, не как я хочу, но как ты“. И приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру: так ли не могли вы один час бодрствовать со мною?» (От Матфея, XXVI, 36–40).
296.
Жан-Поль — псевдоним Иоганна Пауля Рихтера (1763–1825), немецкого писателя, которого романтики почитали как своего предшественника.
297.
Солим — Иерусалим.
298.
Фаэтон — в греческой мифологии сын бога солнца Гелиоса; он умолил отца позволить ему править солнечной колесницей, но слишком приблизился к земле, воспламеняя ее, и был испепелен молнией Зевса.
299.
Аттис — малоазийское божество умирающей и воскресающей природы, возлюбленный Кибелы, великой Матери богов; после смерти был превращен ею в сосну.
300.
Авгур — в Древнем Риме жрец, гадавший по полету птиц и внутренностям жертвенных животных.
301.
Амон-Юпитер. — В поздней античности египетское верховное божество Амон-Ра отождествлялось с Юпитером.
302.
Пифагор (ок. 580–500 гг. до н. э.) — греческий математик и философ. С его именем связывается, в частности, учение о вечном круговороте душ, не исчезающих со смертью людей, но переселяющихся в другие существа и предметы.
303.
Родня Жана де Нивеля. — Выражение «родня псу Жана де Нивеля» во французском языке восходит к историческому эпизоду XV в. Два сына барона де Монморанси, приближенного короля Людовика XI (один из них носил имя Жана сира де Нивель), перешли на сторону злейшего врага короля, герцога Бургундского, и не откликнулись на отцовские призывы вернуться. Барон лишил сыновей наследства, назвав их «псами».
304.
Гаарлем — город в Голландии.
305.
Анри де Латуш (1775–1851) — французский поэт, романист и комедиограф; но наибольшая его заслуга перед французской поэзией — издание впервые сборника стихов Андре Шенье.
306.
Жан де Тий — прозвище водяного у жителей окрестностей Дижона — города, где прошло детство Бертрана.
307.
Перевод И. Шафаренко.
308.
«Венецианский карнавал» — итальянская народная песня, на тему которой Паганини написал вариации.
309.
Ферула — кожаная или деревянная лопатка, которой били в наказание школьников по рукам.
310.
Генерал — Луи Эжен Кавеньяк (1802–1857), руководивший подавлением июньского восстания 1848 года.
311.
…Брата встанет тень! — Годфруа Кавеньяк (1801–1845), брат генерала Кавеньяка, вождь республиканской партии при Карле X и Луи-Филиппе.
312.
Саис — древняя столица Нижнего Египта.
313.
…Призраки бегущих кораблей. — В решающем для Антония морском сражении при Акциуме (31 г. до н. э.) египетский флот по приказу Клеопатры внезапно обратился в бегство.
314.
Ponte vecchio (итал.) — «Старый мост», мост во Флоренции, застроенный ювелирными лавками и мастерскими.
315.
Антонио ди Сандро — владелец ювелирной мастерской, у которого жил в учениках молодой Бенвенуто Челлини.
316.
Цветущее море (лат.).
317.
Давид… окоченев… — По библейской легенде (Третья Книга Царств, I, 2), к дряхлому царю Давиду приближенные привели юную девицу, чтобы она согревала старика теплом своего тела.
318.
Исповедуюсь (лат.).
319.
Господин Прюдом — персонаж карикатур французского писателя и рисовальщика Анри Монье (1799–1877), воплощение обывательской благонамеренности, тупости и самодовольства.
320.
Отважной гражданке Луизе… — В сборнике 1885 г… Клеман снабдил «Время вишен», самую популярную из своих песен, этим посвящением и кратким рассказом о том, как на одной из последних парижских баррикад, среди защитников которой был и он сам, появилась юная санитарка Луиза; она делила с коммунарами все опасности и покинула баррикаду только после того, как было принято решение отступить.
321.
Гюстав Лефрансе (1826–1901) — французский социалист, участник революции 1848 г., видный деятель Коммуны.
322.
Жорж Прото — французский поэт и драматург, автор посвященных Коммуне стихотворений.
323.
Безжалостное солнце мая… — Речь идет о жестокой расправе над коммунарами в последние дни мая 1871 г.
324.
Ганзейцы трехпарусные… — корабли Ганзы, торгового и политического союза северонемецких городов (XIV–XVII вв.).
325.
Монитор — старинный броненосец небольшого тоннажа.
326.
Волхвы — по евангельской легенде (От Матфея, II, 1–17), когда родился Иисус, на востоке появилась звезда; увидев эту звезду, волхвы пошли за нею, чтобы поклониться новорожденному, и она привела их в Вифлеем к младенцу Иисусу. В позднейшем народном предании волхвы превратились в трех восточных царей.
327.
…Сиринкс, бегства знак… — В греческой мифологии Сиринкс — нимфа, спасавшаяся бегством от преследовавшего ее Пана (у римлян в ряде случаев отождествлявшегося с Фавном); когда путь ей преградила река, речное божество сжалилось над Сиринкс и обратило ее в тростник. Пан срезал несколько тростинок и сделал из них свирель.
328.
Липа — любимое дерево древних славян, часто — символ славянства.
329.
Май. — Поэма увидела свет за несколько месяцев до смерти автора (к 1975 г. на родине поэта вышло сто девяносто изданий). В настоящем томе даны фрагменты из поэмы, где герой ее, Вилем, томится в тюрьме в ожидании казни за убийство своего отца — соблазнителя Ярмилы, возлюбленной Вилема.
330.
Посвящение в стихах. — Написано в 1836 году.
331.
Богемский лев — то есть Чехия, находившаяся под властью австрийской династии Габсбургов (чешский герб — белый лев на красном поле).
332.
Тирольские элегии. — Эта сатирическая поэма об аресте автора была написана в ссылке в 1852 г. и впервые опубликована в журнале «Образы живота» в 1861 г. В России (в прозаическом переводе А. Гильфердинга) она была напечатана за год до этого, в 1860 г.; затем в течение десяти лет вышло пять разных переводов на русский язык этой поэмы, один из них принадлежит поэту-сатирику Д. Д. Минаеву (первое издание — 1861 г.). Минаев перевел поэму целиком, но главы VII и VIII перевел свободным стихом, не рифмуя. После 1868 г. перевод Д. Минаева не публиковался, хотя он наиболее интересный из всех существующих. Минаев дал ряд пояснений к поэме; о самом Гавличке он пишет так: «Имя Гавличка — одно из лучших и светлых имен чешской литературы. Поэт, любимый своим народом, редактор „Народных новин“, лучшей чешской газеты по своему влиянию на чехов, Гавличек возбудил неудовольствие и опасения австрийского правительства. В 1851 г. его схватили и отправили в крепость Бриксен, в Тироле, где он в продолжение пяти лет досиделся до чахотки и был наконец прощен, но, возвратившись в Прагу, чрез несколько времени умер.
Переведенные мною элегии Гавличка пользуются у чехов огромной популярностью. В этих песнях поэт, смеясь ядовитым смехом оскорбленного, рассказывает луне, как его взяли австрийские жандармы и повезли в тюрьму».
333.
Верный и честный (нем.). «Верный и честный» — слова из государственного гимна Австрийской империи; Гавличек подчеркивает, что не считает себя благонамеренным верноподданным.
334.
Я из края музыкантов… — Намек на Чехию, где почти каждый чех — музыкант. (Примечание Д. Минаева.).
335.
Бах Александр (1813–1893) — министр внутренних дел в австрийском правительстве, имперский наместник в Чехии. С его именем связан так называемый период «баховской реакции» (1851–1861) — период жесточайшего угнетения и полного политического бесправия Чехии. Арест и ссылка Гавличка были организованы по личному указанию Баха.
336.
Законник (Reichsgesetzbuch) — собрание австрийских законов и постановлений. (Примечание Д. Минаева.).
337.
Доктор. — Поэт играет словами: Бах, бывший австрийский министр, имел степень доктора. (Примечание Д. Минаева.).
338.
Дедера — верховный полицейский комиссар в Праге, которому было поручено арестовать и доставить Гавличка в Бриксен.
339.
Брод (Немецкий Брод) — теперь Гавличкув Брод, город, в котором был арестован поэт.
340.
Последнее. — Стихотворение из сборника «Новые песни».
341.
Будь славен, труд! (1894). — Название стихотворения (букв. «Честь труду!») стало приветствием чешских трудящихся.
342.
«Подсолнечники» — из сб. «Звучность в душе» (1886).
343.
«Разговор у моря» — из сб. «Наследие Тантала» (1888).
344.
«Голос» — из сб. «Молитвенник современного человека» (1892).
345.
Свадьба — стихотворение из цикла «Драма мира», при жизни поэта не публиковалось.
346.
Конарский Шимон (1808–1839) и Лукасинский Валериан (1786–1868) — видные польские революционеры, имевшие связь с декабристами.
347.
Национальная песня — написана в марте 1848 г. в Гонтских Прибельцах, куда прибыл Я. Краль из Пешта со своим другом учителем Ротаридесом и объявил крестьянам о восстании в Вене и Пеште, об отмене барщины; песня была напечатана в июне в Праге во время антиавстрийского восстания, а также вышла в «Песеннике» в Вене (1848).
348.
«Все снегами замело…» — из цикла «Молодые побеги» (1885–1893).
349.
«В царство лесное!..» — из цикла «Весенние прогулки» (1898–1903).
350.
Не будет угнетенных и забитых — из цикла «Отголоски» (1909–1913).
351.
Пора желаньям нашим спящим
Стать волей твердой, словно сталь,
Печаль славян, румын иль венгров —
Всегда единая печаль.
(Перевод С Венгерского Л. Мартынова. ).
352.
Ади Эндре (1877–1919) — венгерский революционный поэт.
353.
Оранта — один из типов изображения богоматери (с воздетыми руками) в византийском искусстве.
354.
Ниссе — сказочное существо, маленький рождественский домовой в скандинавском фольклоре.
355.
Валентин Водник (1758–1819) — словенский поэт, просветитель, общественный деятель, автор, в частности, нескольких первых учебников словенского языка, создатель первой в Словении газеты «Люблянске Новице» (1797–1800). Деятельность В. Водника сыграла важную роль в становлении национального самосознания словенцев.
356.
Ловчен — массив в Черногории, где с одной из вершин открывается вид на всю страну. Ныне там покоится прах П. Петровича-Негоша.
357.
Милош — национальный герой Милош Обилич, убивший в битве на Косовом поле в 1389 г. турецкого султана Мурата I.
358.
Карагеоргий — Георгий Петрович, вождь Первого сербского восстания (1804–1813 гг.) против власти османов.
359.
Вуковцы — то есть люди, подобные Вуку Бранковичу, феодалу, который, по преданию, был предателем своего народа; имя его стало синонимом изменника.
360.
Тени Александра Пушкина. — Стихотворение было опубликовано в качестве посвящения к сборнику народных песен, собранных Негошем («Сербское зеркало», 1846). Негош вообще почитал и любил русскую поэзию — от «Слова о полку Игореве», которое сам начал переводить. Рассказывают, будто во время своей второй поездки в Россию Негош, вынужденный на некоторое время задержаться в Пскове, побывал в Святогорском монастыре и видел гроб с телом А. С. Пушкина.
361.
Поле Гатское — местность на пути из Сараева в Дубровник на Адриатическом побережье. Жители городов и сел этого района часто восставали против турок.
362.
Райя (турецк.) — стадо; так в Османской империи называли христиан.
363.
Памятник на Руевице. — На горе Руевица близ города Алексинац был сооружен памятник русским добровольцам, погибшим во время сербско-турецкой войны 1876–1877 гг.
364.
Воскресение (лат.).
365.
…От голубой ядранской шири. — Ядран — Адриатика.
366.
Градчаны — пражский Кремль.
367.
Сава — река, при слиянии которой с Дунаем лежит Белград.
368.
Вавель — королевский замок в Кракове, где находятся усыпальницы великих сыновей Польши.
369.
Лаба — славянское название реки Эльба.
370.
Мефодиев град — Салоники, родной город славянских просветителей Кирилла и Мефодия.
371.
Лада и Живана — богини языческого славянского пантеона.
Антология.