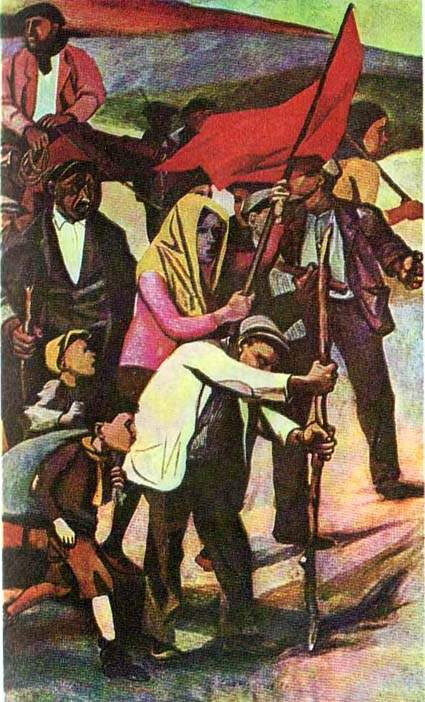ПОЭТИЧЕСКАЯ КАРТА ЕВРОПЫ[1].
[1].
Давайте попробуем представить себе поэтическую карту Европы.
То есть давайте вспомним всех более или менее значительных поэтов, живших (или живущих) на Европейском континенте. Только объединим их по языкам и странам.
В общем-то, такую карту представить себе можно.
Правда, я не знаю, как на ней обозначать поэтов. Может быть, кружочками — как города?
Маленький кружочек — небольшой поэт, кружочек побольше — и, соответственно, поэт позначительней. Совсем крупный кружок (нечто вроде столичного города) — огромный поэт.
Но, во-первых, Европа тогда окажется сплошь забитой кружочками — маленькими, средними, большими и огромными. Сплошные города будут на поэтической карте этого континента. Для селений и хуторов не хватит места. И для полей не хватит, и для лесов. Одни города.
А во-вторых, выйдет, что в большинстве европейских стран появится сразу несколько столиц. Заранее скажу, что споры, какая из этих столиц значительнее, какая из них представительнее и ярче, будут бессмысленными…
Можно пойти по другому пути и условно обозначить самых великих поэтов так, как на географических картах обозначают вершины гор.
Но тогда в Европе не останется равнин, и современный Непал со всеми своими Джомолунгмами будет выглядеть — по сравнению с такой Европой — просто холмистой местностью.
Этим я ничуть не хочу как-то принизить поэзию других континентов. Нет, там вполне достаточно своих гигантов, своих вершин.
Я только хочу сказать, что Европе повезло с поэзией.
А поэтическая карта континента нужна для того, чтобы легче было разбираться в именах, датах и стихах.
Тем более что в этой книге не вся Европа, а только часть ее. И не за все века, а лишь за последние семьдесят пять лет.
Но даже одно перечисление стран, представленных на нашей поэтической карте, впечатляет: Австрия, Англия, Бельгия, Германия (до 1945 г. и ФРГ), Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Турция, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция.
А ведь если заменить названия стран фамилиями некоторых поэтов, то — я уверен — впечатление будет еще более ярким:
Австрия — Райнер Мария Рильке, Стефан Цвейг, Георг Тракль…
Англия — Томас Гарди, Томас Стернс Элиот, Роберт Грейвз…
Германия — Герхарт Гауптман, Герман Гессе, Оскар Лёрке…
Ирландия — Уильям Батлер Йейтс, Джеймс Джойс, Остин Кларк…
Италия — Умберто Саба, Сальваторе Квазимодо, Чезаре Павезе…
Франция — Поль Валери, Гийом Аполлинер, Сен-Жон Перс, Поль Элюар…
Видпте, я перечислил только несколько стран, несколько фамилий. И, поямлуйста, не надо думать, что в неперечисленных странах поэзия хуже или что неперечислепные поэты слабее. Прочтите эту книгу, и вы сами убедитесь, что это не так.
Английский поэт Уистен Хью Оден однажды заметил:
Затянутых в талант, как в вицмундиры,
Поэтов по ранжиру ставим мы…
Так что не надо ранжира. В поэзии его не существует. Не будет ранжира н на нашей поэтической карте. Лучше давайте поговорим о самой поэзии.
У нее есть «вечные» вопросы: что такое Я? Зачем Я? Что значит Время? На них отвечает каждый па протяжении всей жизни.
А еще у нее есть «вечные» темы: рождение, детство, юность, любовь, материнство, творчество, старость, смерть, мечта, надежда — онн неисчерпаемы, как сама жизнь…
В этой книге вас непременно захватит точность чувства, точность мысли, точность поэтического образа и слова.
Сад вздрагивает и бормочет,
Доверчиво грозой пленен,
А ливень тонкой сетью хочет
Связать с землею небосклон…
(Анри Де Ренье).
Вы увидите все многоцветие мира, всю его неуловимость и всю определенность.
А когда вы будете читать Джона Мейсфилда, вам покажется, что в лица ваши летят брызги соленых океанских волн, а прямо над головой скрипят и раскачиваются мокрые мачты.
…Опять меня тянет в море,
Где небо кругом и вода.
Мне нужен только высокий корабль
И в небе одна звезда,
И песни ветров,
И штурвала толчки,
И белого паруса дрожь,
И серый, туманный рассвет над водой,
Которого жадно ждешь…
Вы наверняка почувствуете пронзительную правду стихотворного диалога «Мать» итальянского поэта Альдо Палаццески. Это короткое стихотворение похоже на конспект многотомного романа.
— Мать, твой сын тебе лгал.
— Он мой, как прежде.
— Мать, твой сын дурной человек.
— Он мой, как прежде.
— Мать, твой сын украл.
— Он мой, как прежде.
— Мать, твой сын убил.
— Он мой, как прежде.
— Мать, твой сын в тюрьме.
— Он мой, как прежде.
— Мать, твой сын не в своем уме.
— Он мой, как прежде.
— Мать, твой сын бежал.
— Он мой, как прежде.
— Мать, твой сын мертв.
— Он мой, как прежде.
Поэты, отмеченные на поэтической карте Европы, были разными. Они были простодушными и утонченными, нелюдимыми и экстравагантными. Они могли быть любыми и не могли только одного: не могли придумывать себя.
Потому что за это поэзия мстит.
Человек, придумавший себя, очень скоро перестает писать настоящие стихи…
Поэтическая карта, конечно же, не равнозначна карте политической. Однако сопоставление этих карт порою бывает небезынтересным.
Например, большие поэты, как правило, влияют на поэзию не только своей страны, но и других стран.
Такое влияние запросто перешагивает любые государственные границы. Так что в этом случае и недремлющие пограничные заставы, и самые строгие таможенные службы не являются помехой. И можно вспомнить время, когда границы устойчивого влияния, скажем, французской поэзии проходили так далеко от Парижа, что это вряд ли снилось и самому Наполеону.
Происходит и взаимопроникновение, взаимовлияние поэзий различных стран. Этот очень непростой процесс — своеобразный обмен художественными ценностями иногда затухает, а после — с появлением новых имен — разгорается опять.
И все-таки ничто так не влияет па литературу, ничто так пе влияет па поэзию, как политика.
Она влияет, не переставая. Ежедневно. Ежечасно.
Влияет даже тогда, когда некий конкретный поэт думает, что «уж он-то вне всякой политики…».
Да и как может быть иначе, если во время первой мировой войны в Европе местожительством миллионов разноязыких людей на долгое время стали окопы, а самой распространенной одеждой тех же миллионов — солдатские шинели.
Европе везло не только с поэзией. Ей катастрофически «везло» и с количеством войн.
И время, когда — по словам итальянского поэта Джузеппе Унгаретти — «чувствуешь себя, как на осенних деревьях листья», не могло по отразиться на творчестве поэтов разных стран.
Не могло не отразиться на их творчестве и послевоенное разочаровапие, охватившее почти все слон общества.
Резкие строки португальского поэта Фернандо Песоа, по-моему, наиболее четко выражают это состояние:
Это всё — и не будет иного.
Но и звезды, и холод, и мрак,
И молчание мира немого —
Все на свете не то и не так!
Но если «всё… не так», то что делать дальше? С кем идти? И во имя чего?
Поэзия не смогла бы ответить на эти вопросы, если бы она не была связана с общественной жизнью своих стран. А в этой общественной жизни все явственнее ощущалось влияние Великой Октябрьской революции.
И вы почувствуете биенне общественного пульса западноевропейской поэзии, ощутите его наполненность во многих стихах, представленных в книге.
Надо еще сказать, что в те годы в самых разных странах с какой-то новой силой зазвучали голоса поэтов высочайшего класса. И тех, кто был уже прославлен раньше, и самых молодых, тех, чья слава была впереди.
В то же время некоторые поэты, растерявшись и устав от большой и маленькой лжи буржуазного мира, пытались поселиться в «башнях из слоновой кости», хотели уйти от «суеты», служить «чистой» поэзии, быть «над схваткой».
Но почти каждый раз башни оказывались не слишком прочными, а в сугубо «чистую» поэзию то и дело врывались вполне конкретпые политические мотивы.
В общем, как пишет португальский поэт Мигел Торга:
Радостью утро дышало.
Думал подняться к вершинам гор,
Думал пить воду чистейших озер,
Думал уйти в бескрайний простор…
Да жизнь помешала.
Именно так все и бывает.
Только в конце концов оказывается, что жизнь не «помешала», а помогла. Причем помогла в чрезвычайно важный, переломный момент истории.
Ибо однажды получилось так, что самые удобные места, пригодные для наблюдения над жизнью с птичьего полета, были заняты фашистскими бомбардировщиками. «Над схваткой» тоже шел бой.
Сначала была Испания. Гордые и бессмертные месяцы защиты Республики. Время Интербригад. Мужество и трагедия Мадрида. Слова «лучше умереть стоя, чем жить на коленях!» — звучали, как стихи. И это никого не удивляло. Потому что все великие лозунги звучат, как стихи. И — как клятва…
Большая война вновь покатилась по Европе. Страшная, всепоглощающая война. Вторая мировая. Горели города и книги. Гибли люди. Тысячи, миллионы людей.
Фашизм, развязавший эту войну, пытался перекроить не только политическую карту мира. Он хотел уничтожить и мировую культуру. Истребить даже память о ней.
В эти страшные для всего человечества дни — казалось бы, узкотеоретическая — проповедь «ухода от действительности» и «невмешательства в мирскую суету» граничила с преступлением, объективно служила врагу.
И тогда старое слово «Сопротивление», будто родившись заново, наполнилось особым героическим смыслом.
Сопротивление! А ведь уже почти вся Западная Европа оккупирована фашистами.
Сопротивление! А в тюрьмы и концентрационные лагеря брошены десятки миллионов людей. И круглосуточно дымят трубы крематориев Освенцима, Майданека и других фабрик смерти.
Сопротивление! Летят под откос гитлеровские эшелоны. С фашистами сражаются все — от мала до велика. Кажется, что — как в старых народных сказках и легендах — даже природа не хочет, не может оставаться в стороне от этой борьбы.
И льется с неба мрак.
Ведь было бы изменой
Струить лазурь над Сеной,
Когда в Париже враг…
Это стихотворение французского поэта Жюля Сюпервьеля.
Поэзия Сопротивления! Она возникла в пламени войны и прошла по огненным дорогам Европы от начала до конца. Она создавалась на разных языках, но на любом языке — воевала! Воевала честно и вдохновенно. Не щадила себя. И недаром ее страницы окрашены кровью поэтов, павших с оружием в руках.
Поэзия Сопротивления победила.
Победила потому, что была частью сражающегося народа и выражала самые сокровенные, самые истинные чаянья этого народа.
Но и после разгрома фашизма забот у поэзии не убавилось. Книга дает возможность вникнуть в эти заботы, вглядеться в будни и праздники европейской поэзии.
Судя по антологии, эта поэзия не желает сдавать завоеванных позиций. Она остается многозвучной и многокрасочной.
Стоит отметить еще и высочайшее формальное мастерство многих поэтов. Я имею в виду не холодный формализм, а блестящее, порою даже изощренное владение стихотворной техникой. Доведение ее до таких высот, когда сама техника стихосложения абсолютно незаметна. И ты не можешь понять, как сделаны стихи, не знаешь, почему они па тебя действуют. А уж в том, что стихи действуют на читателя, в том, что оии волнуют по-настоящему, вы сможете убедиться сами…
Поэтический язык XX века перестал быть салонным. Поэзия вышла на улицу. Причем не на ту — единственную, центральную улицу города, где стоят холодные дворцы и надменные особняки.
Поэзия ушла на окраины. Она восприняла язык рабочих и студентов, моряков и крестьян. Вобрала в себя говор заводов и рынков, причалов и дешевых закусочных. Она переварила все мыслимые и немыслимые сленги, обучилась бесконечной скороговорке торопящегося века и категорической краткости его рекламы.
Все это она перевела на свой язык — язык поэзии. И стала сочнее, резче, иногда — грубее, но всегда — отчетливее, выразительнее.
Так что если теперь поэзия и появляется на центральной улице города, то только в рядах демонстрантов…
Невероятно расширилась и тематика стихов. Здесь — и продолжение «вечных» тем, и возникновение новых. Тихий лирический шепот и открытый, почти баррикадный крпк. Доверчивая утренняя улыбка ребенка и философская грусть уходящего дня.
При всем этом — постоянное осмысление жизни, ее проблем, ее надежд, разочарований и новых надежд.
Жизнь нам дается даром.
Как не ценить даровщины?
Даром — небо и тучи,
Даром — холмы и лощины.
Дождь и распутица — даром,
Даром — дымки выхлопные,
Даром — узоры лепные
Над входами в кинотеатры
И вывески над тротуаром.
Вот брынза и хлеб — за денежки;
Даром — вода натощак.
Свобода — ценой головы.
Рабство — бесплатно, за так.
Жизнь нам дается даром.
Кажется, что этим стихотворением турецкий поэт Орхан Вели вместе со своими коллегами из других стран участвует в продолжающейся дискуссии о том, какой должна быть поэзия: ангажированной или не ангажированной?
Иными словами: должна ли быть поэзия активной, наступательной, тесно связанной с жизнью или не должна?
И опять спор этот далеко не так безобиден, как может показаться. Сухим академизмом и не пахнет.
Дело в том, что «сильных мира сего» настораживает возросшая активность поэзии, пугает влияние такой поэзии па молодежь.
И поэтому теоретики «неангажированности» все чаще говорят о том, что главная задача поэтов — создавать стихи для вечности. Для нее одной. И как можно меньше интересоваться политикой, как можно меньше заниматься сегодняшним днем.
Но у поэзии с вечностью взаимоотношения довольно странные: доказано, что если ты, поэт, не сумел (или не захотел) выразить сегодняшний день, если этот день тебе не интересен, то вечность не станет интересоваться ни тобой, пи твоими стихами.
Это почти закон.
Ибо полная аполитичность, помимо всего прочего, еще и — равнодушие.
А настоящий поэт не может быть равнодушным. Во всяком случае, среди больших поэтов равнодушных не было никогда…
Большие поэты остаются большими, о чем бы они ни писали.
Вы прочтете в этой книге стихи Дэвида Герберта Лоуренса и Франка Ведекинда, Луи Арагона и Назыма Хикмета, Янниса Рицоса и Гудмундура Бэдварссона, Эйно Лейно и Эрика Акселя Карлфельдта, Мориса Карема и Ганса Магнуса Энценсбергера. Вы почувствуете, что эти и другие поэты болели не только (и не столько!) за свою судьбу. Вместе с ними вы будете радоваться и негодовать, улыбаться и плакать. Перед вами они не будут скрывать ничего — ни слабости своей, ни силы.
Вы заметите, что многие из них умеют говорить серьезно, даже создавая насквозь иронические стихи. Вот Жак Превер:
Все меньше и меньше остается лесов:
Их истребляют,
Их убивают,
Их сортируют
И в дело пускают,
Их превращают
В бумажную массу,
Из которой получают миллиарды газетных листов,
Настойчиво обращающих внимание публики
На крайнюю опасность истребленья лесов.
Лежит перед вами и передо мной поэтическая карта Европы. А я по-прежнему не знаю, как поточнее обозначить на ней поэтов.
Но зато твердо знаю другое: если они города, то это города очень добрые, предельно открытые. Города, где каждый путник может найти себе в любое время суток и кров и очаг.
А если они вершины, то — какими бы высокими, какими бы заоблачными они ни были, — на них никогда не нарастает вечный лед, на них никогда не лежит вечный спег. Это теплые, живые вершины. Я знаю, что там всегда растут цветы. И еще я знаю, что вершины эти сами излучают свет. Свой, собственный свет. И поэтому даже у самых подножий этих великих гор нет мрачных ущелий, оползней и обвалов. Даже здесь — внизу — никому из людей не бывает зябко.
А уж если ты поднимешься наверх, если ты пересилишь боязнь высоты, пересилишь усталость и, ахнув, застыпешь там, на уровне полета орлов, если ты широко распахнешь глаза свои и душу, то обязательно увидишь не только прошлое земли, но и будущее ее.
Вот какую удивительную силу имеет поэзия. Вот что может творчество.
Кстати говоря, тема творчества, тема его истоков и осмысления не чужда поэтам. Вы найдете в книге стихи и на эту тему.
В общем-то поэты по-разному отвечают на вопросы: «Что такое поэзия? Как создаются стихи?» Отвечают иногда шутливо, а чаще — всерьез.
Разберите стихи на слона,
Отбросьте бубенчики рифм,
Ритм и размер.
Даже мысли отбросьте.
Провейте слова на ветру.
Если все же останется что-то,
Это
И будет поэзия.
Так формулирует свой ответ испанец Леон Фелипе. А француз Раймон Кено начинает свое стихотворение «Искусство поэзии» так, как обычно пишутся рецепты в кулинарной книге:
Возьмите слово за основу
И на огонь поставьте слово,
Возьмите мудрости щепоть,
Наивности большой ломоть,
Немного звезд, немножко перца,
Кусок трепещущего сердца
И на конфорке мастерства
Прокипятите раз, и два,
И много-много раз все это.
Теперь пишите! Но сперва
Родитесь все-таки поэтом.
Итак, «сперва родитесь все-таки поэтом…». Пожалуй, добавить к этому нечего.
Но в странной и прекрасной профессии поэтов есть нечто объединяющее всех пишущих, независимо от языков, стран и времен.
Когда стихи закончены, то они уже не принадлежат тебе. Точнее, в эту самую минуту они начинают принадлежать не только тебе одному.
Стою у окна, его отворив пошире,
И белым платком машу, навсегда прощаясь
С моими стихами, которые к вам уходят.
Ни радости не испытываю, ни грусти.
Что делать — удел стихов, он таков от века.
Я их написал и скрыть их от вас не смею,
Когда б и хотел, не мог поступить иначе —
Цветок не умеет скрыть своего цветенья,
И скрыть не может река своего теченья,
И дереву скрыть плоды свои пе удастся.
Все дальше мои стихи от меня уходят,
И я, к моему немалому удивленью,
Отсутствие их ощущаю почти до боли.
Кто ведает, чья рука их перелистает?
Неведомо, кто развернет их и прочитает…
Ступайте же, о стихи мои, уходите!
Умирают деревья — семена их уносит ветер.
Засыхают цветы — а пыльца всо равно бессмертна.
Реки в море текут — а вода пребывает с ними.
Ухожу, оставаясь, — как всё в этом мире.
(Ф. Песоа).
Поэты рождаются, стареют, умирают. Поэзия остается. И вот перед вами поэтическая карта Западной Европы. Сейчас вы отправитесь в путь. Я вам завидую. Я знаю, что путь этот обязательно будет счастливым.
Потому что встреча с настоящей поэзией — всегда счастье.
Роберт Рождественский.
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЭЗИЯ ХХ ВЕКА.
АВСТРИЯ.
ГУГО ФОН ГОФМАНСТАЛЬ. Перевод С. Ошерова.
Гуго фон Гофмансталь (1874–1929). — Поэт и драматург, крупнейший представитель символизма в австрийской литературе и вообще в литературе немецкого языка. Печататься начал в 1891 г., первый поэтический сборник («Избранные стихи») выпустил в 1903 г. В восемнадцатилетнем возрасте приобрел европейскую известность драмой «Смерть Тициана». Был автором нескольких либретто к операм Рихарда Штрауса (наиболее известна опера «Кавалер роз»). Лирическое наследие Гофмансталя невелико, но стихи его входят во все поэтические антологии. На русском языке издавался в основном в начале века; драмы Гофмансталя неоднократно шли на русской сцене.
ВСЕЛЕНСКАЯ ТАЙНА.
Да, глубь колодца знает то,
Что каждый знать когда-то мог,
Безмолвен и глубок.
Теперь невнятны смысл и суть,
Но, как заклятье, все подряд
Давно забытое твердят.
Да, глубь колодца знает то,
Что знал склонявшийся над ней —
И утерял с теченьем дней.
Был смутный лепет, песнь была.
К зеркальной темной глубине
Дитя склонится, как во сне,
И вырастет, забыв себя,
И станет женщиной, и вновь
Родится в ком-нибудь любовь.
Как много познаёт любовь!
Что смутно брезжило из тьмы,
Целуя, прозреваем мы.
Оно лежит в словах, внутри.
Так нищий топчет самоцвет,
Что коркой тусклою одет.
Да, глубь колодца знает то,
Что знали все… Оно сейчас
Лишь сном витает среди нас.
ТВОЕ ЛИЦО.
Твое лицо отягощали слезы.
Я смолк, я стал смотреть и вдруг воочью
Увидел прежнее. Вдруг все всплыло!
Я так же предавался ночь за ночью
Долине — ибо я ее любил
Безмерно — и луне, и голым склонам,
Где мелкие скользили облака
Между худых разрозненных деревьев,
Где серебристо-белая река,
Всегда журчащая, всегда чужая,
Текла сквозь тишину. Вдруг все всплыло!
Вдруг все всплыло! То прежнее томленье,
В котором предавался я часами
Бесплодной красоте долин и рек,
Пробуждено твоими волосами
И блеском между увлажненных век.
РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ.
Райнер Мария Рильке (1875–1926). — Родился в Праге. Первый поэтический сборник Рильке издал в 1894 г. («Жизнь и песни»). Много путешествовал, дважды (в 1899 и 1900 гг.) побывал в России, был знаком со многими выдающимися деятелями русской культуры. Изучил русский язык и даже пробовал писать по-русски стихи (восемь сохранившихся стихотворений опубликованы в СССР в 1971 г.); писал также по-французски и по-итальянски. Известность поэту принесли сборники «Часослов» (1905), «Книга картин» (1906), «Новые стихотворения» (1907, 1908). Из поздних произведении Рильке наиболее известны роман «Заметки Мальте Лауридса Бригге» (1910) и сборники стихотворений «Сонеты к Орфею» и «Дуинские элегии» (оба — 1923). Перевел также на немецкий язык много произведений французской, итальянской и русской поэзии (в частности, «Слово о полку Игореве»).
На русский язык впервые был переведен в 1897 г. (рассказ «Все в одной»). С тех пор в русском переводе вышло более десяти книг Рильке (только с 1965 по 1975 г. произведения Рильке вышли на русском языке четырьмя изданиями, не считая изданий на языках народов СССР).
«Как в избушке сторож у окошка…». Перевод С. Петрова.
Как в избушке сторож у окошка,
Вертоград блюдя, не спит ночей —
Так и я, господь, твоя сторожка,
Ночь я, господи, в ночи твоей, —
Виноградник, нива, день на страже,
Старых яблонь полные сады,
И смоковница, на камне даже
Приносящая плоды, —
Ветви духовитые высоки,
И не спросишь, сторожу ли я —
Глубь твоя взбегает в них, как соки,
На меня и капли не лия.
* * *
«Господь! Большие города…». Перевод В. Микушевича.
Господь! Большие города
Обречены небесным карам.
Куда бежать перед пожаром?
Разрушенный одним ударом,
Исчезнет город навсегда.
В подвалах жить все хуже, все трудней.
Там с жертвенным скотом, с пугливым стадом
Схож твой народ осанкою и взглядом.
Твоя земля живет и дышит рядом,
Но позабыли бедные о ней.
Растут на подоконниках там дети
В одной и той же пасмурной тени.
Им невдомек, что все цветы на свете
Взывают к ветру в солнечные дни, —
В подвалах детям не до беготни.
Там девушку к неведомому тянет.
О детстве загрустив, она цветет…
Но тело вздрогнет, и мечты не станет, —
Должно закрыться тело в свой черед.
И материнство прячется в каморках,
Где по ночам не затихает плач;
Слабея, жизнь проходит на задворках
Холодными годами неудач.
И женщины своей достигнут цели;
Живут они, чтоб слечь потом во тьме
И умирать подолгу на постели,
Как в богадельне или как в тюрьме.
МАЛЬЧИК. Перевод А. Сергеева.
О, быть бы мне таким же, как они!
Их кони мчат, безумны и строптивы,
И на ветру вздымаются, как гривы,
Простоволосых факелов огни.
Я первым был бы, словно вождь в ладье,
Как знамя, необъятен и весом,
Весь черный, но в забрале золотом,
Мерцающем тревожно. А за мной
Десяток порожденных той же тьмой.
И так же беспокойно блещут шлемы,
Почти прозрачны, замкнуты и немы.
А рядом — вестник с громкою трубою,
Которая блистает, и поет,
И в черное безмолвие зовет,
И мы несемся бурною мечтою;
Дома за нами пали на колени;
Предчувствуя со страхом нашу мощь,
Проулки гнутся, зыбясь, точно тени,
И кони хлещут землю, словно дождь.
БЕЗУМИЕ. Перевод Ю. Нейман.
Все-то шепчет она: — Да я… Да я…
— Кто же ты, Мари, скажи!
— Королева твоя! Королева твоя!
Припади к ногам госпожи!
Все-то плачет она: — Я была… Я была…
— Кем ты, Мари, была?
— Побирушкой была, без угла, без тепла…
Кабы я рассказать могла!
— Как же может, Мари, дитя нищеты
Королевою гордой быть?..
— Вещи — все не те, вещи — не просты,
Если милостыню просить.
— Значит, вещи дали тебе венец?
Но когда?.. Мари, объясни!
— Ночью. Ночью… Лишь ночь придет наконец, —
По-иному звучат они.
Я узнала, что улица до зари
Все равно, что скрипки струна…
Стала музыкой, музыкой стала Мари,
И пустилась плясать она.
Люди шли, как нищие, стороной,
Боязливо к домам лепясь…
Королеве одной, королеве одной
В пляс идти дозволено, в пляс!
ОСЕННИЙ ДЕНЬ. Перевод Е. Витковского.
Да завершится летний зной, — пора,
Всевышний, брось густую тень на гномон,
В замолкший гомон пашен кинь ветра.
Плодам последним подари тепло
Календ осенних, солнечных, отрадных,
И сделай сладость гроздий виноградных
Вином, что так темно и тяжело.
Бездомному — уже не строить дом,
Покинутому — счастья ждать не надо;
Ему осталась горькая услада:
Писать посланья, и в саду пустом
Бродить, и ждать начала листопада.
ЗА КНИГОЙ. Перевод Б. Пастернака.
Я зачитался. Я читал давно.
С тех пор, как дождь пошел хлестать в окно.
Весь с головою в чтение уйдя,
Не слышал я дождя.
Я вглядывался в строки, как в морщины
Задумчивости, и часы подряд
Стояло время или шло назад.
Как вдруг я вижу — краскою карминной
В них набрано: закат, закат, закат.
Как нитки ожерелья, строки рвутся,
И буквы катятся, куда хотят.
Я знаю, солнце, покидая сад,
Должно еще раз было оглянуться
Из-за охваченных зарей оград.
А вот как будто ночь, по всем приметам,
Деревья жмутся по краям дорог,
И люди собираются в кружок
И тихо рассуждают, каждый слог
Дороже золота ценя при этом.
И если я от книги подыму
Глаза и за окно уставлюсь взглядом,
Как будет близко все, как станет рядом,
Сродни и впору сердцу моему!
Но надо глубже вжиться в полутьму,
И глаз приноровить к ночным громадам,
И я увижу, что земле мала
Околица, она переросла
Себя и стала больше небосвода,
А крайняя звезда в конце села —
Как свет в последнем домике прихода.
СОЗЕРЦАНИЕ. Перевод Б. Пастернака.
Деревья складками коры
Мне говорят об ураганах,
И я их сообщений странных
Не в силах слышать средь нежданных
Невзгод, в скитаньях постоянных
Один, без друга и сестры.
Сквозь рощу рвется непогода,
Сквозь изгороди и дома.
И вновь без возраста природа,
И дни, и вещи обихода,
И даль пространств, как стих псалма.
Как мелки с жизнью наши споры,
Как крупно то, что против нас!
Когда б мы поддались напору
Стихии, ищущей простора,
Мы выросли бы во сто раз.
Все, что мы побеждаем, — малость,
Нас унижает наш успех.
Необычайность, небывалость
Зовет бойцов совсем не тех.
Так ангел Ветхого завета
Нашел соперника под стать.
Как арфу, он сжимал атлета,
Которого любая жила
Струною ангелу служила,
Чтоб схваткой шим на нем сыграть.
Кого тот ангел победил,
Тот правым, не гордясь собою,
Выходит из такого боя
В сознанье и расцвете сил.
Не станет он искать побед.
Он ждет, чтоб высшее начало
Его все чаще побеждало,
Чтобы расти ему в ответ.
ДАМА ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ. Перевод В. Топорова.
Растворит, готовясь к ночи, весь
Облик, как снотворное в бокале,
В беспокойно блещущем зерцале,
И улыбку бросит в эту смесь.
И, когда запенится, вольет
Волосы в глубь зеркала и, нежный
Стан освободив от
Белоснежной
Ткани платья бального, начнет
Пить из отраженья. Так она
Выпьет все, о чем вздохнет влюбленный, —
Недовольна, насторожена, —
И служанку кликнет полусонно,
Лишь допив до дна и там найдя
Свечи в спальне, шкаф и шум дождя…
СМЕРТЬ ВОЗЛЕ НАС. Перевод В. Топорова.
Великая молчунья возле нас
Верна себе — и только. Никакой
Нет почвы для острасток и прикрас.
Окружена рыданий клеветой,
Стоит, как трагик греческий, она.
Не все на свете роли величавы.
Мы суетно играем ради славы,
А смерть играет, к славе холодна.
Но ты ушел со сцены, разрывая
Малеванные кущи, — и в разрыв
Свет хлынул, шум, упала ветвь живая,
Действительностью действо озарив…
Играем дальше, реплики и жесты
Всё машинальней воспроизводя.
Но ты, кому не стало в пьесе места,
Но ты, кого не стало, — ты, уйдя,
Действительностью подлинной проникнут,
Врываешься в разрывы декораций —
И сброд актеров, паникой застигнут,
Играет жизнь, не жаждая оваций.
ОСТРОВ. Перевод Е. Витковского.
1.
Прибой скользит в береговом песке,
И все в пути разглаживает он, —
Лишь островок приметен вдалеке.
Извилистою дамбой окружен
Мир островка, и жители его
Во сне родились; там века и предки
Сменились молча; разговоры редки,
И каждый — как поминки для того
Необъяснимого и наносного,
Что к ним морской волной занесено.
И это все, что взору их дано
С младенчества; как много здесь чужого,
Того, чем беспощадно и сурово их
Одиночество угнетено.
2.
За круглым валом спрятан каждый дворик,
Как в лунном цирке; деревца стоят,
Удел которых по-сиротски горек
И жалок; буря много дней подряд
Муштрует и причесывает их
Всех ровно. По домам при непогоде
Сидят семьей, и в зеркалах кривых
Разглядывают — что там на комоде
За редкости? Под вечер за ворота
Один из сыновей идет, и что-то
Плаксиво на гармонике ведет —
В чужом порту так пелась песнь чужая.
А вдалеке, клубясь и угрожая,
Над внешней дамбой облако растет.
3.
Здесь только замкнутость, и ей чужда
Другая жизнь, и все внутри так тесно
И переполнено, и бессловесно;
И остров — как мельчайшая звезда:
Простор вселенной в грозной немоте
Ее крушит, не глядя. И она,
Неслышная и в полной темноте,
Одна,
Чтоб отыскать предел в просторе этом,
По собственному, смутному пути
Пытается наперекор идти
Галактикам, светилам и планетам.
ДЕЛЬФИНЫ. Перевод К. Богатырева.
Те — царившие — своим собратьям
Разрешали приближаться к трону,
И каким-то странным восприятьем
Узнавали в них родных по статям,
И Нептун с трезубцем, и тритоны,
Высоко взобравшись над водой,
Наблюдали сверху за игрой
Этих полнокровных, беззаботных,
Столь несхожих с рыбами животных,
Верных людям в глубине морской.
Весело примчалась кувырком
Теплых тел доверчивая стая
И, переливаясь серебром,
И надеждой плаванье венчая,
Вкруг триремы сплетясь венком,
Словно опоясывая вазу,
Доведя блаженство до экстаза,
Виснет в воздухе одно мгновенье,
Чтобы тут же, снова скрывшись в пене,
Гнать корабль сквозь волны напролом.
Корабельщик друга виновато
Ввел в опасный круг своих забот
И измыслил для него, собрата,
Целый мир, поверив в свой черед,
Что он любит звуков строй богатый,
И богов, и тихий звездный год.
ЕДИНОРОГ. Перевод К. Богатырева.
Святой поднялся, обронив куски
Молитв, разбившихся о созерцанье:
К нему шел вырвавшийся из преданья
Белесый зверь с глазами, как у лани
Украденной, и полными тоски.
В непринужденном равновесье ног
Мерцала белизна слоновой кости,
И белый блеск, скользя, по шерсти тек,
А на зверином лбу, как на помосте,
Сиял, как башня в лунном свете, рог
И с каждым шагом выпрямлялся в росте.
Пасть с серовато-розовым пушком
Слегка подсвечивалась белизной
Зубов, обозначавшихся все резче.
И ноздри жадно впитывали зной.
Но взгляда не задерживали вещи —
Он образы метал кругом,
Замкнув весь цикл преданий голубой.
ПЕСНЯ МОРЯ. Перевод В. Леванского.
Выдох древних морей,
Бурный Борей,
Ты не чужой и ничей,
Ветер ночей.
Выйду на берег скорей —
Спорит со мной
Выдох древних морей,
Ветер ночной.
Только для древних скал
Воет простор.
Как налетает шквал!
Стонет инжир сквозной —
Как он руки простер
Там, под луной!
* * *
«Не воздвигай надгробья. Только роза…». Перевод Г. Ратгауза.
Не воздвигай надгробья. Только роза
Да славит каждый год его опять.
Да, он — Орфей. Его метаморфоза
Жива в природе. И не надо знать
Иных имен. Восславим постоянство.
Певца зовут Орфеем. В свой черед
И он умрет, но алое убранство
Осенней розы он переживет.
О, знали б вы, как безысходна смерть!
Орфею страшно уходить из мира.
Но слово превзошло земную твердь.
Он — в той стране, куда заказан путь.
Ему не бременит ладони лира.
Он поспешил все путы разомкнуть.
* * *
«Где-то есть корень — немой…». Перевод 3. Миркиной.
Где-то есть корень — немой,
В недрах, глубоко,
Сросшийся с древнею тьмой,
С тишью истока.
Головы в шлемах, белей
Кудри, чем луны,
Братство и брани мужей,
Жены как струны.
С веткою ветвь сплетена
Гуще, теснее…
Только вот эта одна
Вырвалась. Тянется ввысь.
О, не сломайся! Согнись
В лиру Орфея!
* * *
«Я шел, я сеял; и произрастала…». Перевод И. Озеровой.
Я шел, я сеял; и произрастала
Судьба, мне щедро за труды воздав,
Но в горле слишком прочно кость застряла,
Естественной, как в рыбьем теле, став.
Мне не вернуть Весам их равновесья,
Не уравнять непримиримость чаш;
Но в небе — знак, не знающий, что весь я
Ушел в иной предел, покинув наш.
Ведь звездный свет сквозь вечные просторы
Летит так долго, чтоб настичь людей,
Что мой уход проявится нескоро,
Как росчерк призрачный звезды моей.
КАРЛ КРАУС.
Карл Краус (1874–1936). — Поэт и прозаик, один из наиболее значительных австрийских сатириков. Автор девяти поэтических сборников, имеющих общее название «Слово в стихах» (первый издан в 1916 г., последний — в 1930 г.).
Яростный противник экспрессионизма. Один из первых австрийских писателей-антифашистов.
На русский язык стихи Крауса переводятся впервые.
ДЕТЕРМИНИЗМ. Перевод В. Топорова.
Нету масла, дороги овощи,
Картошку — по многу часов ищи,
Яйца — до желудка недоводимы.
Не хлебом единым — а что же едим мы?
Электричество надо беречь.
Печь без дров, зато в кране — течь.
Ввиду постоянных перебоев в снабжении
Нужны запасы. Чего? Терпения.
Курение — запрещенный порок.
Мыла — на город один кусок;
Есть подозрение, что Пилату
Мыло везут во дворец по блату.
Есть ботинки, но без шнурков,
Кофе без кофеина, котлеты — не из коров.
Бумаги в обрез, и она опечатана.
Ничто не может быть напечатано.
Государственный строй могуч.
Невыносимо воняет сургуч.
Идет победоносное наступление,
Поэтому эмиграция — преступление.
Все это ясно без лишних слов.
Тем более что за слова сажают.
Тем более что нас уважают.
Мы вооружены до зубов.
СТЕФАН ЦВЕЙГ.
Стефан Цвейг (1881–1942). — Помимо прозы, хорошо известной советскому читателю, выпустил несколько сборников стихотворений, из них первый, «Серебряные струны», в 1901 г.
Сын промышленника. Учился в Берлине, много путешествовал. В 1919–1934 гг. жил в Зальцбурге, в 1935 г. эмигрировал в Англию, уехал в 1940 г. в США, а в 1941 г. — в Бразилию, где в Петрополисе покончил жизнь самоубийством 22 февраля 1942 г.
На русский язык переведена значительная часть творческого наследия Цвейга, но стихи переводились мало.
ПАМЯТНИК КАРЛУ ЛИБКНЕХТУ. Перевод А. Эфроса.
Один,
Как никто никогда
Не был один в мировой этой буре, —
Один поднял он голову
Над семьюдесятью миллионами черепов, обтянутых касками,
И крикнул
Один,
Видя, как мрак застилает вселенную,
Крикнул семи небесам Европы,
С их оглохшим, с их умершим богом,
Крикнул великое, красное слово:
— Нет!
БЛАГОДАРНОСТЬ ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТНЕГО[2]. Перевод Л. Гинзбурга.
[2].
Сумрак льнет легко и сладко
К стариковской седине.
Выпьешь чашу без остатка —
Видишь золото на дне.
Но не мрак и не опасность
Ночь готовит для тебя,
А спасительную ясность
В достиженье бытия.
Все, что жгло, что удручало,
Отступает в мир теней.
Старость — это лишь начало
Новой легкости твоей.
Пред тобою, расступаясь,
Дни проходят и года —
Жизнь, с которой, расставаясь,
Связан ты, как никогда…
БЕРТОЛЬТ ФИРТЕЛЬ. Перевод А. Эппеля.
Бертольт Фиртель (1885–1953). — Поэт и драматург. Сын коммерсанта. Учился в Венском университете. Первый поэтический сборник, «След», выпустил в 1913 г.
Печататься начал незадолго до этого в журнале «Факел», редактором которого был Карл Краус. В 20-е годы выступил как режиссер, позднее — как драматург. В 1933 г. эмигрировал в Англию, оттуда в 1939 г. — в США. В Америке работал также как кинорежиссер (экранизировал произведения Ст. Цвейга). Активный антифашист. После войны вернулся на родину.
ПАМЯТНИК.
Была их устремленьем Правота.
Учтем: цена за Правоту — могила.
И не забудем — смерть была люта;
Их, изощрясь, Неправота сгубила.
Кровь за Свободу отдали они.
И полагали — сделка равноценна.
Недожитое ими — наши дни;
Мы в прибыли от этого обмена.
Они, отдав свой день грядущим дням,
Всё отдали тем самым, что имели.
И это надлежит обдумать нам,
А камень сей послужит данной цели.
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ДЕТЕЙ.
Там! Стопами неисхоженные,
Тучами полуобложенные,
Пустоши небес пытает
Сирый взгляд.
К миру злобное, низложенное
Солнце кровь лесов глотает,
Скатываясь на закат.
Солнце книзу привод крутит
По пути за окоем;
И пускай навек пребудет
В антиподах! Что нам в нем!
В нем с его грядущим днем!
А меж тем, полны надежды,
Толпы светлые детей,
Пробудясь, возносят вежды
В жажде знаемых путей.
День их в рвении проходит,
Ночь в постельки их кладет —
Но сейчас ряды выводит
В путь крестовый их поход.
И распятий детских руки
Вознеслись, взыскуя чуда,
К освинцованным нагорьям
Солнцем брошенного неба;
И они не унялись,
Взбудоражены, — покуда
Новый день не утвердили,
Возвративши солнце в высь.
АЛЬБЕРТ ЭРЕНШТЕЙН. Перевод А. Эппеля.
Альберт Эренштейн (1886–1950). — Поэт-экспрессионист. Учился в Венском университете, некоторое время жил в Берлине, побывал во многих странах Европы, в Африке, в Китае. Первый сборник стихотворений, «Белое время», выпустил в 1913 г.
Период наибольшей творческой активности Эренштейна — 20-е годы, когда известность его уже начала спадать. В 1932 г. эмигрировал в Швейцарию, в 1941 г. — в США, где в 1950 г. умер в больнице для неимущих. На русском языке впервые опубликован в 1923 году (в переводах В. Нейштадта и С. Тартаковера).
БЕРЕГ.
Кукушка жабу кличет в горе:
«Утопло злато солнце в море!»
Густая кровь погубленного солнца
Вопит с небес. Само пропав в просторе,
Хлебает море блики в своре туч себе на горе.
Последний жаворонок взмыл во славу солнца.
Лежат тюлени, в лень волны влитые,
Лягушки дальние урчат — вода им в радость.
И серебром ребрится бледный месяц в медных далях.
Мель вод всосала ужас мой, как в глотку, в отмель, —
И лодку, и друзей удалых.
И каждый друг-приятель мертв!
И брат мой тоже мертв.
И где вы все, родные?
ДИКИЙ ЛЕБЕДЬ.
Всем воздухом владеет птица,
Всеми хвоями на соснах,
Над горами взмыв на веснах,
Взмыв на крыльях по-над брегом.
Я омертвен блеклой стужей,
Я осыпан белым снегом,
Ты опет песком пустынь,
Вольный дикий лебеденок.
Сияет солнце для тебя,
Тебе не страшен буйвол бури, —
Крылья выше туч возносят,
Вольный дикий лебеденок.
Я во прахе копошусь.
Себя за горло взять могу всегда.
И — прочь из жизни! Но куда?
ГЕРМАН БРОХ. Перевод В. Топорова.
Герман Брох (1886–1951). — Романист, эссеист, поэт и драматург. Сын фабриканта, он отказался от успешно складывавшейся карьеры предпринимателя ради литературной (а позднее — и научной) деятельности. После аншлюса был схвачен гестапо; лишь при содействии влиятельных друзей (в том числе Д. Джойса) писателю удалось эмигрировать в США.
Одним из первых начал заниматься проблемами массовой психологии. Наиболее известное произведение — роман «Смерть Вергилия» (1945).
Стихи Г. Броха на русский язык переводятся впервые.
ТЕ, КТО…
Те, кто умывается холодным потом пытки, —
В спазмах истязания,
В огне геенны, —
Вправе запеть;
И сделай они это,
Возник бы двусмысленный язык, населенный
Чудовищами
Антонимов.
Но молчат: заткнул
Кляп судьбы
Разинутые глотки; молчат и теперь.
Ибо слова их — немы
Для нас, густая икота уничтожения;
Нам, кто вправе слушать,
Судьба заткнула разинутые уши.
Таращимся друг на друга.
Наши глаза, их глаза
Обманывают, и обманываются,
И надеются обмануться
Внешним человекоподобием.
Прервется молчание — пропадем.
ПОКА МЫ СЖИМАЛИ ДРУГ ДРУГА В ОБЪЯТЬЯХ.
Пока мы сжимали друг друга в объятьях,
Кони Апокалипсиса[3] уже пустились вскачь.
Или нам не было слышно? О,
Слышно, но звук долетал издалека,
Оборачиваясь чем-нибудь относительно невинным:
Газетной передовицей, последними известиями по радио.
Один раз я побывал в их лапах,
Побывал — и чудом ускользнул невредимым,
Ускользнул невредимым,
И поэтому та смерть — не в счет,
Не в счет — след когтей на шее.
Я лишь один из многих.
Передовицы и последние известия
Были стенами нашего приюта,
Под потолком полыхало пламя
Догорающих городов.
Мы не любили смотреть наверх, но, глядя наверх,
Мы видели пламя.
Не из страха закрывали мы глаза и не из
Равнодушия к чужому горю затыкали уши,
Не из решимости
Убежать оказались мы вдвоем, а единственно потому,
Что непременно нужен кто-то,
О ком думаешь в последний час,
О чьем спасении мечтаешь.
Иначе — смерть нестерпима.
Так я нашел тебя, и, может быть,
Избрав меня, ты об этом догадывалась.
Иначе бы мы не могли сжимать друг друга в объятьях,
Когда кони Апокалипсиса уже пустились вскачь
И мы знали, что под их копытами,
Как орехи, трещат черепа.
ГЕОРГ ТРАКЛЬ.
Георг Тракль (1887–1914). — Сын торговца скобяными товарами. Г. Тракль изучал в Вене фармакологию, был лейтенантом медицинской службы в австрийской армии. При жизни выпустил только сборник «Стихотворения» (1913), почти не был известен даже любителям поэзии. Умер при невыясненных обстоятельствах, возможно приняв по ошибке слишком большую дозу снотворного. В последние десятилетия популярность творчества Тракля резко возросла, современное литературоведение причислило его к лучшим лирикам, писавшим по-немецки в XX в.
Одна из высших литературных премий Австрии носит его имя.
На русском языке впервые опубликован в 1923 году (в переводе С. Тартаковера).
ЗИМНИЕ СУМЕРКИ. Перевод В. Топорова.
В небе — мертвенный металл.
Ржавью, в бурях завихрённой,
Мчат голодные вороны —
Здешний край уныл и вял.
Тучу луч не разорвал.
Сатаной усемеренный,
Разногласный, разъяренный
Грай над гнилью зазвучал.
Клюв за клювом искромсал
Сгустки плесени зеленой.
Из домов — глухие стоны,
Театральный блещет зал.
Церкви, улицы, вокзал
Тьмой объяты похоронной.
Под мостом — ладья Харона[4].
В простынях — кровавый шквал.
ПЕСНЬ О ЕВРОПЕ. Перевод С. Аверинцева.
О, как бьет крылами в ночи душа:
В пастушеский век брели мы вдоль дремотных лесов,
И нам служили красный зверь, зеленый цветок и говорливый ключ,
Смиренные. О первобытный напев сверчка,
Цветенье крови на жертвенном камне
И крик одинокой птицы над зеленым безмолвием вод.
О звезда крестовых походов и вы, пламеневшие муки
Плоти, пурпурных плодов ниспаданье
В вечерних садах, где от века мы набожно дни проводили,
Отроки, воины ныне, в бреду кровавом и звездном.
О кроткий дар ночных синецветов.
О времена тишины и осеннего злата,
Когда мы, монахи, прилежно пурпурные гроздья сбирали,
И окрест светились роща и холм.
О вы, охоты и замки; покой вечеров,
Когда справедливое мыслил в затворе своем человек,
Бога живую главу уловляя молитвой немой.
О горькое время конца,
Когда мы в чернеющих водах узрели каменный лик.
Но любящие, осиянны, серебро своих век подымут —
Единый род. Струится волной с заалевших подушек
Ладан, и воскресших сладостно пение.
СОЛНЦЕ. Перевод С. Аверинцева.
Каждый день желтое солнце уходит за холм.
Прекрасен лес, темный зверь,
Человек — пастух иль охотник.
Пурпурно забьется рыба в зеленом пруду.
Под округленным небом
Молча рыбак в синем челне проплывает.
Медленно зреют гроздь и зерно.
Когда к вечеру клонится день,
Добро и зло созревают.
Когда наступит ночь,
Тихо подымет путник тяжелые веки.
Из темной пропасти хлынет солнце.
ЛЕТО. Перевод Г. Ратгауза.
Под вечер уже не слышна
Кукушкина жалоба.
Ниже клонится рожь,
Красный мак.
Черная ходит гроза
Над холмом.
Старая песня кузнечиков
Замерла.
Не колыхнется, не дрогнет
Листва каштанов.
Платье твое шумит
Вниз по лестнице.
Слабо светит свеча
В темной комнате.
Ладонь серебряная
Тушит ее.
Ночь беззвездная,
Бесшумная ночь.
ГРОДЕК[5]. Перевод Г. Ратгауза.
[5].
Леса осенние шумят на закате
Оружием смерти, и поля золотые,
И синее море; над ними
Темное катится солнце, ночь встречает
Мертвых бойцов, сумасшедшие жалобы
Их изувеченных губ.
Но тихо копится в зелени луга
Красное облачко, укрывшее гневного бога, —
О лунный холод пролитой крови…
Все дороги вливаются в черный распад.
Под златошумной кроной звезд и ночи
Бродят тени сестер в молчаливой роще,
Где ждут их души героев, кровавые очи;
И тихо звучат в камыше темные флейты осени.
Алтарь медно-грозный поставлен во славу гордой печали,
И если разум еще не угас, то виной — необъятная боль
И нерожденные внуки.
МОЛЧАЛИВЫМ. Перевод Г. Ратгауза.
О сумасшедший город, где вечером
У черной стены замирают увечные липы,
Где из серебряной маски смотрят глаза недоброго духа,
Где за каменной ночью гонится свет, сжимая магнитный бич,
О подводный гул колоколен…
Шлюха в ледяной судороге рожает мертвую девочку,
Божий гнев бешено хлещет по лбу одержимых,
Чума красногубая; голод выпил зрачков зеленую воду.
И это золото с его жуткой улыбкой.
Но в пещерах в кровавом поту молчаливое трудится племя,
Из твердых металлов плавит главу избавителя.
АЛЬМА ИОГАННА КЁНИГ. Перевод И. Грицковой.
Альма Иоганна Кёниг (1889–1942). — Поэт и прозаик. В 1925–1930 гг. жила в Алжире, в 30-е годы занималась журналистикой в Вене. В 1942 г. была депортирована гитлеровцами в концлагерь под Минском, где, по всей видимости, погибла в том же году. Первый сборник стихотворений, «Невеста ветра», выпустила в 1918 г. Все основное из поэтического наследия Кёниг издано посмертно (наиболее известна книга-цикл «Сонеты к Яну», 1946). На русский язык переводится впервые.
КРЕДО.
Я призывать к проклятьям не смогла.
Кичиться злобой не мое призванье.
И только жалость, боль и состраданье
Я через эти годы пронесла.
Пусть грешникам простятся злодеянья.
Их имена еще покроет мгла.
Пусть ненависть спалит меня дотла —
Запрячу в сердце я негодованье.
И как зимою ищет воробей
Повсюду крошки хлеба беспрестанно,
Ищу любовь средь горя и скорбен —
Всех нас она связует, как ни странно.
Она всегда со мной в душе моей.
Она поможет. Поздно или рано.
ДУША БЕЗ РОДИНЫ.
Душа без родины. Какое испытанье!
Ни добрых слов, ни теплого участья.
Вокруг чужие беды, мрак, несчастья,
И вечный плач, и вечное страданье.
Потухший взгляд тебя едва коснется.
Никто тебя не слышит. Всюду страх.
И горечь остается на губах,
И от молчанья сердце захлебнется.
Моя душа утешит всех, но в ней
Своя печаль, иных скорбей сильней.
Чужим страданьем сердце сведено,
Но о своей беде молчит оно.
Как эту ношу мне нести одной?
Ах, добрый ангел, сжалься надо мной.
ФРАНЦ ВЕРФЕЛЬ.
Франц Верфель (1890–1945). — Поэт и прозаик, один из основных представителей так называемой «пражской школы», к которой относятся прозаики Франц Кафка, Густав Мейринк, Лео Перуц, Макс Брод и др. Первый поэтический сборник, «Друг мира», выпустил в 1911 г. В 1915–1917 гг. был солдатом на Восточном фронте, позднее жил в Берлине, в Вене. В 1938 г. эмигрировал из Австрии во Францию, оттуда в 1940 г. — в США. Умер в Калифорнии. На русский язык переведено несколько романов и пьес Верфеля, а также ряд стихотворений.
ПРЕКРАСНЫЙ, СИЯЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК. Перевод О. Мандельштама.
Друзья, со мной беседуя, сияют,
Хоть раньше огорчалися немало.
С весельем в их чертах мои блуждают.
Их дружба в благородстве наверстала.
Достоинства черты меня стесняют:
Серьезность, сдержанность мне не пристала,
И тысячи улыбок вылетают
Из вечного, глубокого овала.
Я праздник Корсо в солнечную страду,
Южный базар под женскую беседу.
Набухла солнцем глаз моих сетчатка.
Сегодня я на свежий дерн присяду,
Вместе с землей на запад я поеду.
О вечер, о земля, как жить мне сладко!
ЧИТАТЕЛЮ. Перевод Б. Пастернака.
Тебе родным быть, человек, моя мечта!
Кто б ни был ты — младенец, негр иль акробат,
Служанки ль песнь, на звезды ли с плота
Глядящий сплавщик, летчик иль солдат.
Играл ли в детстве ты ружьем с зеленой
Тесьмой и пробкой? Портился ль курок?
Когда, в воспоминанье погруженный,
Пою я, плачь, как я, не будь жесток!
Я судьбы всех познал. Я сознаю,
Что чувствуют арфистки на эстраде,
И бонны, въехав в чуждую семью,
И дебютанты, на суфлера глядя.
Жил я в лесу, в конторщиках служил,
На полустанке продавал билеты,
Топил котлы, чернорабочим был
И горсть отбросов получал за это.
Я — твой, я — всех, воистину мы братья!
Так не сопротивляйся ж мне назло!
О, если б раз случиться так могло,
Что мы друг другу б бросились в объятья!
СТРАСТОТЕРПЦЫ. Перевод В. Микушевича.
Ты, господи, придешь, и сядут одесную
Не только праведники, жизнь прожив земную,
Нет, все, кто в декабре смотрел во тьму ночную,
Женщины, серной кислотой вслепую
Мстившие сестрам, на суде седеющие,
Ревнивые, собою не владеющие,
В каретах плачущие, на суде вопящие,
Вздыхатели пропащие,
Певцы, швыряющие жизнь свою хмельную
Смерти в могилу на гнилое ложе,
Перед тобою все они предстанут, боже,
С тобой останутся и сядут одесную.
Господи, будут в твоем вертограде
Не только страждущие бога ради,
Нет, все, кто пламенел без мыслей о награде,
Певицы, на концертах боль превозмогающие,
Смертельно бледные в своем наряде,
Благоговейно мигающие,
Мгновеньями в твоей отраде
В твой век над нашим веком вознесенные,
Затеплятся, спасенные,
Легким сияньем в твоем вертограде.
Почиют, господи, в твоих глубинах
Не только те, кто звал тебя в немых руинах,
Нет, всякий, чье лицо от бессонниц в морщинах,
Чье сердце, словно пламя, жжет ладони,
Кто, спотыкаясь на равнинах,
Спасался бегством от мнимой погони.
Самоубийц не спрашивают о причинах.
Подростков ставили в тупик морские мили,
Чей судорожный ветер в письмах длинных.
Скрежещет о мальчишеских кончинах
Железный крест, забытый на могиле.
Мы будем там, поскольку здесь мы были.
И, потрясенные в своих глубинах,
Почиют, господи, в твоих глубинах.
ВСЕ МЫ НА ЗЕМЛЕ ЧУЖИЕ ЛЮДИ. Перевод В. Микушевича.
Газом и ножом губите души,
Сейте страх, глумитесь над врагами,
Жертвуйте собой по всей планете!
Нет любви для вас на этом свете,
Вам потоп дарован вместо суши,
Почвы нет под вашими ногами.
Громоздите вашу Ниневию,
Камни воздвигая против Бога!
Суетная проклята гордыня,
Тает ваша зыбкая твердыня.
Удержать немыслимо стихию,
Смерть вернее всякого итога.
Терпеливы горы и равнины,
Только мы торопимся куда-то.
Наши начинанья в воду канут,
Тот, кто говорит «мое», обманут.
Мы платить самим себе повинны.
Участь наша на земле — расплата.
Нищий мир: ни матери, ни крова.
Слишком тяжело мечтать о чуде.
Взгляд любимый только на мгновенье.
Сердцу в долг отпущено биенье.
Все мы на земле чужие люди,
Узы наши смерть порвать готова.
НА СТАРЫХ СТАНЦИЯХ. Перевод Д. Сильвестрова.
Близ невзрачных, обветшалых станций —
Их мой поезд безвозвратно минул —
Смутно видел я с больших дистанций
Тех, кто, в путь собравшись, дом покинул.
И сказать я мог бы без опаски
Пред людьми, глядевшими на рельсы,
Что давно уж длятся эти рейсы,
Эта жизнь среди вагонной тряски;
Что им всем неведомое бремя, —
Города, мосты, моря и мысы
Оставляет сзади, как кулисы,
Весь в дыму и искрах поезд-время;
Что и к ним придет пора вокзалов
И слепые, темные туннели
В молниях трагических сигналов,
Когда я уже сойду у цели.
ЙОЗЕФ ВАЙНХЕБЕР.
Йозеф Вайнхебер (1892–1945). — Литературную деятельность начал в 1913 г., первый сборник стихотворений, «Одинокий», выпустил в 1920 г. Тонкий психологический лирик, в ранний и наиболее плодотворный период своей литературной деятельности находившийся под большим влиянием поэзии Гёльдерлина. Последние годы Вайнхебера характеризуются упадком дарования и политическими метаниями, приведшими его к самоубийству.
На русский язык переводится впервые.
ВПОЛГОЛОСА. Перевод Е. Витковского.
Тьма царит в душе человека; видишь —
Это вечно. В сердце взгляни, терзайся
Страстью и стыдом и шепчи сквозь слезы
Вечером скорбным,
Вспомни перед сном все слова осенней
Ночи; все пути, все глухие тропы
Горемыки странника, боль и гибель
Нежности прошлой.
Словно буря — скорби людские, словно
Звон далеких арф; но еще глубинней
Тот поток, что шепчет извне, вливаясь
В недра земные.
Сделай песнь из боли людской, — какая
В мире песня сладостней и достойней?
Словно видишь губы любимой в ранах,
Словно усмешка
Перед самой смертью. Величье чувства
Возрастает, грань преступая. Ибо
В преступанье — святость и сила
Жертвы необходимой;
Будь блаженна, горькая чаша! Все же
Есть отрада в боли души. Но если
Ты опустошен — для тебя на лире
Дрогнут ли струны?
ЭРНСТ ВАЛЬДИНГЕР. Перевод В. Топорова.
Эрнст Вальдингер (1896–1970). — Поэт и прозаик. Учился в Венском университете. Участник первой мировой войны. Дебютировал как поэт в 1919 г. (сборник «Призвание»). В 1938 г., из-за захвата Австрии гитлеровской Германией, вынужден был покинуть родину и эмигрировать в США; с 1947 г. — профессор германистики в Нью-Йорке; умер также в Нью-Йорке.
На русский язык переводится впервые.
КОМЕТА ГАЛЛЕЯ.
Как смеялись мы в веселой Вене —
Перед самой первой мировой —
Над людьми с подзорною трубой,
Ждавшими всемирных потрясений!
Весть об истребленье поколений?
Что вы! Предрассудок вековой!
Ведь, когда летела над землей,
Мы не знали, что живем в геенне.
Мы забыли грохот орудийный,
И не нами газ придуман был —
Тот, что вскоре Францию душил.
Мы забыли, от кого единый
Род ведем — от Каина. И нет,
Кроме нас, убийственных комет.
РАЗГОВОР С САМИМ СОБОЙ В НЬЮ-ЙОРКСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ САДУ.
Мать с отцом немногого добились:
Вечерами — шли в ближайший сад,
Днем — трудились, бились и трудились,
Но был в душах мир и в доме лад.
Ах, с окраин нет прямого хода
Тихим неудачникам наверх,
Было трудновато им в те годы,
В тот блаженный беспечальный век.
В Австрии, где приступы печали
Музыкой и страстью смягчены,
Ничего такого не искали,
Счастья неприметного полны, —
Счастья, суть которого — мгновенья
На скамейке, вечером, в саду,
Без тоски, без страха, без смятенья,
Сонный взгляд на дальнюю звезду.
Вспомнив это, усмехнулся сын.
Он вздохнул, зайдя в нью-йоркский сад,
На скамейке, вечером, один,
Ужасом изгнания объят.
Мы, скитальцы, переплыли море,
Нам в пути гремел военный гром.
Мать с отцом, вы много знали горя,
Сыновья, мы горя не сочтем.
В городе чужие, мы чужды
И отцам… Что с нашими отцами?
Или мы — в галактике Беды?
В мире, населенном мертвецами?
ТЕОДОР КРАМЕР.
Теодор Крамер (1897–1958). — Родился в семье сельского врача. Участник первой мировой войны, был тяжело ранен. Был библиотекарем, мелким служащим, рабочим, безработным. Выпустил десять сборников стихов (из них первый, «На дне», вышел в 1929 г., последний, «Хвала отчаянию», посмертно, в 1972 г.); в них, по данным венского «Теодор Крамер — архива», вошло менее двадцати процентов поэтического наследия Крамера. В 1939 г., после аншлюса Австрии, эмигрировал в Англию. В 1957 г. вернулся в Вену, где через несколько месяцев умер.
Как в случае с Георгом Траклем, настоящий интерес к творчеству Крамера возник лишь в последнее десятилетие (в одном лишь 1975 году в ГДР было издано две книги избранных стихов Крамера). На русском языке неоднократно печатался с 1938 г.
«Осенние ветры уныло…». Перевод Е. Витковского.
Осенние ветры уныло
Вздыхают, по сучьям хлеща,
Крошатся плоды чернобыла,
Взметаются споры хвоща,
Вращает затылком подсолнух
В тяжелых натеках росы,
И воздух разносит на волнах
Последнюю песню косы.
Дрозды средь желтеющих листьев
Садятся на гроздья рябин,
В проломах дорогу расчистив,
Ползут сорняки из лощин,
Молочною пеной туманов
До края долина полна,
В просторы воздушные канув,
От кленов летят семена.
Трещат пересохшие стручья,
Каштан осыпает плоды,
Дрожит шелковинка паучья
Над лужей стоячей воды,
И в поле, пустом и просторном,
В приливе осенней тоски
Взрываются облачком черным
Набухшие дождевики.
ВЕРНУВШИЕСЯ ИЗ ПЛЕНА. Перевод Е. Витковского.
Разрешенье на жительство дал магистрат,
И трава потемнела в лесу, как дерюга, —
На окраину в эти весенние дни,
Взяв мотыги и заступы, вышли они,
И от стука лопат загудела округа.
Подрядившись, рубили строительный лес,
Сколотили на скорую руку заборы, —
Каша весело булькала в общем котле,
И по склонам на грубой ничейной земле
Созревали бобы, огурцы, помидоры.
Поселенцы возили на рынок салат
И угрюмо глядели навстречу прохожим —
Только голод в глазах пламенел, как клеймо,
Им никто не помог — лишь копилось дерьмо,
Все сильнее смердевшее в месте отхожем.
В перелоге уныло чернели стручки,
Корешки раскисали меж прелого дерна,
На опушке бурел облетающий бук, —
Где-то в дальнем предместье ворочался плуг,
Но пропали без пользы упавшие зерна.
И мороз наступил. В лесосеках опять
Подряжались они, чтоб остаться при деле, —
Пили вечером чай на древесном листу,
И гармоника вздохи лила в темноту.
Загнивали посевы, и гвозди ржавели.
ШАГИ. Перевод Е. Витковского.
Вцепившись в набитый соломой тюфяк,
Я медленно гибну во тьме.
Светло в коридоре, но в камере мрак,
Спокойно и тихо в тюрьме.
Но кто-то не спит на втором этаже,
И гулко звучат в тишине
Вперед — пять шагов,
И в сторону — три,
И пять — обратно к стене.
Не медлят шаги, никуда не спешат,
Ни сбоя, ни паузы нет;
Был пуст по сегодняшний день каземат,
В котором ты ходишь, сосед, —
Лишь нынче решений, ты после суда
Еще неспокоен, чужак,
Иль, может, навеки ты брошен сюда,
И счета не ведает шаг?
Вперед — пять шагов,
И в сторону — три,
И пять — обратно к стене.
Мне ждать три недели — с зари до зари,
Двенадцать ушло, как во сне.
Ну сделай же, сделай на миг перерыв,
Замри посреди темноты, —
Когда бы ты знал, как я стал терпелив —
Шагать и не вздумал бы ты.
Но кто ты? Твой шаг превращается в гром,
В мозгу воспаленном горя.
Вскипает, рыдая, туман за окном,
Колеблется свет фонаря, —
И, вставши, я делаю вместе с тобой —
Иначе не выдержать мне! —
Вперед — пять шагов,
И в сторону — три,
И пять — обратно к стене.
* * *
«Я сидел в прокуренном шалмане…». Перевод Е. Витковского.
Я сидел в прокуренном шалмане,
Где стучали кружки вразнобой, —
Хлеба взял, почал вино в стакане —
И увидел смерть перед собой.
Здесь приятно позабыть о мире,
Но уйти отсюда должен я,
Ибо радость выпивки в трактире
Не заменит смысла бытия.
Жить, замуровав себя, — жестоко,
Ибо кто подаст надежный знак,
Неизвестно ни числа, ни срока,
Давят одиночество и мрак, —
Радость и жестокость — что желанней?
Горше и нужнее — что из них?
Мера человеческих страданий
Превосходит меру сил людских.
Надо чашу выпить без остатка,
До осадка, что лежит на дне,
Ибо то, что горько, с тем, что сладко,
Непонятно смешано во мне.
Я рожден, чтоб жить на этом свете
И не рваться из его оков,
Потому что все мы — божьи дети,
От начала до конца веков.
ШЛЮХА ИЗ ПРЕДМЕСТЬЯ. Перевод Е. Витковского.
Дождик осенний начнет моросить еле-еле;
Выйду на улицу и отыщу на панели
Гостя, уставшего после тяжелого дня, —
Чтобы поплоше других, победнее меня.
Тихо взберемся в мансарду, под самую кровлю
(За ночь вперед заплачу и ключи приготовлю),
Тихо открою скрипучую дверь наверху,
Пива поставлю, нарезанный хлеб, требуху.
Крошки смахну со стола, уложу бедолагу,
Выключу тусклую лампу, разденусь и лягу,
Буду ласкать его, семя покорно приму, —
Пусть он заплачет, и пусть полегчает ему.
К сердцу прижму его, словно бы горя и нету,
Тихо заснет он, — а утром уйду я до свету,
Деньги в конверте оставлю ему на виду…
Похолодало — наверное, завтра пойду.
ПОСЛЕДНЕЕ УСИЛИЕ. Перевод Е. Витковского.
В лепрозории даже зимой не топили печей.
Сторожа воровали дрова на глазах у врачей.
Повар пойло протухшее в миски больным наливал,
А они на соломе в бараках лежали вповал.
Прокаженные тщетно скребли подсыхающий гной,
На врачей не надеясь, которым — что пень, что больной.
Десять самых отчаянных ночью сломали барак,
И, пожитки собрав, умотались в болота, во мрак.
Тряпки гнойные сбросили где-то, вздохнули легко.
Стали в город крестьяне бояться возить молоко,
Хлеб и пшенную кашу для них оставляли в лесу
И, под вечер бредя, наготове держали косу.
Поздней осенью, ночью, жандармы загнали в овраг
Обреченных, рискнувших пойти на отчаянный шаг.
Так стояли, дрожа и друг к другу прижавшись спиной,
Только десять — одни перед целой враждебной страной.
ЛЮБЛИНСКАЯ ПЕЧЬ[6]. Перевод Г. Ратгауза.
[6].
На пустоши топится жуткая печь,
Поблизости — город Люблин.
Людей, чтобы жаркое пламя разжечь,
Грузили в вагон для скотин.
И тысячи граждан из каждой страны
Отравлены газом, живьем сожжены
В печи твоей алой, Люблин.
Под свастикой, в мраке могильных крестов
Три года томился Люблин.
Палач не спешил хоронить мертвецов,
Он гнал вереницы машин;
Под пломбами грузы машина везла,
В мешках опечатаны кость и зола.
Так нивы удобрил Люблин.
И вот пятилучье победной звезды
Весною увидел Люблин.
Но копоти черной не смыты следы
От Карпат до французских долин,
И пламенный, чадный пылает позор,
Пока не зальет своей кровью топор
Последний палач твой, Люблин!
ВИЛЬГЕЛЬМ САБО.
Вильгельм Сабо (род. в 1901 г.). — Детство провел в семье крестьянина, у приемных родителей. Учился в Вене. С 1921 г. был учителем в деревнях и маленьких городках. В 1938 г. оккупационные власти запретили ему заниматься преподаванием, и до 1945 г. он находился па положении «свободного писателя» (хотя почти не печатался). С 1945 г. — директор школы в Нижней Австрии. Первый сборник стихотворений, «Во тьме деревень», выпустил в 1933 г. Известен также как переводчик (переводил, в частности, Сергея Есенина).
На русском языке публикуется впервые.
САРАНЧА В 1338 ГОДУ[7]. Перевод В. Топорова.
[7].
Восток мутился к вечеру, и нечисть,
В летучие полки вочеловечясь,
Над полем яростно клубилась —
Чума и язва моровая, —
Клубилась, небо закрывая,
Пока на хлеб не опустилась.
В восьмом часу и, может быть, в девятом
Был урожай еще богатым —
Но гадины голодные сновали,
Во ржи и в клевере сидели,
Перелетали дальше и гремели
Крылами, словно крышками роялей.
А в деревнях до неба голосили,
Не в силах избежать насилья,
И жгли костры на ближнем взгорье,
И шли на ощупь, как в густом тумане,
Шепча молитвы, причитанья
И просто — причитая в горе.
А саранча вгрызалась, и казалось,
Она в сердца мужицкие вгрызалась,
Вгрызалась дружно, челюсть в челюсть,
И на колосьях восседала чинно,
И было небо так невинно
Над хрустом, было пусто, просто прелесть.
И саранча снялась с хлебов с зарею,
Нажравшись, но блистая худобою,
Черна, неутомима, ненасытна —
Вперед на запад было поле,
Еще не онемевшее от боли, —
На запад было небо беззащитно.
ГУГО ГУППЕРТ.
Гуго Гупперт (род. в 1902 г.). — Поэт, переводчик и публицист. Член Коммунистической партии Австрии. Учился в Вене и Париже, в 20-х годах принимал активное участие в рабочем движении. Подвергался полицейским преследованиям. В 1928 г. уехал в СССР, где жил вплоть до 1956 г. В СССР в 1940 г. выпустил первый сборник стихотворений. С конца 20-х годов много и плодотворно работает над переводами произведений русской и советской поэзии — ему принадлежит перевод пятитомного Собрания сочинений В. Маяковского, переводы из Пушкина, а также «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели, за который в 1972 г. Гупперт удостоен Горьковской премии.
На русский язык переводится с середины 30-х годов.
БРИГАДА ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ЯНВАРЯ. (Кузбасская баллада). Перевод М. Ваксмахера.
Вечером в бараке бригадир сказал,
Прижавшись к печке спиной:
«Завтра — день памяти Ленина,
Завтра у нас выходной».
Ночь была черна, как базальт.
Тверд мороз, как гранит.
А в бараке — сало и чай,
Лопаты и динамит.
Люди бурили, долбили, скребли,
Проклятый грунт был острей стекла.
Тоскуя по снегу, стыла земля.
Работа была, как грунт, тяжела.
Завтра — памяти Ленина день.
Передышка завтра, привал.
«Эй, бригадир, расскажи-ка нам,
Что ты в тот год повидал».
«Нас, красноармейцев, из Петрограда
Прислали в Москву, в почетный караул.
Выходим ночью из вагона — видим:
Мороз-то уже к сорока шагнул.
Дома на улицах заиндевели,
Словно изъедены ржавчиной седой…
А еще страшней, чем мороз, чем ветер,
Великая скорбь над Москвой…
Мне не забыть детей постаревших,
Взрослых, что плачут по-детски, навзрыд.
Улицы стонут, стонут площади,
Камень слезой застывшей облит.
Гроб Ильича Москва обнимает,
Кострами греет, как мать нежна.
Как сегодня, вижу: идут и идут
Народы и племена.
Скорбное солнце в морозной дымке
Кажется не солнцем — луной.
Руки жжет горячей огня
Винтовки металл ледяной.
Поплыл над домами плач сирен.
Паровозы — в клубах дыма и пара.
Ударили пушки. Люди несли
Ленина вокруг земного шара.
Весь мир на Красную площадь пришел,
С вождем прощался народ.
Видите — у меня на партийном билете
Двадцать четвертый год…»
Люди смотрели на партийный билет
Своего бригадира. И в полумраке
До полуночи о Ленине шел разговор
В рабочем бараке.
А двадцать первого января,
Утром, в морозный туман,
Бригада лопаты взяла
И пошла в котлован.
Был этот день торжеством труда.
Сорокаградусный злился мороз.
Копали, взрывали, бурили, скребли.
Котлован на глазах рос.
«Цемент привезут — послезавтра фундамент
Класть начинаем, — бригадир кричал, —
Чтоб через год дала металл
Домна имени Ильича!»
МАЯКОВСКИЙ В БАГДАДИ. Перевод В. Швыряева.
Горечь мечтает стать сладостью.
Руставели.
На севере лес. На юге пустыня.
А запад с востоком окружены
От соли и нефти зеленой и синей
Каймой черноморской тяжелой волны.
Неба касаются сосен верхушки.
На стареньких скрипках играют ветра.
Лесник поселился на самой опушке,
И этим довольна его детвора.
Из ясеня стол. Колыбель из каштана.
В передней сундук и восточный кувшин,
В котором когда-то пенился рьяно
Осенний подарок крестьянских годин.
Волна мятежа обвалом грозила,
Но слово, что в дар ему было дано,
Мужало, росло, набирало силу,
Как в темном подвале молодое вино.
Лесную свежесть впитало слово,
Напев пастуха, улетающий вдаль,
Усмешку лукавую басен Крылова
И сказок Андерсена печаль.
Разин и Мюнцер ему подарили
Упрямство, а старый разбойник Арсен
Горечь тех вин, что веками бродили
В душных кувшинах у каменных стен.
Он в детстве скакал на фанерной лошадке
И мог бы, как многие, преуспеть,
Копируя росчерки прописей гладких,
Но времени ветер учил его петь.
Еще до прихода войны и коммуны
Молчание рощ, и лесов, и болот
Уже разбудило в ребенке трибуна
Той бури, с которой пришел Пятый год.
Дуб у Риона в волны глядится.
В предутренней дымке пути не видать.
Но школьная юность — что вольная птица:
К синему небу так же стремится,
Как сладостью горечь мечтает стать.
РАПСОДИЯ: ХЛЕБ И РОЗЫ. (Из поэмы). Перевод Ю. Хазанова.
* * *
… Дрогнет ли рука, листая книгу
Вплоть до эшафотов сорок пятого,
На той странице, где венки и флаги?
Пройдет ли ток
По мышцам и костям?
Что чувствовали мы? Что делали? Что думали?
Как мы сражались в те дни,
Когда народы ленинской страны
Погнали вспять жестокого врага?
Когда они проложили нам путь домой —
Тебе и мне?
Когда они, послушные своему героическому прошлому,
Выдержали испытание на разрыв, на стойкость?..
* * *
Мартовское утро в морозной мгле
(Воздух еще бормочет и дрожит
От грома пушек),
Колышется туманный рассвет
Над тающими водами; передовые части
Доверились наступающему дню
И зыбким понтонным мостам.
Я — сплошной силуэт,
Блудный сын без лица,
Но сердечная мышца
Бурно нагнетает кровь,
Но дыхание дымится;
Я в полушубке и валенках,
С наганом в кобуре —
На сорок третьем году жизни —
Через камыши и заросли ивняка
Бреду, укрываясь от самолетов,
Бреду, укрываясь от снайперов,
Бреду по расползшейся глине,
Взбираюсь на крутой склон: я
Вступаю на землю Австрии.
И в обложке
Моего воинского удостоверения —
Как послание потомкам —
Портрет Ленина.
ЭРНСТ ШЕНВИЗЕ.
Эрнст Шенвизе (род. в 1905 г.) — Поэт, эссеист и радиодраматург. Учился в Венском университете. Первый сборник, «Радуга», был подготовлен в 1937 г. и тогда же, в рукописи, удостоен премии Венского университета. Изданию его помешала оккупация, на время которой Шенвизе уехал в Трансильванию, — сборник был выпущен лишь в 1947 г. Составитель антологий австрийской поэзии «Патмос» (1935) и «Австрийская лирика с 1945 года» (1960). С 1954 г. живет в Вене, профессор Венского университета.
На русский язык переводится впервые.
САПФИЧЕСКАЯ ОДА. Перевод Е. Витковского.
Рук своих кольцо не сжимай, не надо, —
Сына не спасти, — но спроси у сердца
Своего, — и в нем ты вину отыщешь
Матери каждой.
Не была ль ты матерью прежде — в Спарте,
Не сама ль сынов ты на сечу слала
И встречала радостно — победивших
Или же мертвых.
Ты сама, о мать, помогла убийству!
Неужели вновь загрубело сердце,
Что убийцам в гордости ложной слало
Благословенье?
Только смерть кругом, если сердце мыслит
Лишь о смерти. Вот уже мир темнеет,
Больше не встает на защиту сына
Мать человека.
Я об этом думал — и вот, внезапно,
Мне в окно сова застучала клювом,
Прилетев на свет, — это голос мертвых
Был подтвержденьем.
Все сперва растет у тебя под сердцем,
Долгих девять месяцев вопрошая.
Ах, у бога тщетно тогда ты просишь
Вечного мира.
Будь спасенье целью твоей — ты сможешь
Сыновей спасти, что живут миражем,
Жаждут чистых тайн и встают упрямо
Перед могилой.
Сын твой, — о, найдет ли тебя он снова?
Только если ты позовешь и вспомнишь:
Живо то, что полнило грудь, что снова
Может гореть в ней.
Вот он, посмотри — он стоит, колеблясь,
Знай, с тобой в союзе он станет сильным
— Помни, мать: вкусишь на могиле сына
Горшие слезы.
Гордость и надменность в себе навеки
Растопчи, чтоб им не воскреснуть в сыне, —
Страшен час, в который в последний раз ты
Руки заломишь.
КРИСТИНА БУСТА. Перевод Е. Витковского.
Кристина Буста (род. в 1915 г.). — Изучала в Венском университете немецкую и английскую литературу. Провела тяжелую молодость «военного поколения». Первый сборник стихотворений, «Год за годом», выпустила в 1950 г. Известна также как детская писательница. На русский язык переводится впервые.
В ПУСТЫНЕ.
Хлебы разделены, розданы, кончилась влага,
Нет ничего, кроме ночи, и дня, и песка,
В кущах скитальцы укрылись и скот вместе с ними,
Ветром наполнено ухо того, кто идет.
Все же идет он и между барханами ищет
Древней скрижали слова, — так идет он,
Покуда не упадет, и уста не вкусят от малейшей
В мире звезды, и пока не упьются они
Тщетною твердостью гор,
Солью иссохшего в медленной страсти моря,
Бегом, паденьем семян, журавлиным полетом,
Тяжкой тропою людей, —
Как это много! Смирение в кровь проникает
С грохотом бури, — вскипают по жилам иссохшим
Страны, народы, погасшие в небе светила —
И возгораются в крошечном сердце его.
Буря растет и становится больше пустыни,
И меж скитальцами некто впервые встает,
Чтоб над барханами вечными поступью смерча
Снова идти и творенье с начала начать…
1945.
Полжизни смеялись павлины
В полуденных парках Шёнбрунна,
Где, в развалинах роясь, мы искали
Мерзкие трупы нашей вины,
Где на новых дорогах
Мы равняли мокрую землю
И отбросы войны.
Зацветала в фонтанах вода,
Как ни стыдно нам было
В это тяжкое лето,
Но точились медом и милостью
Непостижимые липы,
Заставляя колени склонить перед благоуханьем.
В зоопарке была Голгофа,
Где за наши грехи
Погибали голодные звери, —
От пайка больной антилопы
Чужеземный солдат нам кусок отломил,
Как от тела господня,
Вот так и прощали нас,
Будто разбойников благоразумных,
Клейменных позором, но преображенных
Верней и внезапней, чем если бы нас
Меч правосудья настиг.
ПАУЛЬ ЦЕЛАН.
Пауль Целан (псевдоним; наст. имя — Пауль Лес Анчель; 1920–1970). — Родился в семье австрийских евреев в Черновицах. В молодости прошел через «лагеря принудительных работ» румынско-фашистского режима. Родители Целана погибли в Черновицком гетто. После войны уехал в Австрию, где в 1948 г, выпустил первый поэтический сборник — «Песок из урн». С 1950 г. жил в Париже. Покончил с собой, бросившись с моста в Сену. Наиболее значительные произведения созданы поэтом в конце 40-х годов, в том числе всемирно известная «Фуга смерти».
Переводил на немецкий язык произведения русских и французских поэтов (Блока, Есенина, Рембо, Валери и др.).
Стихи П. Целана неоднократно печатались в СССР в русских переводах, начиная с 1967 года.
ФУГА СМЕРТИ. Перевод А. Ларина.
Черная влага истоков мы пьем ее на ночь
Мы пьем ее в полдень и утром мы пьем ее ночью
Мы пьем ее пьем
Мы в небе могилу копаем там нет тесноты
В доме живет человек он змей приручает он пишет
Он пишет в Германию письма волос твоих золото Гретхен
Он пишет спускается вниз загораются звезды он псов созывает свистком
Свистком созывает жидов копайте могилу в земле
Кричит нам сыграйте спляшите
Черная влага истоков мы пьем тебя ночью
Мы пьем тебя утром и в полдень мы пьем тебя на ночь
Мы пьем тебя пьем
В доме живет человек он змей приручает он пишет
Он пишет в Германию письма волос твоих золото Гретхен
Волос твоих пепел Рахиль мы в небе могилу копаем там нет тесноты
Он рявкает ройте поглубже лентяи живее сыграйте и спойте
Он гладит рукой пистолет глаза у него голубые
Поглубже лопату живее сыграйте веселенький марш
Черная влага истоков мы пьем тебя ночью
Мы пьем тебя в полдень и утром мы пьем тебя на ночь
Мы пьем тебя пьем
В доме живет человек волос твоих золото Гретхен,
Волос твоих пепел Рахиль он змей приручает
Кричит понежнее про смерть а смерть это старый немецкий маэстро
Кричит скрипачи попечальней и ввысь воспаряйте смелей
Там в небе могилы готовы там нет тесноты
Черная влага истоков мы пьем тебя ночью
Мы пьем тебя смерть это старый немецкий маэстро
Мы пьем тебя на ночь и утром мы пьем тебя пьем
Смерть это старый немецкий маэстро глаза голубее небес
Он пулей тебя настигает без промаха бьет
В доме живет человек волос твоих золото Гретхен
Он свору спускает на нас он дарит нам в небе могилу
Он змей приручает мечтая а смерть это старый немецкий маэстро
Волос твоих золото Гретхен
Волос твоих пепел Рахиль
ПЕСНЬ В ПУСТЫНЕ. Перевод В. Топорова.
Венок из листвы почерневшей сплетен был в окрестностях Акры.
Там гнал я коня вороного и смерти грозил я кинжалом.
И пепел я пил из разбитых кувшинов в окрестностях Акры.
В руины небес я скакал с безнадежно поникшим забралом.
Ведь умерли ангелы, бог стал незрячим в окрестностях Акры.
И нет утешенья в идущих нестройной толпой богомольцах.
Разрублен мечом ясный месяц — цветок из окрестностей Акры.
Цветут, как колючки, сухие суставы в заржавленных кольцах.
И я поклонился, смиренно и скорбно, окрестностям Акры.
Черна была долгая ночь, и нахлынули крови потоки.
И я стал смеющимся братом, железным архангелом Акры.
Но лишь это имя назвал — и упало мне пламя на щеки.
ТРАПЕЗА. Перевод В. Топорова.
Мы выпили долгую ночь на высоких лесах искушенья,
Зубами вспахали порог и посеяли затемно гнев.
Еще нам осталась трава, чтобы спать, — но разбудит нас мельник:
Он ищет живое зерно неторопким своим жерновам.
В цианистом свете небес остальные соломинки — блеклей:
Чеканят иную мечту и не ходят с чужих козырей,
А мы, в темноте перепутав беспамятство, память и чудо, —
Мы длимся один только миг и, смеясь, презираем его.
Мы канули в воду зеркал в сундуках с фосфорическим светом —
На улице лопнут они на потребу слепым облакам.
Наденьте пальто и карабкайтесь следом за мною на скатерть!
Ведь спим только стоя среди недопитых бокалов!
Ведь сны посвящаем медлительным тем жерновам!
* * *
«Париж-кораблик в рюмке стал на якорь…». Перевод В. Леванского.
Париж-кораблик в рюмке стал на якорь.
Я пью с тобой и за тебя так долго,
Что почернело сердце, и Париж
Плывет на собственной слезе — так долго,
Что нас укрыли дальние туманы
От мира, где любое «Ты» — как ветка,
А я на ней качаюсь, словно лист.
СОН И ЕДА. Перевод В. Леванского.
Твоя простыня — это полночь.
И тьма с тобою легла.
Целует виски и колени, велит ожить и уснуть.
Она осязает Слово, желанья и думы твои.
И дремлет, сливаясь с ними,
И тянет душу к себе.
Вычесывает осторожно соль из твоих ресниц,
И солью тебя угощает,
И ставит перед тобой
Горючий песок мгновений, украденных у тебя.
И то, что было в ней розой, тенями и росой,
Ты жадными пьешь губами.
ХРУСТАЛЬ. Перевод В. Топорова.
Не на моих губах ищи свои уста,
Не у дверей — странника
И слёзы — не в глазах.
Семью ночами выше поцелуй живет,
Семью сердцами глубже отпирают дверь,
Семью цветами позже шумит родник.
СНЕЖНОЕ ЛОЖЕ. Перевод Е. Витковского.
Глаза, не зрящие мира, в мертвящей сети ущелий. Я иду,
Камень на сердце,
Я иду.
Лунное зеркало — прямая стена. Вниз.
Блеск, запотевший в дыхании. Пятнами кровь.
Туманные души, еще раз нашедшие форму.
Десятипалые тени — сцепленье.
Глаза, не зрящие мира,
Глаза, в мертвящей сети ущелий,
Глаза, глаза:
Снежное ложе для нас обоих, снежное ложе.
Кристалл за кристаллом,
Во глубине единого часа зарешечены, падаем мы,
Падаем, и ложимся, и падаем,
И падаем:
Мы суть и быль,
Мы плоть от плоти ночи.
В пути, в пути.
ИНГЕБОРГ БАХМАН.
Ингеборг Бахман (1926–1973). — Окончила Венский университет, защитила диссертацию о философии Мартина Хайдеггера. Первый поэтический сборник, «Отсроченное время» (точнее — «Время, опаздывающее по расписанию»), выпустила в 1053 г., второй — в 1956 г., в дальнейшем от поэзии отошла. В начале 50-х годов покинула Австрию, жила в Швейцарии, ФРГ, Англии, США, последние годы жизни провела в Риме, где осенью 1973 г. погибла в результате несчастного случая. Известна как прозаик и переводчик итальянской поэзии (Унгаретти). За последние годы в СССР издана большая часть поэтического наследия Ингеборг Бахман, а также ряд ее новелл.
ВЕРЕНИЦА. Перевод И. Грицковой.
Угасали глаза любимых
Их уводили от нас.
И тогда мы сами смотрели
В пустыню угасших глаз.
Воспаленные наши ресницы
Остужает холодный дым
Перехватывает дыханье
Перед этим Немым, Пустым.
Мы видели мертвые очи
И не забудем их…
Любимые не узнавали
Самых любимых своих.
ИСТИНА. Перевод И. Грицковой.
Не три глаза! Пусть истина незрима,
Держи ответ, коль перед ней предстал.
Она восстанет из огня и дыма
И в пыль сотрет гранитный пьедестал.
Так постепенно прорастает семя,
В палящий зной сухой асфальт пробив.
Она придет и оправдает время,
Собой твои утраты искупив.
Ей нипочем пустая позолота,
Венки из лести, мишура хвальбы.
Она пройдет сквозь крепкие ворота,
Переиначит ход твоей судьбы.
И, словно рана, изведет, изгложет,
Иссушит, изопьет тебя до дна,
И все твои сомненья уничтожит,
Святым своим значением сильна.
Неверный свет реклам. Холодный город.
На площадях широких — ни души.
В дыму и гари задохнулся голубь.
Остановись! Подумай. Не спеши.
Не сосчитать багровых кровоточин.
Они давно горят в твоей груди.
Пусть этот мир обманчив и порочен,
Постигни правду, истину найди!
ТЕМНЫЕ РЕЧИ. Перевод Г. Ратгауза.
Как Орфей, я хвалю
Смерть, союзницу древнюю жизни,
И всей земной красоте,
И твоим глазам,
Князьям высокого неба,
Говорю мои темные речи.
Ты помнишь ли грозное утро?
Проснулся ты. На ладонь
Упала роса. Гвоздика
Дремала на сердце. Но ты
Увидел темную реку,
Бегущую мимо.
Да, кровь — моя гибкая лира,
Молчанье — моя струна.
В руке я держу твое сердце.
И знай, что прядь твоя стала
Прядью тени ночной,
И хлопья зимнего мрака
Холодят твои щеки.
Отныне я не твоя,
Мы опустили глаза.
Но я хвалю, как Орфей,
Жизнь, союзницу смерти,
И мне сквозь закрытые веки
Светит глаз твоих синева.
АНГЛИЯ.
ТОМАС ГАРДИ.
Томас Гарди (1840–1928). — Родился в семье каменщика в Аппер-Бокхемптоне (Уэссекс). Получил профессию архитектора. Стихи писал с юности, но первоначальную известность приобрел как прозаик, автор серии «романов характеров и среды», выходивших с 1872 по 1895 г. В 1896 г. Т. Гарди сделал в дневнике следующую запись: «Быть может, в стихах я смогу полнее выразить мысли и чувства, противоречащие косному застывшему мнению, твердому, как скала, которое поддерживается множеством людей, вложивших в него капитал». В 1898 г. Т. Гарди опубликовал свой первый поэтический сборник, «Стихи Уэссекса». Потом вышли в свет еще семь книг стихов, а также стихотворная драматическая эпопея «Династы» (1904–1908). Гарди-поэт продолжал Гарди-прозаика, оставаясь в стихах таким же последовательно устремленным к правде и человечности и непримиримым к социальной несправедливости.
Стихотворения «Черный дрозд» и «Человек, которого он убил» в переводе М. Зенкевича были опубликованы в 1940 г. в журнале «Интернациональная литература».
ЧЕРНЫЙ ДРОЗД. Перевод М. Зенкевича.
По роще мертвой я бродил
В морозном полумраке,
И солнце зимнее без сил
Мерцало, словно факел.
Все жались дома к очагам,
Лишь ветер бесприютный,
С ветвей срывая пестрый хлам,
Их рвал, как струны лютни.
Был острый лик земли суров
Под прелью увяданья,
И облака — ее покров,
А ветер — отпеванье.
Зародыши во тьме тая,
Жизнь замерла в покое.
И в безнадежности, как я,
Томилось все живое.
Но вдруг над головой моей
Раздался чистый голос,
Как будто радость майских дней
Лучами раскололась.
Облезлый, старый черный дрозд,
От холода весь съежась,
Запел при блеске первых звезд
Так звонко, не тревожась.
Все было пасмурно кругом,
Печаль во всем сказалась,
И радость в сумраке таком
Мне странной показалась, —
Как будто в песне той, без слов
Доходчивой и внятной,
Звучал какой-то светлый зов,
Еще мне непонятный
ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО ОН УБИЛ. Перевод М. Зенкевича.
«Когда бы встретил я
Такого паренька,
Мы сели б рядом, как друзья,
За столик кабачка.
В сраженье, как солдат,
Его я повстречал
И, выпустив в него заряд,
Ухлопал наповал.
Да, я убил его
За то, что он мой враг,
Не правда ль — только и всего,
Ведь это ясно так.
Наверно, тяжело
Он без работы жил,
Как я, продавши барахло,
В солдаты поступил.
Да, такова война!
Тех убиваем мы,
Кому бы поднесли вина
Иль дали бы взаймы».
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ. Перевод Вл. Невского.
Я — образ поколений;
Истлеет плоть, а я
Живу, черты и тени
В столетиях тая,
И вдруг являюсь снова
Из мрака забытья.
Наследие столетий —
Цвет глаз, волос, бровей,
Я — то, пред чем ничтожно
Мерило наших дней;
Я — вечное на свете,
Нет для меня смертей.
ПОЭТ. Перевод А. Сергеева.
Он хочет жить темно и тихо,
Ему противны свет, шумиха,
Молва, визиты в знатный дом
И лесть, и клятвы за столом.
Он не нуждается в участье
Богатства, красоты и власти
И в чувствах тех, кто в дальний путь
Спешит, чтоб на него взглянуть.
Когда же весть до вас дойдет,
Что он окончил круг забот,
В час сумеречный, час унылый
Скажите над его могилой:
«Тебя любили две души».
И день в кладбищенской тиши
При свете звезд умрет спокойно.
Так будет честно и достойно.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ВСТРЕЧИ С НЕЮ. Перевод О. Чугай.
Светило клонится к земле.
Смешались явь и сон —
Мне вдруг почудился во мгле
Души ответный стон.
Последний вечер на земле?
Чьим зовом я пленен?
Лег на дорогу свет ночной
И полосы теней.
Родился месяц молодой, —
Услышу от людей.
Для них, как прежде, стороной
Прошел один из дней.
В ЭПОХУ «СОКРУШЕНИЯ НАРОДОВ». Перевод А. Сергеева.
I.
Лишь человек за своей бороной
Грузно идет.
Конь его полусонный, хромой
Вот-вот упадет.
II.
Только дымок, дымок без огня
Из пырейных груд
В небо струится на склоне дня —
А царства прейдут.
III.
Девушка с парнем идут в стороне,
Тихи их речи.
Люди забудут скорей о войне,
Чем об этой встрече.
1915.
РОЖДЕСТВО 1924 ГОДА. Перевод М. Зенкевича.
«Мир на земле!» — под благовест и звон
Поет попов наемных миллион.
За тысячу девятьсот лет молитв
Мы получили газ для новых битв.
УОЛТЕР ДЕ ЛА MAP.
Уолтер де Ла Map (1873–1956). — Родился в Чарлстоне (Кент). Первая книга стихов У. де Ла Мара, «Песни детства», вышла в свет в 1902 г. За ней последовали сборники: «Стихи» (1906), «Слушатели» (1912), «Флора» (1919), «Любовь» (1943), «О, любимая Англия» (1956).
Прекрасный лирик-пейзажист, У. де Ла Map в течение всей своей жизни оставался верным принципам «георгианской» поэзии. «Георгианцами» вначале называли группу английских поэтов, участников антологии «Георгианская поэзия» (1910), опубликованной, когда на престол взошел король Георг V. В своем творчестве «георгианцы» ориентировались на «озерную школу», прежде всего на У. Вордсворта. Для их стихов характерны простота и ясность поэтического языка, отсутствие сложных образов и символики.
Стихи У. де Ла Мара па русском языке впервые напечатаны в «Антологии новой английской поэзии» (1937) в переводе С. Map.
ВСАДНИК. Перевод В. Лунина.
Я слышал, как всадник
Съехал с холма,
Луна освещала
Тускло дома;
И шлем серебрился,
И бледен был гость,
И лошадь — бела,
Как слоновая кость.
СЕРЕБРЯНОЕ. Перевод Г. Симановича.
В туфлях серебряных месяц нарядный
Ходит и ходит в ночи непроглядной;
Чуть он задержит серебряный взгляд —
Сад серебрится и вишни горят,
Жмурятся окна от лунного блеска,
И серебрится в лучах занавеска;
Пес безмятежно в своей конуре
Спит и не знает, что он в серебре;
Луч в голубятне, и снится голубке
Сон о серебряноперьевой шубке;
Мышка бежит — в серебре коготки
И серебром отливают зрачки;
И, неподвижна в протоке лучистой,
Рыба горит чешуей серебристой.
СЛУШАТЕЛИ. Перевод Г. Симановича.
«Есть тут хоть кто-нибудь?» — Путник спросил
У дверей, освещенных луной;
А рядом, в тиши, у опушки пасся
Конь его вороной.
И птица испуганно с башни взлетела
У Путника над головой,
И вновь он ударил в тяжелые двери:
«Да есть тут хоть кто-то живой?»
Но никто не спустился к Путнику,
Из-за гущи листвы, из окон
Никто на него, онемевшего,
Человечьим не глянул оком.
Только слушатели — привидения,
Нашедшие в доме ночлег, —
Стояли и слушали в лунном свете,
Как говорит человек.
Стояли толпою на лестнице темной,
Ведущей в пустынный зал,
И молча внимали тоскливому зову,
Который тьму прорезал.
И Путник почувствовал их, он понял,
Что это безмолвье — ответ;
А с неба, сквозь листья, на круп коня
Звездный ложился свет.
И Путник внезапно с удвоенной силой
Ударил в глухую дверь:
«Я клятву сдержал, я вернулся, но кто мне
Об этом скажет теперь!»
Бесчисленным эхом метался по дому
Путника жалобный крик,
Но призраки были недвижны и немы,
И вот он пришел, этот миг:
Они услыхали, как звякнуло стремя
И, будто в приливной волне,
Удары копыт, захлебнувшись, пропали
В вязкой, густой тишине.
АРАВИЯ. Перевод С. Map.
Дальние тени Аравии,
Принц на горячем коне,
В чаще глухой и зеленой,
В призрачном лунном огне.
Темный цветочный пурпур
В диком лесу густом
Тянется к призрачным звездам,
Бледным в свете дневном.
Сладкие песни Аравии
В сердце, едва пробужусь,
Слышу на тонком рассвете
Звуков легкую грусть.
Странная лютня в зарослях
Горем и счастьем звучит,
В смелых руках музыканта
Воздух ночи дрожит.
Со мной ее лютни и чащи,
Не вижу другой красоты,
Туманят смутным зовом
Прелестные черты.
Люди с холодным взглядом
Вслед мне бросают легко:
Он помешан на чарах Аравии,
Помутивших разум его.
ДЭВИД ГЕРБЕРТ ЛОУРЕНС. Перевод В. Британишского.
Дэвид Герберт Лоуренс (1885–1930). — Родился в семье шахтера в Иствуде (Ноттингемпншр), учился в колледже в Ноттингеме. Первыми изданными произведениями Д.-Г. Лоуренса были стихи, однако всемирную известность он приобрел в первую очередь как прозаик, автор многих романов, в которых протест против капиталистической «механистической цивилизации» сочетался с мечтой о возрождении «естественного человека» («Белый павлин», 1911; «Сыновья и любовники», 1912; «Радуга», 1915; «Жезл Аарона», 1921; «Любовник леди Чаттерлей», 1928). Д.-Г. Лоуренс писал: «Я представляю себе тело человека подобным пламени, подобным свече, вечно прямой и горящей, а разум — это лишь отсвет, падающий на то, что вокруг». Свои творческие установки Д.-Г. Лоуренс изложил в книге «Психоанализ и бессознательное» (1915). То значение, которое писатель придавал биологическим инстинктам в жизни человека, отозвалось в его поэтическом творчестве повышенным интересом к миру животных. Особенно это относится к его книгам 20-х годов, из которых наибольшую известность получил сборник стихов «Птицы, звери и цветы» (1923). Стихи Д.-Г. Лоуренса на русском языке были опубликованы в книге «Антология новой английской поэзии» (1937).
ПТИЦА КОЛИБРИ.
Могу вообразить, как в неком чуждом мире,
В тяжелой первобытной немоте,
В тишине, еще только пытавшейся дышать и жужжать,
Жужжащие птицы колибри помчались по улицам.
Прежде, чем что-либо имело душу,
Когда жизнь была зыбью материи, почти неодушевленной,
Эта крошка колибри вспорхнула живым бриллиантом
И помчалась со свистом среди медленных, мощных, мясистых стволов.
Пожалуй, цветы не росли в то время,
В том мире, где птица колибри стремительно мчалась
Впереди творенья.
Пожалуй, она протыкала медленные вены деревьев
Своим длинным клювом.
Возможно, она была огромная,
Как лесные болота, ибо крошечные ящерицы были, говорят,
Когда-то огромными.
Возможно, она была ужасное чудовище, птица-меч.
Мы глядим на нее не с того конца длинного телескопа Времени,
К счастью для нас.
БАВАРСКИЕ ГЕНЦИАНЫ[8].
[8].
Не каждый может иметь генцианы в доме
В мягкие, медленные дни в конце сентября.
Баварские генцианы, большие и темные, сугубо темные,
Темнящие день, подобные факелам дымной синевы Плутонова царства,
Острогранньге и подобные факелам, с языками темного пламени,
Стремящего свою синеву
Вниз и слабеющего на остриях лепестков, слабнущего при наступлении дня,
Факелы-цветы темно-синего мрака, дымно-синие пламена Плутона,
Черные лампы чертогов Диса, лучезарная черная синева,
Излучающая мрак, подобно тому как бледные лампы Деметры излучают свет,
Так ведите меня, ведите же за собой.
Дайте мне генциану, дайте мне факел!
Пусть ведет меня синий огонь, языкатое пламя цветка
Вниз по темным, все более темным ступеням, в глубь синевы
Все более синей,
Куда спускается Персефона, как раз теперь,
От сентябрьских заморозков
К невидимому царству, где мрак мрачнеет все ярче
И сама Персефона уже только голос
Или незримая тьма, погружающаяся в глубокую тьму
Объятий Плутона, в жаждущий и пронзительно жгучий мрак,
Среди блеска факелов тьмы, озаряющих тьмою
Невесту и ее жениха, божественный брак.
ДЖОН МЕЙСФИЛД.
Джон Мейсфилд (1878–1967). — Родился в семье юриста в Лед-бери (Хередфордшир). Служил в торговом флоте, в течение нескольких лет жил в США, где сменил множество профессий. В 1902 г. вышел в свет первый сборник его стихов, «Морские баллады». В творчестве Мейсфплда, особеньо до 1915 г., сильно влияние Р. Киплинга. В стихах последующих лет, объединенных в сборники «Сонеты» (1916), «Порабощенные» (1920) и др., сказалось сближение поэта с «георгианцами». Мейсфилд воскресил жанр большой повествовательной поэмы. Часто использовал античные мифы. В 1930 г. Джон Мейсфилд стал поэтом-лауреаюм.
Стихи Д. Мейсфилда переводили на русский язык И. Кашкин, С. Маршак, Б. Лейтин и др.
МОРСКАЯ ЛИХОРАДКА. Перевод С. Маршака.
Опять меня тянет в море,
Где небо кругом и вода.
Мне нужен только высокий корабль
И в небе одна звезда,
И песни ветров, и штурвала толчки,
И белого паруса дрожь,
И серый, туманный рассвет над водой,
Которого жадно ждешь.
Опять меня тянет в море,
И каждый пенный прибой
Морских валов,
Как древний зов,
Влечет меня за собой.
Мне нужен только ветреный день,
В седых облаках небосклон,
Летящие брызги,
И пены клочки,
И чайки тревожный стон.
Опять меня тянет в море,
В бродячий цыганский быт,
Который знает и чайка морей,
И вечно кочующий кит.
Мне острая, крепкая шутка нужна
Товарищей по кораблю
И мерные взмахи койки моей,
Где я после вахты сплю.
РУССКИЙ БАЛЕТ. Перевод А. Сергеева.
При лунном свете на крылах Шопена
Слетает к нам танцовщица — она
Прелестна, как ушедшая весна.
Ее улыбка и движенья
Забыть нас заставляют на мгновенье
Жестокий мир, заботы и терзанья.
Она юна, прекрасна, вдохновенна.
Она воздушна в вихре пируэта,
Мечта мальчишки и восторг мужчины.
Пусть царства превращаются в руины —
Сейчас улыбка и движенья
Вселяют в нас безумье вдохновенья —
Все то, чему средь будней нет названья.
По лунному встревоженному морю
Скользит она, дарительница света.
Но вскоре музыка прикажет ей
Вспорхнуть с эстрады и переселиться
Туда, где незабвенное таится,
Туда, где фавн, единорог,
Мерлина волшебство, Роландов рог…
Мечта, загадка и очарованье
Всех будущих и всех минувших дней.
ТРЕТИЙ ПОМОЩНИК. Перевод А. Ибрагимова.
Поскрипывают канаты, жалобно стонут блоки.
Лужи на нижней палубе пенисты и глубоки.
Зарифлены топселя, и свист мне буравит уши.
Я думаю о любимой, о той, что оставил на суше.
Глаза ее светло-серы, а волосы золотисты,
Как мед лесной, золотисты, — и так нежны, шелковисты.
Я был с ней свинья свиньею, плевал на любовь и ласку.
Когда же увижу снова ее, мою сероглазку?
Лишь море — передо мною, мой дом — далеко за кормою.
А где-то в безвестных странах, за пасмурью штормовою,
Нас всех поджидают красотки; их смуглые щеки — в румянах.
Любого они приветят — водились бы деньги в карманах.
Там будет вино рекою, там будут веселье и танцы.
Забвенье всего, что было, забвенье всего, что станется.
И вот — как отшибло память о верной твоей подруге,
О той, что ночами плачет в тоске по тебе и в испуге.
А ветер воет все громче в собачью эту погоду,
И судно кренится круто, зачерпывая воду.
Как облако дыма, пена взметается над бушпритом.
Я думаю о любимой, о сердце ее разбитом.
МОСТОВАЯ АДА. Перевод А. Ибрагимова.
Как только в Ливерпуль придем и нам дадут деньжонок, —
Вот мой вам всем зарок, —
Я с морем распрощусь. Женюсь на лучшей из девчонок —
И заживу как бог.
Довольно с дьяволом самим я поиграл в пятнашки.
Всю жизнь — акулы за кормой, — и по спине мурашки.
Нет, лучше ферму заведу: мне труд не страшен тяжкий,
Открою кабачок.
Так он сказал.
И вот мы в Ливерпуль пришли. Закреплены швартовы.
Окончен долгий путь.
Наш Билли, получив расчет, побрел в трактир портовый —
Хлебнуть винца чуть-чуть.
Для Полли — ром, для Нэнни — ром.
Все рады даровщине.
В одном белье вернулся он, издрогший весь и синий,
И, вахту отстояв, прилег на рваной мешковине —
Часок-другой вздремнуть.
Так он поступил.
ТОМАС СТЕРНС ЭЛИОТ.
Томас Стернс Элиот (1888–1965). — Родился в США. Учился в Гарварде, Оксфорде и Сорбонне. В 1914 г. переселился в Англию, в 1927 г. получил британское подданство. Первые свои стихи он опубликовал в 1915 г. К самым значительным его поэтическим произведениям относятся «Пруфрок и другие наблюдения» (1917), «Бесплодная земля» (1922), «Полые люди» (1925), «Страстная среда» (1930), «Четыре квартета» (1943). Творчество Т.-С. Элиота оказало большое влияние на дальнейшее развитие англоязычной поэзии. Постепенное нарастание религиозно-мистических настроений, приближение к позициям «чистого искусства», труднодоступность стихов Элиота для неподготовленного читателя очевидны. Но трудно переоценить значение произведенной Т.-С. Элиотом реформы английского поэтического языка: с одной стороны, полноправное включение в него современной обыденной речи, с другой — громадная гуманитарная культура поэта, сказавшаяся во введении в стихи сложного подтекста, в мастерском использовании намеков и цитат.
Т.-С. Элиот написал несколько пьес в стпхах и много работ по псторпп и теории поэзии. В 1948 г. он стал лауреатом Нобелевской премии в области литературы. Первые переводчики стихов Т.-С. Элиота на русский язык — И. Кашкин, С. Маршак, М. Зенкевич. В 1971 г. в издательстве «Прогресс» вышла книга Т.-С. Элиота «Бесплодная земля. Избранные стихотворения и поэмы» в переводе А. Сергеева.
ЛЮБОВНАЯ ПЕСНЬ ДЖ. АЛЬФРЕДА ПРУФРОКА. Перевод А. Сергеева.
S’io credesse che mia risposta fosse.
A persona che mai tornasse al mondo,
Questa fiamma staria senza piu scosse.
Ma pero che giammai di questo fondo.
Non torno vivo alcun s’i’odo il vero,
Senza tema d’infamia ti rispondo[9].
Ну что же, я пойду с тобой[10],
Когда под небом вечер стихнет, как больной
Под хлороформом на столе хирурга,
Ну что ж, пойдем вдоль малолюдных улиц —
Опилки на полу, скорлупки устриц
В дешевых кабаках, в бормочущих притонах,
В ночлежках для ночей бессонных:
Уводят улицы, как скучный спор,
И подведут в упор
К убийственному для тебя вопросу…
Не спрашивай, о чем.
Ну что ж, давай туда пойдем.
В гостиной дамы тяжело
Беседуют о Микеланджело.
Туман своею желтой шерстью трется о стекло,
Дым своей желтой мордой тычется в стекло,
Вылизывает язычком все закоулки сумерек,
Выстаивает у канав, куда из водостоков натекло,
Вылавливает шерстью копоть из каминов,
Скользнул к террасе, прыгнул, успевает
Понять, что это все октябрьский тихий вечер,
И, дом обвив, мгновенно засыпает.
Надо думать, будет время
Дыму желтому по улице ползти
И тереться шерстью о стекло;
Будет время, будет время
Подготовиться к тому, чтобы без дрожи
Встретить тех, кого встречаешь по пути;
И время убивать и вдохновляться,
И время всем трудам и дням[11] всерьез
Перед тобой поставить и, играя,
В твою тарелку уронить вопрос,
И время мнить, и время сомневаться,
И время боязливо примеряться
К бутерброду с чашкой чая.
В гостиной дамы тяжело
Беседуют о Микеланджело
И, конечно, будет время
Подумать: «Я посмею? Разве я посмею?»
Время вниз по лестнице скорее
Зашагать и показать, как я лысею, —
(Люди скажут:
«Посмотрите, он лысеет!») Мой утренний костюм суров, и тверд воротничок,
Мой галстук с золотой булавкой прост и строг —
(Люди скажут: «Он стареет, он слабеет!»)
Разве я посмею
Потревожить мирозданье?
Каждая минута — время
Для решенья и сомненья, отступленья и терзанья.
Я знаю их уже давно, давно их знаю —
Все эти утренники, вечера и дни,
Я жизнь свою по чайной ложке отмеряю,
Я слышу отголоски дальней болтовни,
Где под рояль в гостиной дамы спелись.
Так как же я осмелюсь?
И взгляды знаю, я давно, Давно их знаю,
Они всегда берут меня в кавычки,
Снабжают этикеткой, к стенке прикрепляя,
И я, пронзен булавкой, корчусь и стенаю.
Так что ж, я начинаю.
Окурками выплевывать свои привычки?
И как же я осмелюсь?
И руки знаю я давно, давно их знаю,
В браслетах руки, белые и голые впотьмах,
При свете лампы — в рыжеватых волосках!
Я, может быть,
Из-за духов теряю нить…
Да, руки, что играют, шаль перебирая,
И как же я осмелюсь?
И как же я начну?
……………………………
Сказать, что я бродил по переулкам в сумерки
И видел, как дымят прокуренные трубки
Холостяков, склонившихся на подоконники?..
О, быть бы мне корявыми клешнями[12],
Скребущими по дну немого моря!
…………………………….
А вечер, ставший ночью, мирно дремлет,
Оглажен ласковой рукой,
Усталый… сонный… или весь его покой
У ваших ног — лишь ловкое притворство…
Так, может, после чая и пирожного
Не нужно заходить на край возможного?
Хотя я плакал и постился[13], плакал и молился,
И видел голову свою (уже плешивую) на блюде,
Я не пророк и мало думаю о чуде;
Однажды образ славы предо мною вспыхнул,
И, как всегда, Швейцар, приняв мое пальто, хихикнул.
Короче говоря, я не решился.
И так ли нужно мне, в конце концов,
В конце мороженого, в тишине,
Над чашками и фразами про нас с тобой,
Да так ли нужно мне
С улыбкой снять с запретного покров,
В комок рукою стиснуть шар земной,
И покатить его к убийственному вопросу,
И заявить: «Я Лазарь[14] и восстал из гроба,
Восстал, чтоб вам открылось все, в конце концов», —
Уж так ли нужно, если некая особа,
Поправив шаль рассеянной рукой,
Вдруг скажет: «Это все не то, в конце концов,
Совсем не то».
И так ли нужно мне, в конце концов,
Да так ли нужно мне
В конце закатов, лестниц и политых улиц,
В конце фарфора, книг и юбок, шелестящих по паркету,
И этого, и большего, чем это…
Я, кажется, лишаюсь слов,
Такое чувство, словно нервы спроецированы на экран:
Уж так ли нужно, если некая особа
Небрежно шаль откинет на диван
И, глядя на окно, проговорит:
«Ну, что это, в конце концов?
Ведь это все не то».
………………………………..
Нет! Я не Гамлет и не мог им стать;
Я из друзей и слуг его, я тот,
Кто репликой интригу подтолкнет,
Подаст совет, повсюду тут как тут,
Услужливый, почтительный придворный,
Благонамеренный, витиеватый,
Напыщенный, немного туповатый,
По временам, пожалуй, смехотворный,
По временам, пожалуй, шут.
Я старею… я старею…[15]
Засучу-ка брюки поскорее.
Зачешу ли плешь? Скушаю ли грушу?
Я в белых брюках выйду к морю, я не трушу.
Я слышал, как русалки пели, теша собственную душу.
Их пенье не предназначалось мне.
Я видел, как русалки мчались в море
И космы волн хотели расчесать,
А черно-белый ветер гнал их вспять.
Мы грезили в русалочьей стране[16],
И, голоса людские слыша, стонем,
И к жизни пробуждаемся, и тонем.
ГИППОПОТАМ[17]. Перевод И. Кашкина.
[17].
Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви…
(Послание Апостола Павла К Колоссянам, IV, 16).
Широкозадый гиппопотам
Покоится в болоте;
Пусть кажется он мощным нам,
Он только кровь и плоть.
Плоть, и кровь, и недолгий век,
И, может быть, в печени камни;
А Истинная Церковь не шатнется вовек.
Ее Петр утвердил на камне[18].
В поисках пищи гиппо ревет,
Что никто не оставил ренты;
А Истинная Церковь и не моргнет —
Сами плывут дивиденды.
’Потам не может манго достать,
Гиппо исходит потом;
А Церковь не тужит: плоды собирать
Станут черных рабов ее роты.
В брачную пору гиппо сипит:
Голос с натуги срывает;
Церковь что день с амвона кричит,
С богом себя обручает.
Гиппопотамовы дни во сне,
Ночью идет есть он;
Неизъясним путь Господа мне[19]:
Церковь спит и кормится вместе.
Но вот воспрянул гиппопотам,
Вознесся на крыльях из топей он,
И ангелов хор встречал его там
И осанн воскурял опиум.
Агнца кровь омоет его[20],
И он преобразится,
И вот уже в знак свершенья сего
В сонм ангельский с арфой садится.
И вечно пребудет там, чист и бел,
Приемля лобзания мучениц,
А Истинную Церковь от грязных дел
В болоте мирском будет пучить.
ИСТ КОУКЕР[21]. Перевод А. Сергеева.
[21].
I.
В моем начале мой конец[22]. Один за другим[23]
Дома возникают и рушатся, никнут и расширяются,
Переносятся, сносятся, восстанавливаются или
Вместо них — голое поле, фабрика или дорога.
Старый камень в новое здание, старые бревна в новое пламя,
Старое пламя в золу, а зола в землю,
Которая снова плоть, покров и помет,
Кости людей и скота, кукурузные стебли и листья.
Дома живут, дома умирают[24]: есть время строить,
И время жить, и время рождать,
И время ветру трясти расхлябанное окно
И панель, за которой бегает полевая мышь,
И трясти лохмотья шпалеры с безмолвным девизом.
В моем начале мой конец. На голое поле
Искоса падает свет, образуя аллею,
Темную ранним вечером из-за нависших ветвей,
И ты отступаешь к ограде, когда проезжает повозка,
И сама аллея тебя направляет к деревне,
Угнетенной жарким гипнозом предгрозья.
Раскаленный свет в душной дымке
Не отражают, но поглощают серые камни.
Георгины спят в пустой тишине.
Дождись первой совы.
Если ты подойдешь
Голым полем не слишком близко, не слишком близко,
Летней полночью ты услышишь
Слабые отзвуки дудок и барабана
И увидишь танцующих у костра —
Сочетанье мужчины и женщины[25]
В танце, провозглашающем брак,
Достойное и приятное таинство.
Парами, как подобает в супружестве,
Держат друг друга за руки или запястья,
Что означает согласие. Кружатся вкруг огня,
Прыгают через костер или ведут хоровод,
По-сельски степенно или по-сельски смешливо
Вздымают и опускают тяжелые башмаки,
Башмак — земля, башмак — перегной,
Покой в земле нашедших покой,
Питающих поле. В извечном ритме,
Ритме танца и ритме жизни,
Ритме года и звездного неба,
Ритме удоев и урожаев,
Ритме соитий мужа с женой
И случки животных. В извечном ритме
Башмаки подымаются и опускаются[26].
Еды и питья. Смрада и смерти.
Восход прорезается, новый день
Готовит жару и молчанье. На взморье рассветный ветер,
Скользя, морщит волны. Я здесь,
Или там, или где-то еще. В моем начале.
II.
Зачем концу ноября нужны
Приметы и потрясенья весны
И возрожденное летнее пламя —
Подснежники, плачущие под ногами,
И алые мальвы, что в серую высь
Слишком доверчиво вознеслись,
И поздние розы в раннем снегу?
Гром, грохоча, среди гроз несется,
Как триумфальная колесница;
В небе вспыхивают зарницы,
Там Скорпион восстает на Солнце,
Пока не зайдут и Луна и Солнце.
Плачут кометы, летят Леониды,
Горы и долы в вихре сраженья,
В котором вспыхнет жадное пламя,
А пламя будет сжигать планету
Вплоть до последнего оледененья.
Можно было сказать и так, но выйдет не очень точно:
Иносказание в духе давно устаревшей поэтики,
Которая обрекала на непосильную схватку
Со словами и смыслами. Дело здесь не в поэзии.
Повторяя мысль, подчеркнем: поэзию и не ждали.
Какова же ценность желанного, много ли стоит
Долгожданный покой, осенняя просветленность
И мудрая старость? Быть может, нас обманули
Или себя обманули тихоречивые старцы,
Завещавшие нам лишь туман для обмана?
Просветленность — всего лишь обдуманное тупоумие.
Мудрость — всего лишь знание мертвых тайн,
Бесполезных во мраке, в который всматривались,
От которого отворачивались. Нам покажется,
Что знание, выведенное из опыта,
В лучшем случае наделено
Весьма ограниченной ценностью.
Знание — это единый и ложный образ,
Но каждый миг происходит преображение,
И в каждом миге новость и переоценка
Всего, чем мы были. Для нас не обман —
Лишь обман, который отныне безвреден.
На полпути и не только на полпути,
Весь путь в темном лесу, в чернике,
У края обрыва, где негде поставить ногу,
Где угрожают чудовища, и влекут огоньки,
И стерегут наважденья. Поэтому говорите
Не о мудрости стариков, но об их слабоумье,
О том, как они страшатся страха и безрассудства,
О том, как они страшатся владеть
И принадлежать друг другу, другим или Богу.
Мы можем достигнуть единственной мудрости,
И это мудрость смирения: смирение бесконечно.
Дома поглощены волнами моря.
Танцоры все поглощены землей.
III.
О, тьма, тьма, тьма. Все они уходят во тьму,
В пустоты меж звезд, в пустоты уходят
Пустые писатели, полководцы, банкиры,
Пустые сановники, меценаты, правители,
Столпы общества, председатели комитетов,
Короли промышленности и подрядчики,
И меркнут Солнце, Луна и «Готский альманах»,
И «Биржевая газета», и «Справочник директоров»,
И холодно чувство, и действовать нет оснований.
И все мы уходим с ними на молчаливые похороны,
Но никого не хороним, ибо некого хоронить.
— Тише, — сказал я душе, — пусть тьма снизойдет на тебя,
Это будет Господня тьма. — Как в театре,
Гаснет свет перед сменою декораций,
Гул за кулисами, тьма наступает на тьму,
И мы знаем, что горы, и роща на заднике,
И выпуклый яркий фасад уезжают прочь…
Или в метро, когда поезд стоит между станций,
И возникают догадки и медленно угасают,
И ты видишь, как опустошаются лица,
И нарастает страх оттого, что не о чем думать;
Или когда под наркозом сознаешь, что ты без сознанья…
— Тише, — сказал я душе. — Жди без надежды,
Ибо надеемся мы не на то, что нам следует; жди без любви,
Ибо любим мы тоже не то, что нам следует; есть еще вера,
Но вера, любовь и надежда всегда в ожидании.
Жди без мысли, ведь ты не созрел для мысли:
И тьма станет светом, а неподвижность ритмом.
Шепчи о бегущих потоках и зимних грозах.
Невидимый дикий тмин, и дикая земляника,
И смех в саду были иносказаньем восторга,
Который поныне жив и всегда указует
На муки рожденья и смерти.
Вы говорите,
Что я повторяюсь. Но я повторю.
Повторить ли? Чтобы прийти оттуда,
Где вас уже нет, сюда, где вас еще нет,
Вам нужно идти по пути, где не встретишь восторга.
Чтобы познать то, чего вы не знаете,
Вам нужно идти по дороге невежества.
Чтобы достичь то, чего у вас нет,
Вам нужно идти по пути отречения.
Чтобы стать не тем, кем вы были,
Вам нужно идти по пути, на котором вас нет.
И в вашем неведенье — ваше знание,
И в вашем могуществе — ваша немощь,
И в вашем доме вас нет никогда.
IV.
Распятый врач стальным ножом
Грозит гниющей части тела;
Мы состраданье узнаём
В кровоточащих пальцах, смело
Берущихся за тайное святое дело.
Здоровье наше — в нездоровье.
Твердит сиделка чуть живая,
Сидящая у изголовья,
О нашей отлученности от рая,
О том, что мы спасаемся, заболевая.
Для нас, больных, весь мир — больница,
Которую содержит мот,
Давно успевший разориться.
Мы в ней умрем от отческих забот,
Но никогда не выйдем из ее ворот.
Озноб вздымается от ног,
Жар стонет в проводах сознанья,
Чтобы согреться, я продрог
В чистилище, где огнь — одно названье,
Поскольку пламя — роза, дым — благоуханье.
Господню кровь привыкли пить,
Привыкли есть Господню плоть:
При этом продолжаем мнить,
Что нашу плоть и кровь не побороть,
И все же празднуем тот день, когда распят Господь.
V.
Итак, я на полпути, переживший двадцатилетие,
Пожалуй, погубленное двадцатилетие entre deux guerres[27],
Пытаюсь учиться употреблению слов, и каждый раз
Все начинаю заново для неизведанной неудачи,
Ибо слова подчиняются лишь тогда,
Когда выражаешь ненужное, или приходят на помощь,
Когда не нужно. Итак, каждый приступ
Есть новое начинание, набег на невыразимость
С негодными средствами, которые иссякают
В сумятице чувств, в беспорядке нерегулярных
Отрядов эмоций. Страна же, которую хочешь
Исследовать и покорить, давно открыта
Однажды, дважды, множество раз — людьми, которых
Превзойти невозможно — и незачем соревноваться,
Когда следует только вернуть, что утрачено,
И найдено, и утрачено снова и снова — в наши дни,
Когда все осложнилось. А может, ни прибылей, ни утрат.
Нам остаются попытки. Остальное не наше дело.
Дом — то, откуда выходят в дорогу. Мы старимся,
И мир становится все незнакомее, усложняются ритмы
Жизни и умирания. Не раскаленный миг
Без прошлого, сам по себе, без будущего,
Но вся жизнь, горящая каждый миг,
И не только жизнь какого-то человека,
Но и древних камней с непрочтенными письменами.
Есть время для вечера при сиянии звезд
И время для вечера при электрической лампе
(Со старым семейным альбомом).
Любовь почти обретает себя,
Когда здесь и теперь ничего не значат.
Даже в старости надо исследовать мир,
Безразлично, здесь или там.
Наше дело — недвижный путь
К иным ожиданьям,
К соучастию и сопричастию.
Сквозь тьму, холод, безлюдную пустоту
Стонет волна, стонет ветер, огромное море,
Альбатрос и дельфин. В моем конце — начало.
УИЛФРЕД ОУЭН. Перевод М. Зенкевича.
Уилфред Оуэн (1893–1918). — Сын железнодорожного служащего. Учился в Лондонском университете. С самого начала первой мировой войны Оуэн служил в стрелковых частях, участвовал во многих военных операциях. Болезнь нервной системы послужила причиной его возвращения в Англию, где в госпитале он встретился с 3. Сассуном. В 1918 г. Оуэн вернулся на фронт, был награжден военным крестом и погиб за неделю до перемирия.
Уилфред Оуэн — крупнейший из «окопных поэтов». Изданные лишь в 1920 г., его стихи — горькое и гневное обличение ужасов войны, страстная защита права человека на жизнь. Поэзия Оуэна своим гуманистическим пафосом оказала влияние па английских поэтов 30-х годов (так называемая «школа Одена»). Включенные в том стихи У. Оуэна в переводе М. Зенкевича были опубликованы в «Антологии новой английской поэзии» (1937).
ЧАСОВОЙ.
Мы заняли пустой блиндаж, и боши
Устроили нам ад, снаряды в ряд
Ложились, но не пробивали бреши.
Дождь, водопадом сточным бурно пенясь,
Развел по пояс топь, и скоро грязь
Покрыла скользкой глиной скат ступенек.
Остаток воздуха был затхл, дымясь
От взрывов, и в нем прели испаренья
Тех, кто здесь жил, оставив испражненья,
А может, и тела…
Мы скрылись там
От взрывов, но один ворвался к нам,
Глаза и свечи погрузив в потемки.
И хлоп! бац! хлоп! Вдруг по ступенькам рухнул
В топь тухлую, в густой водоворот
Наш часовой; за ним ружье, обломки
Гранат германских, брызги нечистот.
Ожив, он плакал, как ребенок слаб;
«О сэр, глаза! Я слеп! Ослеп! Ослеп!»
Я приподнес свечу к глазам незрячим,
Сказав, что если брезжит свет пятном,
То он не слеп, и все пройдет потом.
«Не вижу», — он рыдал и взглядом рачьим
Таращился. Его оставив там,
Другого я послал ему на смену,
Велел найти носилки непременно,
А сам пошел с обходом по постам.
Другие в рвоте кровью истекали,
Один же утонул в грязи и кале, —
Все это кануло теперь во мрак.
Но одного я не забуду: как,
Прислушиваясь к стонам часового
И к дрожи сломанных его зубов,
Когда снаряды рушились и снова
По крыше били, сотрясая ров, —
Мы услыхали крик его: «Сейчас
Я вижу свет!» Но свет давно погас.
ОТПЕВАНИЕ ОБРЕЧЕННОЙ ЮНОСТИ.
Где звон по павшим, словно скот на бойне?
Лишь рев чудовищный от канонад,
Да пулеметы трескотней нестройной
Отходную им второпях твердят.
Колокола им не гудят издевкой,
Не слышно пенья, лишь свирепый хор
Снарядов завывает дикой спевкой,
Да горны кличут их в пустой простор.
Какие свечи им осветят ров?
Не в их руках, в затмении их глаз
Вдруг вспыхнут огоньки в последний раз.
Бескровность лиц любимых — их покров.
Взамен цветов — немая нежность грусти,
И вечер шторы сумрачные спустит.
ЗИГФРИД САССУН.
Зигфрид Сассун (1836–1967). — Родился в Кенте, учился в Мальборо и Кембридже. Участник первой мировой войны, офицер. Награжден военным крестом. Так же как У. Оуэн, принадлежит к группе «окопных поэтов». В 1917 г. З. Сассун заявил, что «цели, ради которых ведется война, не стоят стольких страданий». Стихи Зигфрида Сассуна английская критика назвала «взрывом раскаленного добела гнева». После войны З. Сассун занимался литературной критикой, издал несколько книг стихов, но лучшее, что создано им, относится к периоду первой мировой войны. Среди книг Сассуна можно назвать «Сатирические стихи» (1926), «Воспоминания молодого офицера» (1930), «Дорога к краху» (1933).
Первым переводчиком стихов 3. Сассуна на русский язык был М. Зенкевич.
УГРЫЗЕНИЯ СОВЕСТИ. Перевод Э. Шапиро.
Затерянный в окопах средь болот,
Он по настилу тащится и знает
Лишь то, что залпом взорван небосвод,
Когда из мрака хлещет дождь… Ступает
Бессильно, грузно. И, как вспышка света,
Вопрос: «Что может хуже быть, чем это?»
Он видел, как средь обгорелых пней
Бежали немцы, бледные, как тени.
Там был один, с лицом земли темней,
Он умолял, тряслись его колени…
Мы, как свиней, их резали… «К чертям!
Есть то, о чем ты не расскажешь там
Отцу, который в тишине покоев
Читает вслух о подвигах героев».
ДОЗОР В ТРАНШЕЯХ. Перевод Э. Шапиро.
Разбуженный, продрогший, чуть живой,
Я ощупью на пост проклятый свой
Бреду в сырую, слякотную рань
И слышу в тишине глухую брань
В землянках копошащихся людей.
Стой! Вот опять над линией траншей
Снарядов грохот и в провалах тьмы
Зарницы ужаса в полях, где мы
Разбили бошей; в мерзлых, как могила,
Окопах люди ждут, застыв, без сил.
«Носилки где? Кого-нибудь убило?»
Зачем здесь кто-то вновь огонь открыл?.
И небо тусклых звезд над головой висит.
Я пробужден от сна, а мой сосед убит.
МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА. Перевод М. Зенкевича.
Сквайр гнал меня угрозою и лаской
На фронт (при лорде Дарби). Там сквозь ад
(У Пашендейля) брел я с перевязки,
Хромая, в свой окоп, как вдруг снаряд
В настил мостков ударил, и я в смрад
И грязь упал и сгинул в жиже вязкой.
Сквайр за обедней видит на стене
Мерцающее позолотой имя.
«Пал смертью славных» — это обо мне,
Оно стоит всех ниже под другими.
Два года, мучаясь в страде кровавой,
Во Франции за сквайра дрался я;
Был в отпуске, и вот судьба моя —
Какой еще желать мне большей славы?
АЙЗЕК РОУЗЕНБЕРГ. Перевод Э. Шапиро.
Айзек Роузенберг (1890–1918). — Родился в Бристоле, в семье рабочего. В четырнадцать лет А. Роузенберг уже начал работать, по учебу не бросил. В 1911 г. ему удалось поступить в Школу искусств. В 1915 г. был призван в армию, воевал и погиб на фронте в апреле 1918 г. Роузенберг— один из наиболее известных «окопных поэтов» первой мировой войны.
Поэт и художник, он остро переживал трагедию войны и принесенные ею страдания. Для стихов Роузенберга характерен судорожно-напряженный тон, напоминающий поэзию немецкого экспрессионизма того же периода.
РАССВЕТ В ТРАНШЕЯХ.
В агонии ночная тьма —
И время то же, что во дни друидов.
Здесь лишь одно живое существо
Касается меня —
Смешная сардоническая крыса, —
Когда я с бруствера срываю мак,
Чтоб за ухо заткнуть.
Глупыш, тебе была бы крышка, знай они
Твои симпатии космополита
(И антипатии бог весть какие).
Сейчас коснулась ты руки английской,
А завтра то же сделаешь, наверно, для германца,
Уж коли по душе тебе шнырять
Среди зеленых спящих. И сама
Ты сгустком кажешься зеленым
Средь этих строгих глаз и мощных тел
Атлетов, менее удачливых, чем ты,
Покорных прихотям убийства
И распростертых в пропастях земли,
В полях разрытых Франции.
Что видишь в наших ты глазах, когда
Скрежещет сталь и пламя бьется
В застывших небесах?
Откуда дрожь — откуда ужас в сердце?
А маки, взросшие из вен людских,
Все падают и падают…
А мой, торчащий за ухом, живет
И только побелел слегка от пыли.
БЕССМЕРТНЫЕ.
Я их убил, но вновь и вновь
Они вставали на пути.
Ни днем, ни ночью я не мог
От них ни скрыться, ни уйти.
В бреду рванулся я — и вдруг
Их кровь на пальцах ощутил.
Но все упрямей и страшней
Они вставали из могил.
Я убивал и убивал,
Напившись крови допьяна, —
Но поднимались вновь они,
Ведь в шутку гибнет Сатана.
Я думал, Дьявол спит в вине,
Считал, что с женщиной он схож.
Я Вельзевулом звал его.
Теперь он — мерзостная вошь.
ХЬЮ МАК-ДИАРМИД.
Хью Мак-Диармид (род. в 1892 г.). — Псевдоним крупнейшего шотландского поэта Кристофера Меррея Грива. Лидер так называемого «Шотландского литературного возрождения», ставящего своей целью возрождение традиций национальной поэзии и создание новой поэзии на родном языке. X. Мак-Диармид — один из основателей Шотландской националистической партии. Впоследствии стал коммунистом. В 1970 г. и 1972 г. вышли в свет поэтические книги Хью Мак-Диармида «Еще раз избранные стихи» и «Антология стихов». Поэт обращается к истории Шотландии, критикует современное буржуазное общество, воспевает простой люд своей родины. Он пользусчся как традиционными балладными размерами, так и свободным стихом. Пишет на шотландском и английском языках.
С ГОРДОСТЬЮ. Перевод А. Ибрагимова.
Шотландия! Уже давно
Желание одно
В душе моей сыновьей:
Воспеть в бессмертном слове
Да будет мне дано
Твой трудный путь. Я вправе
В неповторимом сплаве
Соединить презренье
И светлое прозренье.
Так на лице постылой
Забывчивой рукою
Рисуют с тайным пылом
Лицо совсем другое.
РОБЕРТ ГРЕЙВЗ.
Роберт Грейвз (род. в 1895 г.). — Родился в Лондоне; его отец— известный ирландский поэт А.-П. Грейвз. Во время первой мировой войны Р. Грейвз пошел добровольцем на фронт; служил в одном полку с 3. Сассу-пом. После войны учился в Оксфордском университете, преподавал историю английской литературы в Каире и на Майорке.
Грейвз начал печататься в 1910-е годы. Его перу принадлежат несколько томов прозы и множество поэтических сборников. Последние из них — «Стихи 1971–1972» (1972), «Трудные вопросы, легкие ответы» (1972). Дисгармонии современной жилш и современных человеческих отношений противостоит в стихах Р. Грейвза мечта о вечно прекрасном. Сложная звуковая система, внутренние рифмы, ритмическое богатство придают своеобразное звучание каждому стихотворению поэта.
В 30-е годы стихи Р. Грейвза на русский язык переводила С. Map. В 1965 г. вышла в свет книжка его детских стихов «Скрипка за пенни» (изд-во «Детская литература», перевод А. Сергеева). Стихи Р. Грейвза публиковались также в журнале «Иностранная литература» (1968 г.).
ЧЕРТ ДАЕТ СОВЕТЫ ПИСАТЕЛЮ. Перевод А. Сергеева.
Пускай читатель рассуждает злобно,
Что, дескать, надо врать правдоподобно,
Его слова — пустая болтовня.
Писатель, лучше слушайся меня.
Во-первых, не усердствуй в описанье
Характеров, страстей и злодеяний:
Чтоб ложь твоя не потрясла основ,
Бери пример с отъявленных лгунов, —
А не лгунишек, врущих что попало,
Об истине не думая нимало.
Надергай отовсюду громких фраз,
Нелепых сцен и пошленьких прикрас,
И пусть без всякой связи меж собою
Скитаются бесцветные герои
И удивляют вздорностью своей
Себя, тебя и остальных людей.
Когда найдешь, что дальше врать нет мочи,
Поставь лирическое многоточье:
Рассказ мой, дескать, кончен, как ни жаль,
К чему еще идея и мораль?
А что концы не сводятся с концами —
Так в жизни тоже так. Судите сами.
ВЕДЬМИН КОТЕЛОК. Перевод А. Сергеева.
Внезапно пал туман, окутав местность,
И пешеход, взобравшийся на холм,
С дороги сбился — без ориентиров
И без тропинки он пытался трижды
Спуститься вниз, но трижды выходил
К дымящемуся, словно котелок,
Поросшему осокой водоему,
Перед которым был огромный камень.
И, выйдя в третий раз на это место,
Он понял: это ж «Ведьмин Котелок» —
О нем ему рассказывали раньше,
А вот теперь, благодаря туману,
Он ползает вокруг него, как муха.
Замшелые округлые каменья
Скользили вниз, сквозь папоротник мчались
Бурлящие хмельные ручейки —
Он разомкнул порочный круг блужданий
И шел все вниз и вниз, а на пути
Встречались то озера, то болота,
То крепостные стены валунов.
Разбитый при паденье локоть саднил,
Кровь запеклась лепешкой на щеке,
Пот лил ручьями, и в глазах рябило.
В конце концов, как будто пожалев
Шального пешехода, перед ним
Возник шалаш, и рядом груды торфа
И долгожданные следы колес.
По колеям он вышел на дорогу,
Которая вела и вверх и вниз.
Туман по-прежнему скрывал окрестность,
И пешеход избрал легчайший путь
И зашагал, как прежде, вверх и вниз.
Он шел в тумане, как во сне. Усталость
Валила с ног, но ровная дорога
Уверенно вела его куда-то,
И он почти бежал, когда из мглы
Вдруг выступил дорожный указатель.
Он подбежал к нему и прочитал:
«Семнадцать миль…», а до чего, неясно —
Дожди и солнце превратили в ребус
Написанное на дощечке слово.
Тогда он глянул на другую стрелку,
Которая указывала вверх.
На ней стояло: «„Ведьмин Котелок“ —
Полмили». Быть не может! А ведь он
Карабкался по кручам два часа!
…Какой-то местный весельчак повесил
На эту стрелку дохлую змею.
Вдали ревел охрипший бык. Туман
По-прежнему окутывал окрестность…
…И тут он рассердился…
ВОЛШЕБНАЯ КАРТИНКА. Перевод А. Сергеева.
Валялось где-то зеркальце,
Нашел мальчишка зеркальце,
Мальчишка глянул в зеркальце
И вдруг как закричит:
«Там злой противный карлик,
Лохматый грязный карлик,
Он рот разинул, карлик,
И на меня глядит!»
Отец мальчишки был моряк,
С медалью на груди моряк,
Увидел зеркальце моряк
И тоже закричал:
«Ура! Да это Нельсон,
Не спорьте, это Нельсон,
Нет, право, это Нельсон,
Наш славный адмирал!»
Тогда жена увидела,
У мужа вдруг увидела,
Предмет в руках увидела
И глянула в предмет.
Как закричит: «Ты разлюбил,
Меня, проклятый, разлюбил,
Ты дрянь такую полюбил,
И вот ее портрет!»
«Позволь, да это ж Нельсон,
Не видишь разве, Нельсон,
В матросской форме Нельсон,
И вот медаль видна».
«Ты лжец!» — жена кричала,
«Ты лжешь!» — жена кричала,
«Не лги! — жена кричала. —
Признайся, кто она?»
А мимо ехал пастор,
На тощей кляче пастор,
Услышал, значит, пастор,
Что ссорится народ.
Глядит — стоит мальчишка,
Напуганный мальчишка,
Дрожит, кричит мальчишка
И в три ручья ревет.
Тут руку поднял пастор,
Призвал к молчанью пастор,
И спрашивает пастор:
«Что здесь произошло?»
Мальчишка крикнул: «Карлик,
Противный злющий карлик,
Лохматый грязный карлик
Забрался под стекло!»
Жена рыдает: «Разлюбил,
Отец, меня он разлюбил,
Он дрянь такую полюбил,
Смотрите, вот она!»
Муж объясняет: «Нельсон,
Отец, ведь это Нельсон,
Смотрите сами — Нельсон,
Пускай не врет жена!»
Тут пастор глянул в зеркальце,
Увидел что-то в зеркальце,
А что там было в зеркальце,
Не понял пастор сам.
И он сказал: «Я эту вещь,
Необъяснимейшую вещь,
Неизъяснимейшую вещь
Возьму к себе во храм».
ВИТОЙ ПОЛЕТ. Перевод И. Озеровой.
Капустницы полет витой
(Его идиотизм святой)
Не изменить, ведь жизнь пройдет,
Пока поймешь прямой полет.
Однако знать — не значит мочь!
Она витает наугад
К надежде, к богу — и назад.
Стриж — акробат, но даже он
Таланта этого лишен.
МОЕ ИМЯ И Я. Перевод И. Озеровой.
Мне имя присвоил бесстрастный закон —
Я пользуюсь им с тех пор,
И правом таким на него облечен,
Что славу к нему приведу на поклон
Иль навлеку позор.
«Он — Роберт!» — родители поняли вмиг,
Вглядевшись в черты лица,
А «Грейвз» — средь фамильных реликвий иных
Досталось в наследство мне от родных
Со стороны отца.
«Ты Роберт Грейвз, — повторял мне отец, —
(Как пишется — не забудь!),
Ведь имя — поступков твоих образец,
И с каждым — честный он или подлец —
Безукоризнен будь».
Хотя мое Я незаконно со мной,
Готовое мне служить,
Какой мне его закрепить ценой?
Ведь ясно, что Я сгнию под землей,
А Роберту Грейвзу жить.
Отвергнуть его я никак не могу,
Я с ним, как двойник, возник.
Как личность, я звуков набор берегу,
И кажется, держит меня в долгу
Запись метрических книг.
Имя спешу я направить вперед,
Как моего посла,
Который мне кров надежный найдет,
Который и хлеб добудет и мед
Для моего стола.
И все же, поймите, я вовсе не он
Ни плотью моей, ни умом,
Ведь имя не знает, кто им наречен…
В мире людей я гадать обречен
И о себе и о нем.
УТРАЧЕННАЯ ЛЮБОВЬ. Перевод Г. Симановича.
От горя стал всевидящ он
И тайне роста причащен
Травы и листьев; между делом
Глядит на мир сквозь монолит
Иль наблюдает, как летит
Душа, расставшаяся с телом.
Ты не сказал — уж слышит он,
К нему — всех звуков вереницы.
Другим невнятный, писк мокрицы
В его ушах рождает звон.
Поверите ль, он даже слышит,
Как травы пьют, личинки дышат,
Как моль, зубами скрежеща,
Сверлит материю плаща,
Как муравьи, стеная тяжко,
В гигантской движутся упряжке;
Скрипят их жилы, каплет пот;
Он слышит, как паук прядет,
Как в этой пряже мухи тонут,
Бормочут, стонут…
Стал острым слух его и взор.
Он бог. А может быть, он вор
В бессонном, суетном стремленье
Вернуть любовь хоть на мгновенье…
ПРОМЕТЕЙ. Перевод И. Озеровой.
К постели прикован я был своей,
Всю ночь я бессильно метался в ней.
Напрасный опять настает рассвет,
И гриф на холме лучами согрет.
Я вновь, подобно титанам, влюблен,
К вечерней звезде иду на поклон,
Но эта костлявая птица опять
Желает прочность любви испытать.
Ты, ревность, клюв орошая в крови,
Свежую печень по-прежнему рви.
Не улетай, хоть истерзан я весь,
Коль та, что ко мне привлекла тебя, — здесь.
ХУАНУ[28] В ДЕНЬ ЗИМНЕГО СОЛНЦЕСТОЯНИЯ. Перевод В. Британишского.
[28].
Есть повесть, и единственная повесть,
Чтоб ты другим поведал,
Ученый бард или младенец чудный;
Лишь ей должны служить и стих и стиль,
Те, что блестят порой
В простых повествованьях, заблудившись.
Опишешь ли все месяцы деревьев,
Диковинных зверей,
Птиц, что вещают волю Триединой?
Иль Зодиак, что медленно кружится
Под Северным Венцом,
Тюрьмой всех истинных царей-героев?
Вода, ковчег и женщина, и вновь
Вода, ковчег, богиня:
Царь-жертва вновь свершает, не колеблясь,
Круг предназначенной ему судьбы,
Двенадцать витязей призвав следить
Свой звездный взлет и звездное паденье.
Расскажешь ли о Деве среброликой,
К чьим бедрам рыбы льнут?
В левой руке богини — ветвь айвы,
Пальчиком правой манит, улыбаясь.
Как может царь спастись?
По-царски за любовь он платит жизнью.
Или о хаосе, родившем змея,
В чьих кольцах — океан,
В чью пасть герой, меч обнажая, прыгнет
И в черных водах, в чаще тростника,
Бьется три дня, три ночи,
И воды изрыгнут его на берег?
Падает снег, ухает ветер в трубах,
А в бузине — сова,
Страх, сердце сжав, ждет чаши круговой,
Скорби, как искры, вверх летят, и стонет
Рождественский огонь:
Есть повесть, и единственная повесть.
Представь богиню милостивой, мягкой,
Но не забудь цветы,
Что в октябре топтал свирепый вепрь.
Белым, как пена, лбом она манила,
Глаз голубым безумьем,
Но все сбылось, что ею обещалось.
БЕЛАЯ БОГИНЯ[29]. Перевод И. Озеровой.
[29].
Ее оскорбляют хитрец и святой,
Когда середине верны золотой.
Но мы, неразумные, ищем ее
В далеких краях, где жилище ее.
Как эхо мы ищем ее, как мираж —
Превыше всего этот замысел наш.
Мы ищем достоинство в том, чтоб уйти,
Чтоб выгода догм нас не сбила с пути.
Проходим мы там, где вулканы и льды,
И там, где ее исчезают следы,
Мы грезим, придя к неприступной скале,
О белом ее прокаженном челе,
Глазах голубых и вишневых губах,
Медовых — до бедер — ее волосах.
Броженье весны в неокрепшем ростке
Она завершит, словно мать, в лепестке.
Ей птицы поют о весенней поре.
Но даже в суровом седом ноябре
Мы жаждем увидеть среди темноты
Живое свеченье ее наготы.
Жестокость забыта, коварство не в счет,
Не знаем, где молния жизнь пресечет.
ДИКИЙ ЦИКЛАМЕН. Перевод А. Сергеева.
Спросила тихо: — Чем тебе помочь? —
Я дал ей лист бумаги: — Нарисуй цветок!
И, закусив губу, она склонилась —
О, этот смуглый лоб! — над белою бумагой
И мне нарисовала дикий цикламен,
Майоркский, наш (сейчас еще зима),
Чрезмерно пышный, — и с улыбкой
Пустила мне по воздуху рисунок:
— Не получилось! — Я же ощутил,
Что комнату заполнил запах цикламена.
Она ушла. Я спохватился вдруг,
Что я хочу ее улыбкой улыбнуться
И, как она, сверкнуть глазами… тщетно!
Тут я забылся: у меня был жар,
И врач ее впускал на пять минут.
РУБИН И АМЕТИСТ. Перевод А. Сергеева.
Их две: одна добрее хлеба,
Верна упрямцу-мужу,
Другая мирры благовонней,
Верна одной себе.
Их две: одна добрее хлеба
И не нарушит клятвы,
Другая мирры благовонней
И клятвы не дает.
Одна так простодушно носит
Рубин воды редчайшей,
Что люди на него не смотрят,
Сочтя его стекляшкой.
Их две: одна добрее хлеба,
Всех благородней в городе,
Другая мирры благовонней
И презирает почести.
Ей грудь украсил аметист,
И в нем такая даль,
Что можно там бродпть часами —
Бродить и заблудиться.
Вокруг чела ее круги
Описывает ласточка:
И это женственности нпмб,
Сокрытый от мужчин.
Их две: одна добрее хлеба
И выдержит все бури,
Другая мирры благовонней,
Все бури в ней самой.
БЕАТРИЧЕ И ДАНТЕ. Перевод А. Сергеева.
Он, сумрачный поэт, в нее влюбился,
Она, совсем дитя, в любовь влюбилась
И стала светом всей судьбы поэта.
Дитя, она невинно лепетала —
Ей душу не смущали подозренья.
Но женщина жестоко оскорбилась,
Что из ее любви своей любовью
Поэт без спроса создал целый мир —
К своей бессмертной славе.
ТРАДИЦИОНАЛИСТ. Перевод А. Сергеева.
Уважай упрямую непобедимость
Того, кто верен традициям, —
Его руки спокойны, но он
Готов их сжать в кулаки,
Чтобы дать отпор негодяю,
И готов карабкаться в горы
Иль шагать хоть неделю к морю.
А если за ним шли чудеса —
Как и за тобой, — они были
Лишь поблажками возраста тем из мужчин,
Какие и в наше время способны любить
Настоящих женщин — таких, как ты.
СЕСИЛ ДЭЙ-ЛЬЮИС.
Сесил Дэй-Льюис (1904–1972). — Родился в Ирландии, в семье священника. Принадлежал к группе так называемых «оксфордских поэтов», выступивших в 30-е годы и утверждавших гражданственность поэзии. Несмотря на тяготение преимущественно к пейзажной и любовной лирике, С. Дэй-Льюис и в годы после второй мировой войны не отказался от идеи активного вмешательства человека в окружающую жизнь. Стихи С. Дэй-Лыоиса отличаются внешней простотой и ясностью мысли. Последние книги поэта — «Калитка» (1962), «Комната» (1965), «Шепот корней» (1970). В 1968 г. С. Дэй-Льюис был удостоен почетного звания поэта-лауреата.
Поэт известен также как автор детективной прозы (под псевдонимом Николас Блейк).
На русском языке стихи С. Дэй-Льюиса публиковались с середины 30-х годов в переводах Ю. Анисимова, С. Боброва, С. Map, И. Романовича.
БЫЛОЕ НЕ ВОССТАНЕТ, СЛОВНО ФЕНИКС. Перевод А. Ибрагимова.
Былое не восстанет, словно феникс.
С трехбашенных небес уже не хлынет
Дождь золотой[30], отколдовал закат,
В тени деревьев усыплявший боль.
Но радость возвратится: по зарубкам
Отыщет путь обратный. Вспыхнет свет.
В знакомых жестах изольется пыл,
И ты во всем познаешь полноту.
Тогда-то, знай, любимая, конец
Беспечной пляске жаворонка в небе.
Волной тепла закончится весна,
И окоем отяжелеет хмурый.
Ты наливайся миротворной силой
И молча вместе с тучами расти.
Все вызрело — колосья и плоды.
Пришла пора — и ты затяжелела.
ВЫ, КТО АНГЛИЮ ЛЮБИТ. Перевод Г. Симановича.
Вы, кто Англию любит и не глух к ее музыке —
К медленному, умиротворенному шествию облаков,
К ясным ариям света, трепещущим над холмами ее
В сопровождении мирных аккордов лета;
К контрапункту листвы в резвом западном ветре,
К восхитительному аллегро цветов и реки
И к ударам меди из леса в декабрьской коде:
Слушайте! Слышите, как ворвалась и окрепла новая тема?
Вы, кто мчится в тандеме и в одиночку
По широким шоссе под апрельским солнцем
Или грустит над озерами, в которых лесистые склоны
Отражаются пламенем листьев — ваших надежд листопадом;
Бродяги и велосипедисты, неуемные экскурсанты,
Беженцы из богом проклятых дыр и нищих селений —
Знаю, вы ищете новую землю, вам нужен спаситель,
Чтоб утвердилось долгое братство и честь возродилась.
Вы, кто любит покой и домашний уют и счастлив уж тем,
Что птиц наблюдает, и может в крикет играть,
И может за всех беззаботно платить у буфетной стойки, —
Вы тоже бредете мимо покинутых мельниц и ветхих сараев,
Клейменных отчаяньем. Вы, с сердцами на мертвой точке, —
Ваш убыток тем больше, чем глубже сознанье беспомощности.
Мы вам откроем секрет, добавим чуточку тоника:
Подчинитесь грядущему ангелу, лекарю нового типа.
Но прежде всего вы, доведенные до крайности, жертвы
Безжалостной супермашины, говорящие «хватит», —
В креслах ли вы развалясь, себя, бессильных, осмеиваете,
Бережетесь ли голода, банд и шпионов,
Сшш копя, негодование сдерживая, —
Вам больше не нужно драться вслепую, враг перед вами.
В означенный час вы будете в первых рядах,
Вы, фонарщики силы, сварщики нового мира.
С КЕМ ВЫ, ПОЭТЫ ВОЙНЫ? Перевод Г. Симановича.
Они прибрали к своим рукам
Рынок, церковь и правосудье,
И подобрались к нашим стихам:
Пойте свободу, сыны словоблудья!
Логику эпохи надо учесть —
Для вечных строк не найдется темы.
И с грезами простились всё мы,
Чтоб хуже не было, чем есть.
КЛЕН И СУМАХ. Перевод И. Озеровой.
Клен и сумах вдвоем над осенью парят,
Взгляни: их письмена так ярко заалели, —
За эти изжелта-багровые недели
Из всех закатов ткут они земле наряд.
Вам, листья, кровь дана от целой жизни года.
Какой с востока плыл фламинговый восход!
Какой закат стекал по кронам целый год,
Чтоб в славу хрупкую одела вас природа.
И человек, как лист, однажды упадет,
Снаружи пепельный, внутри кровоточащий.
Осенний отсвет многоцветной чащи
Немыслим в тупике, где он конец найдет.
О, первозданный свет и небосклон в огне,
За всех, кто обречен, кричите вы во мне.
ВСЕ УШЛО. Перевод И. Озеровой.
Вот море высохло. И бедность обнажилась:
Песок, и якорь ржавый, и стекло;
Осадок прежних дней, когда светло
Пробиться радость сквозь сорняк решилась.
А море, слепо, словно свет жестокий,
Прощало мне прозренье. Сорняки —
Мои мгновенья, ум — солончаки,
Бесплоден плоти голос одинокий.
И время высохло, и призрачны приливы,
Ловлю натужно воздуха глоток…
Молю, чтобы вернулось море вспять,
Опять пусть будет добродетель лжива.
Нахлынь на мой иссушенный песок,
Чтоб жизнь иль смерть мне, как свободу, дать!
ЛУИС МАК-НИС.
Луис Мак-Нис (1907–1963). — Родился в Белфасте, в семье протестантского епископа; учился в Оксфордском университете. Входил в группу поэтов «оксфордской школы». Так же как Уистен X. Оден, участвовал на стороне республиканцев в гражданской войне в Испании.
Первый сборник, «Стихи», был издан в 1935 г. Как и Оден, писал сатиры, направленные против буржуазного общества; но в его сатирическихстихах чувствуется влияние элиотовского нигилизма. В одном из своих последних стихотворений, «Ист Коукер», Мак-Нис писал: «Мы лишь пытаемся научиться, как пользоваться словами. Остальное не наше дело».
ВОЛЫНКА. Перевод А. Сергеева.
Ни к чему нам карусели, ослики и ряженые,
Лучше дайте нам «роллс-ройс» и ход к замочной скважине.
У них трико из крепдешина, туфли из кожи питона,
На полу тигровая шкура, на стене голова бизона.
Джон Макдональд мертвеца запихнул под стол ногою,
А когда тот стал оживать, добил его кочергою,
Продал глаза его как сувениры, кровь разлил в бутыли
И выдал за виски, а кости себе оставил на гантели.
Ни к чему Гурджиев-йога, ни к чему Блаватская,
Лучше дайте юбку в таксо и растущую акцию.
Энн Макдугал пошла доить и по дороге увязла,
Прочухалась под граммофонные звуки старого венского вальса.
Ни к чему девичья гордость и бесплатные школы,
Лучше дайте шины «Данлого» и — черт латай проколы!
Лорд О’Фелпс орал на праздник, что он трезвей всех в мире,
А как начал считать свои ноги, насчитал четыре.
Миссис Кармайкл после родов объявила банкротство:
«Хватит шестерых, устала от перепроизводства».
Ни к чему политиканство, ни к чему газеты,
Лучше дайте маме пособье, а детишкам конфеты.
Вилли Меррей о банкноту порезался до крови
И замотал пораненный палец шкурой эйршпрской коровы.
Братец его преуспел в путину; что касается братца,
Так он улов свой выбросил в море, а сам пошел побираться.
Ни к чему «Селедка-Юнион», ни к чему Писание,
Лучше дайте пачку окурков, а то у нас руки не заняты.
Ни к чему нам стадионы, кино и прочие фокусы,
Ни к чему нам койки в деревне и глянцевитые фикусы.
Ни к чему обещанья партий, предвыборные песенки,
Лучше просиживать дома штаны и вешать шляпу на пенсию.
Все ни к чему, моя малышка, все ни к чему, мой светик,
Каждый день набиваешь мозоли, а деньги уносит ветер.
Барометр падает час от часу, падает год от году,
Поди разбей, проклятый барометр — не исправишь погоду.
ВОСКРЕСНОЕ УТРО. Перевод П. Грушко.
Вдруг с городского шоссе наплывает стайка нестройных нот,
Звуки, вильнув хвостами, как рыбки, уплывают за поворот,
И сердце твое забьется и скажет: «За руль!» Мелькают столбы,
И стелется воскресное утро ярмаркою судьбы.
Сочти этот день самоцелью и это Теперь назубок разучи,
В музыку облачись и до Хиндхема, словно пуля, домчи,
Режь виражи, отрывая колеса и обгоняя ветра,
Пока не поймаешь за краешек платья запыхавшееся Вчера,
Пока не вылущишь из Недели этот день, этот свет,
Похожий на небольшую вечность, на закованный в рифмы сонет.
Но что там стонет? Церковь отверзла восемь колоколов:
Устами смерти они неустанно тебе говорят без слов
О том, что ни музыка, ни движенье тебе уйти не дают
От будней, которые мало-помалу убивают тебя — и убьют.
УИСТЕН ХЬЮ ОДЕН.
Уистен Хью Оден (1907–1973). — Родился в Йорке, учился в Оксфорде; входил в группу поэтов «оксфордской школы». Во время гражданской войны в Испании Оден служил в санитарном батальоне республиканских войск. Первые стихи Одена были опубликованы в 30-е годы, именно тогда были созданы его лучшие, остросоциальные произведения (сб. «Стихи», 1930, «Ораторы», 1932, и поэма «Испания», 1937, переведенная на русский язык в 1938 г. М. Зенкевичем). В 1938 г. поэт переехал в США и в 1948 г. получил американское гражданство; в 1972 г. вернулся в Англию. В последних поэтических книгах Одена («О доме», 1965, «Город без стен», 1969, и «Послание крестнику и другие стихотворения», 1969) настойчиво звучит тема больного человека и больного мира, тема человеческого одиночества в «асфальтовой пустыне». Не приемля современного мира, поэт страдает от горького сознания невозможности что-либо в нем изменить.
ХВАЛА ИЗВЕСТНЯКУ. Перевод А. Сергеева.
Переменчивых нас постоянная ностальгия
Возвращает к известняку, ибо этот камень
Растворяется в море. Вот они, круглые склоны
С надземным запахом тмина, с подземной системой
Пещер и потоков; прислушайся, как повсюду
Кудахчут ручьи — и каждый свое озерко
Наполняет для рыб и свой овраг прорезает
На радость ящеркам и мотылькам; вглядись
В страну небольших расстояний и четких примет:
Ведь это же Мать-Земля — да и где еще может
Ее непослушный сын под солнцем на камне
Разлечься и знать, что его за грехи не разлюбят,
Ибо в этих грехах — половина его обаянья?
От крошащейся кромки до церковки на вершине,
От стоячей лужи до шумного водопада,
От голой поляны до чинного виноградника —
Один простодушный шаг, он по силам ребенку,
Который ласкается, кается или буянит,
Чтоб обратить на себя внимание старших.
Теперь взгляни на парней — как по двое, по трое
Они направляются в горы, порой рука об руку,
Но никогда, слава богу, не по-солдатски в ногу;
Как в полдень в тени на площади яростно спорят,
Хотя ничего неожиданного друг другу
Не могут сказать — как не могут себе представить
Божество, чей гнев упирается в принцип
И не смягчается ловкою поговоркой
Или доброй балладой: они привыкли считать,
Что камень податлив, и не шарахались в страхе
Перед вулканом, чью злобу не укротишь;
Счастливые уроженцы долин, где до цели
Легко дотянуться или дойти пешком,
Никогда они не видали бескрайней пустыни
Сквозь сетку самума и никогда не встречали
Ядовитых растений и насекомых в джунглях —
Да и что у нас может быть общего с этой жутью!
Другое дело сбившийся с толку парень,
Который сбывает фальшивые бриллианты,
Стал сутенером или пропил прекрасный тенор —
Такое может случиться с каждым из нас,
Кроме самых лучших и худших…
Не от того ли
Лучших и худших влечет неумеренный климат,
Где красота не лежит на поверхности, свет сокровенней,
А смысл жизни серьезней, чем пьяный пикник.
«Придите! — кричит гранит. — Как уклончив ваш юмор,
Как редок ваш поцелуй и как непременна гибель!»
(Кандидаты в святые тихонько уходят.) «Придите! —
Мурлыкают глина и галька. — На наших равнинах
Простор для армий, а реки ждут обузданья,
И рабы возведут вам величественные гробницы;
Податливо человечество, как податлива почва,
И планета и люди нуждаются в переустройстве».
(Кандидаты в Цезари громко хлопают дверью.)
Но самых отчаянных увлекал за собою
Древний холодный свободный зов океана:
«Я — одиночество, и ничего не требую
И ничего не сулю вам, кроме свободы;
Нет любви, есть только вражда и грусть».
Голоса говорили правду, мой милый, правду;
Этот край только кажется нашим прекрасным домом,
И покой его — не затишье Истории в точке,
Где все разрешилось однажды и навсегда.
Он — глухая провинция, связанная тоннелем
С большим деловитым миром и робко прелестная —
И это всё? Не совсем: каков бы он ни был,
Он соблюдает свой долг перед внешним миром,
Под сомнение ставя права Великих Столиц
И личную славу. Поэт, хвалимый за честность,
Ибо привык называть солнце солнцем,
А ум свой Загадкой, здесь в своей тарелке:
Массивные статуи не принимают его
Антимифологпческий миф; озорные мальчишки
Под черепичными переходами замка
Осаждают ученого сотней житейских вопросов
И соображений и этим корят за пристрастье
К отвлеченным аспектам Природы; я тоже слыхал
Такие упреки — за что и сколько, ты знаешь.
Не терять ни минуты, не отставать от ближних,
И ни в коем случае не походить на животных,
Которые лишь повторяют себя, ни на камень
И воду, о которых заранее все известно —
Вот суть Англиканской Обедни; она утешает
Музыкой (музыку можно слушать где хочешь),
Но нет в ней пищи для зренья и обонянья.
Если мы видим в смерти конечную данность,
Значит, мы молимся так, как надо; но если
Грехи отпустятся и мертвецы восстанут,
То преображение праха в живую радость
Невинных атлетов и многоруких фонтанов
Заставляет подумать подальше: блаженным будет
Безразлично, с какой колокольни на них посмотрят,
Ибо им утаивать нечего. Мой дорогой,
Не мне рассуждать, кто прав и что будет потом.
Но когда я пытаюсь представить любовь без изъяна
Или жизнь после смерти, я слышу одно струенье
Подземных потоков и вижу один известняк.
В МУЗЕЕ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ. Перевод П. Грушко.
На страданья у них был наметанный глаз.
Старые мастера! Как учтиво они замечали,
Где у человека болит, как это отзывается в нас,
Когда кто-то ест, отворяет окно или бродит в печали,
Как рядом со старцами, которые почтительно ждут
Божественного рождения, всегда есть дети,
Которые ничего не ждут, а строгают коньками пруд
У самой опушки, —
Художники эти
Знали — страшные муки идут своим чередом
В каком-нибудь закоулке, а рядом
Собаки ведут свою собачью жизнь, повсюду содом,
А лошадь истязателя спокойно трется о дерево задом.
В «Икаре» Брейгеля[31], в гибельный миг,
Все равнодушны, пахарь — словно незрячий:
Наверно, он слышал всплеск и отчаянный крик,
Но для него это не было смертельною неудачей, —
Под солнцем белели ноги, уходя в зеленое лоно
Воды, а легкий корабль, с которого не могли
Не видеть, как мальчик падает с небосклона,
Был занят плаваньем, все дальше уплывал от земли.
РОМАНИСТ. Перевод Э. Шустера.
Затянутых в талант, как в вицмундиры,
Поэтов по ранжиру ставим мы;
Одни корпят, заброшенны и сиры,
Другие вдруг напьются сулемы,
А третьи мчат, как лихачи-гусары.
Ну а тебе бороться предстоит
С правдивостью и со свободой дара,
Чтоб обрести для нас привычный вид.
Во имя этого придется скуку
Впитать тебе, и суше стать стократ,
Лжеправедности изучить науку,
Воспеть разврат, когда того хотят,
И мучаться, как от сердечной боли,
За выпавшие нам свинячьи роли.
ПАМЯТИ ЙЕЙТСА. (Скончался в январе 1939 года). Перевод А. Эппеля.
I.
Он исчез в тусклой стуже:
Оцепенели реки, опустели аэропорты,
Снег исказил статуи,
Ртуть падала во рту блекнувшего дня.
О, вся метеорология согласна —
День этой смерти был тусклым холодным днем.
Далеко от его умиранья
Волки продолжали бегать по лесам.
Сельскую речку не обольстили тонные парапеты.
Глаголы траура
Не пустили в строки смерть.
А для него был последний полдень самого себя,
Полдень санитарок и шепотов;
Окраины тела взбунтовались,
Перекрестки разума пустовали,
Предместья обезголосило молчанье,
Родники чувств иссякли;
Он воплотился в своих почитателей.
И вот, разбросанный по сотням городов,
Он без остатка отдан незнакомым чувствам,
Дабы обрести счастье в иных лесах
И расплачиваться по законам чужой совести.
Слова умершего
Пресуществляются в живущем.
Но в значительном и галдящем завтра,
Где рычит биржевик,
А бедняк притерпелся к бедности,
И в одиночке своего «я» всякий почти убежден
В собственной свободе,
Несколько тысяч не забудут этот день,
Как не забываешь день, в который совершил необычное.
О, вся метеорология согласна —
День этой смерти был тусклым холодным днем.
II.
Ты глупым был, как все; всё пережил твой дар:
Тщету богатых женщин, тебя, твое старенье,
Тебя до стихотворства довела безумная Ирландия.
Сейчас в Ирландии бред и погода те же —
Поэзия ничто не изменяет, поэзия живет
В долинах слов своих; практические люди
Ею не озабочены; течет на юг, чиста,
Она от ранчо одиночеств и печалей
До стылых городов, где веруем и умираем мы, и выживает
Сама — событье и сама — уста.
III.
Отворяй врата, погост, —
Вильям Йейтс — почетный гость!
Бесстиховно в твой приют
Лег Ирландии сосуд.
Время, коему претит
Смелых и невинных вид,
Краткий положив предел
Совершенству в мире тел,
Речь боготворя, простит
Тех лишь, в ком себя же длит;
Трус ли, гордый ли — у ног
Полагает им венок.
Время, коим был взращен
Редьярд Киплинг[32] и прощен —
И Клоделю[33] все простит,
Ибо слог боготворит.
Лают в европейский мрак
Своры тамошних собак,
Всякий сущий там народ
Злобу сеет — горе жнет.
Объявляет каждый взор
Свой мыслительный позор.
Реки жалости в слезах
Заморожены в глазах.
Пой, поэт, с тобой, поэт,
В бездну ночи сходит свет.
Голос дерзко возвышай,
Утверди и утешай.
Обрабатывая стих,
Пой злосчастья малых сих,
Пестуй на проклятье их
Вертоград в строках своих.
Пусть иссохшие сердца
Напоит родник творца,
Ты в темнице их же дней
Обучай хвале людей.
1 СЕНТЯБРЯ 1939 ГОДА. Перевод А. Сергеева.
Я сижу в забегаловке
На Пятьдесят Второй
Улице; в зыбком свете
Гибнут надежды умников
Позорного десятилетия:
Волны злобы и страха
Плывут над светлой землей,
Над затемненной землей,
Поглощая личные жизни;
Тошнотворным запахом смерти
Оскорблен вечерний покой.
Пунктуальный ученый может
Перечислить наши грехи
От лютеровских времен
До наших времен, когда
Европа сошла с ума;
Наглядно покажет он,
Из какой личинки возрос
Шизофреничный бог:
С букварем в сознанье вошло,
Что тот, кому делают зло,
Сам причиняет зло.
Уже изгой Фукидид[34]
Знал все наборы слов
О демократии
И все тиранов пути,
И весь этот ветхий вздор,
Рассчитанный на мертвецов.
Он сумел рассказать,
Как гонят науку прочь,
Привычкой становится боль
И беззаконьем закон.
И все предстоит опять.
В этот нейтральный воздух,
Где небоскребы всею
Своей высотой утверждают
Величье Простых людей,
Радио тщетно вливает
Бессильные оправдания.
Но кто еще может жить
Мечтою о процветании,
Когда в окно сквозь стекло
Виден империализм
И международное зло?
Люди за стойкой стремятся
По-заведенному жить:
Джаз должен вечно играть,
А лампы вечно светить.
На конференциях тщатся
Обставить мебелью доты,
Придать им сходство с жильем,
Чтобы мы, несчастные дети,
Страшащиеся темноты,
Брели в нечистом лесу
И не знали, куда бредем.
Воинственная чепуха
Из уст Высоких персон
В нашей крови жива,
Как первородный грех.
То, что безумец Нижинский[35]
О Дягилеве[36] сказал,
В общем, верно для всех:
Каждое существо
Стремится к недостижимому,
Желает не всех любить,
Но чтоб все любили его.
Владельцы сезонных билетов,
Из консервативного мрака
Пробуждаясь к моральной жизни,
Клянутся себе поутру:
«Я буду верен жене,
И все пойдет по-иному».
Просыпаясь, вступают вояки
В навязанную игру.
Но кто поможет владыкам?
Кто заговорит за немого?
Кто скажет правду глухому?
Мне дарован язык,
Чтобы избавить от пут,
От романтической лжи
Мозг человека в толпе,
От лжи бессильных Властей,
Чьи здания небо скребут.
На свете нет Государств,
В одиночку не уцелеть.
Горе сравняло всех;
Выбор у нас один —
Любить или умереть.
В глупости и в ночи
Мир беззащитный погряз;
Мечутся азбукой Морзе,
Пляшут во тьме лучи —
Вершители и Справедливцы
Шлют друг другу послания.
Я, как и все, порождение
Эроса и земли,
В отчаянье всеотрицания —
О, если бы я сумел
Вспыхнуть огнем утверждения!
ЩИТ АХИЛЛА. Перевод П. Грушко.
Он ладит щит, а она глядит,
Надеясь узреть на нем виноград,
И паруса на дикой волне,
И беломраморный мирный град,
Но на слепящий глаза металл
Его искусная длань нанесла
Просторы, выжженные дотла,
И небо, серое, как зола…
Погасшая земля, где ни воды,
Ни трав и ни намека на селенье,
Где не на чем присесть и нет еды,
И все же в этом сонном запустенье
Виднелись люди, смутные, как тени,
Строй бесконечных башмаков и глаз,
Пустых, пока не прозвучал приказ.
Безликий голос — свыше — утверждал,
Что цель была оправданно законной,
Он цифры приводил и убеждал,
Жужжа над ухом мухой монотонной, —
Взбивая пыль, колонна за колонной
Пошла вперед, пьянея от тирад,
Чья логика была дорогой в ад.
Она глядит, как он ладит щит,
Надеясь узреть священный обряд,
Пиршество и приношение жертв, —
Нежных, увитых цветами телят, —
Но на слепящий глаза металл
Длань его не алтарь нанесла:
В отсветах горна видит она
Другие сцены, иные дела…
Колючей проволокой обнесен
Какой-то плац, где зубоскалят судьи,
Стоит жара, потеет гарнизон,
Встав поудобнее, со всех сторон
На плац досужие глазеют люди,
А там у трех столбов стоят, бледны,
Три узника — они обречены.
То, чем разумен мир и чем велик,
В чужих руках отныне находилось,
Не ждало помощи в последний миг
И не надеялось на божью милость,
Но то, с каким усердием глумилась
Толпа над унижением троих, —
Еще до смерти умертвило их.
Она глядит, как он ладит щит,
Надеясь атлетов узреть на нем,
Гибких плясуний и плясунов,
Кружащихся перед священным огнем, —
Но на слепящий глаза металл
Легким мановеньем руки
Он не пляшущих поместил,
А поле, где пляшут лишь сорняки…
Оборвыш камнем запустил в птенца
И двинул дальше… То, что в мире этом
Насилуют и могут два юнца
Прирезать старца, — не было секретом
Для сорванца, кому грозил кастетом
Мир, где обещанному грош цена
И помощь тем, кто немощен, смешна.
Тонкогубый умелец Гефест[37]
Вынес из кузни Ахиллов щит.
Фетида[38], прекрасногрудая мать,
Руки к небу воздев, скорбит,
Увидев, что оружейник Гефест
Выковал сыну ее для войны:
Многих сразит жестокий Ахилл,
Но дни его уже сочтены.
СЛОВА. Перевод Э. Шустера.
Из фразы совершенный мир творится,
Где непреложность слова есть закон;
Мы верим в то, что кем-то говорится:
Для лживых слов не создано имен.
Да, синтаксисом не поверишь лица;
Нельзя из фразы сделать только фон,
Поэтому для нас и небылица —
Не просто в ухе неотвязный звон.
И странно ли, что даже факты мнимы,
Когда хватает нам словесных грез;
Не плетью ли глагола мы гонимы,
Когда нам ритм такой восторг принес?
Так Рыцарю достанет пантомимы
Взамен ответа на его вопрос.
ДЖОРДЖ БАРКЕР.
Джордж Баркер (род. в 1913 г.). — Родился в Лоутоне (Узссекс). Окончил политехническое училище. Литературное образование получил самоучкой. Преподавал историю английской литературы в университете. Некоторое время жил в Японии и США.
Джордж Баркер пишет стихи на предельном накале эмоций, отметающем даже мысль об образной и ритмической упорядоченности стиха; при этом, как бы борясь с самим собой, поэт иногда обращается к строгой форме сонета. Опираясь отчасти на опыт Д. Баркера, поэта раскованных чувств, поэтическая группа «Неклейменые» выступила в 50-е годы с тезисом о том, что личность поэта, его переживания имеют первичное значение для творчества.
Среди поэтических сборников Баркера — «Стихи» (1935), «Плач и триумф» (1940), «Сны в летнюю ночь» (1966), «Золотые цепи» (1968). Его ведущие темы — любовь, страдание, призвание человека и поэта.
На русском языке стихи Д. Баркера печатаются впервые.
ОТЦУ ДЖЕРАРДУ МЭНЛИ ХОПКИНСУ[39], С. ДЖ. Перевод А. Ларина.
[39].
Крыльями в небе лепя огневые глаголы
В чаше молчания, бредя кровавым грядущим,
Перья закатные вечно роняет он долу
И красоту помещает в покойном и жгущем,
Звучном дыхании слова — как птица простершем
Когти над миром, его до утробы пекущим,
Чудо вступает в стихи оглушительным маршем,
Овладевая скопцом-стихотворцем летящим.
Отче отчаянных — этих, кто множит воочию
Славу глагола, взываю от имени клана,
Что унаследовал разве что долю величия:
О новобранец, взгляни из небесного стана
И укажи, кто тобою, счастливец, избран
Евангелистом высокого косноязычия.
МОЕЙ МАТЕРИ. Перевод А. Ибрагимова.
Всех ближе, всех дороже — и всех дальше,
Она сидела, чуть навеселе,
И хохотала — горная вершина
В гудении сейсмических толчков.
В ней не было ни капли зла и фальши.
Могучим обаянием Рабле
Она влекла сердца неудержимо,
Как звуки марша — уличных щенков.
Над головой ее — бомбардировщик,
Но ей как будто и не слышен рев —
Застыла, над столом нависнув круто.
Опять, свои сомненья поборовши,
Я верю: сбросив траурный покров,
Она войдет в сияющее утро.
ЛЕТНЯЯ ИДИЛЛИЯ. Перевод И. Озеровой.
К исходу лета на сносях земля
От тяжести склоняет ветви книзу,
Скрыв глубоко живую сладость соков,
Она цветы выносит напоказ и золото,
Усердно маскируя свой тайный сговор…
Под покровом соков
Покоится холодная зима,
Покоится, произрастая, голод,
Вмороженный в початки кукурузы.
Под щедрым изобильем — обнищанье,
И бедность, как богатство, клонит книзу
Тугие ветви, и нужда — зерно.
Их облачи в великолепье лета и вкось
Проникни в кость, иль во владеньях
Весны ты ими овладей; под грудью
Пространство пустоты, как пустоцвет, как призрак
Порочного цветка — размах нужды, ее давленье
На зеницы духа, на существо
Бездеятельных тел, давленье
На их передвиженье и на осуществление любви,
Давление на жизнь, как в бездне моря,
Становится порою нестерпимым,
Хотя его обязаны стерпеть.
Едва ослабит лето на мгновенье
Давленье это, многие встают
И плещутся в реке или под вечер
Спешат к увеселеньям, как в крольчатник,
Рассыпанные в парке, как бумажки,
Купаются в поту, как комары,
А позже блуду предаются в спешке,
Гонимы сторожем и полицейским, они играют,
Как и я, мечтая об отдыхе, достатке, чистоте.
Сады, как начинающие шлюхи,
Регалии сезона выставляют,
Когда их овевает смутный запах,
Манящий чистотой и красотой
Мужчин, в кораллах светлых утонувших.
Не только женщин обнажает лето, —
Снимает пиджаки и полуголых
Мужчин пускает в лодках по реке,
Влача их пальцы по воде тенистой;
Они спешат покорно за рекой,
Сквозь тени волн выслеживают руку,
Которой незачем искать свой берег.
Лицо в воде — как яблоко гнилое.
Соборы и строительные фирмы
С их появленьем рушатся. Все громче
Бетховена играют, чтобы эхо
Сумело в звуках утопить Уэльс,
И ветер лета Средиземноморья,
Как лебедь, белоснежный лебедь плыл.
ДИЛАН ТОМАС.
Дилан Томас (1914–1953). — Родился и получил образование в Суонси; работал репортером. В 1934 г. вышла в свет первая книга Д. Томаса — «18 стихотворений». Уже здесь наметились темы, к которым поэт будет возвращаться в течение всей своей жизни: философское осмысление бытия, миф об Адаме, созидающее слово. Подлинный демократизм творчества Д. Томаса, утверждение им жизни как величайшего блага сделали его ведущим поэтом 40-х годов. Его выступления по радио во время второй мировой войны пользовались чрезвычайной популярностью. После войны он стал одним из создателей Английского объединения писателей в защиту мира. Поэт сложных образов и конструкций, Д. Томас много экспериментировал в области стихосложения. Для него характерен эмоционально и образно насыщенный, интонационно напряженный стих. В целом творчество Д. Томаса как «поэзия чувства» обычно противопоставляется «интеллектуальной поэзии» Т.-С. Элиота. В 1946 г. вышел в свет сборник стихов «Смерти и рождения», написанных в основном в годы войны; затем последовали «Портрет художника как молодой собаки» (1950) и «Избранные стихи» (1952), куда Д. Томас включил восемьдесят девять лучших своих стихотворений.
На русском языке стихи Д. Томаса печатаются впервые.
ОТ АВТОРА[40]. Перевод А. Сергеева.
[40].
Этот день подходит к концу,
А господь погоняет лето
В лососевом струенье солнца,
В моем потрясенном прибоем
Доме на сколах скал,
Перемешанных с птичьим пеньем,
Плавниками, плодами, пеной,
Перед прыткой подковой леса,
Над песками мокрых медуз
И вдовьих рыбацких крестов,
Над чайками и парусами,
Где люди, черней ворон,
Опускаются на колени,
С облаками в обнимку тянут
Сети заката, а цапли
И гуси почти в небе,
И мальчишки кричат, и ракушки
Говорят о семи морях,
Вечных водах вдали
От девятидневной ночи
Городов, чьи башни взметутся
Под ветхозаветным ветром,
Словно стебли сухой соломы, —
В моем непокойном доме
Я пою для вас, посторонних.
(Хотя песня жжется, вздымает
Мои косолапые звуки,
Как пламя птиц — повернувшийся
К осени лес мирозданья).
Я пою по хрупким листкам
С отпечатками пальцев моря —
Листки эти скоро сорвутся,
Опадут, как листва с деревьев,
Рассыплются и пожухнут
Ночью на черный день.
В море всосан лосось,
Соскользнуло солнце, немые
Лебеди бьют синеву
В исклеванных сумерках бухты,
А я сшиваю бессвязные
Явленья, и вы узнайте,
Что я, переменчивый я,
Славлю звезду, оглушенную
Чайками, морем рожденную,
Истерзанную человеком,
Благословленную кровью.
Вслушайтесь: это же мой
Голос у рыб и обрывов!
Всмотритесь: это же я
Сочиняю мычащий ковчег
Для врученного мне Уэльса —
Белые, словно овцы,
Покорные фермы готовы
Погрузиться в ревущие воды,
Ибо красная ярость и страх
Растопила льды на горах.
Эй, забившиеся под своды
Властные гулкие совы,
Лучи ваших лунных глаз
Озаряют загоны, пронзают
Поросших покоем предков!
Эй, нахохленный голубь,
В сумраке темный, почти
Как наш валлийский язык
Или почтительный грач,
С ветвей твое воркованье,
Голубой колобродящий голос
Тоже слава лесам
Для севших в лугах бекасов!
Эй. щебечущий мир,
Разинувший клювы от страха
По осажденным отрогам!
Эй, вбежавший в пятнистый
Свет на седле пригорка
Прыткий заяц, ты слышишь
Гул корабельной стройки,
Топор мой, пилу и молот?
(Песня моя — бессвязный
Грохот и визг, язык мой —
Трухлявый гриб-дождевик).
Но на изломах мира
Звери глупы и глухи
(Хвала звериной природе!).
И спят глубоко и чутко
В лесах по хребтам холмов!
Скирды ферм под напором
Потоков сбиваются в стаи,
Кудахчут, на крышах амбаров
Петухи кричат о войне!
О соседи мои с опереньем,
Плавниками и мехом, спешите
В мой лоскутный ковчег,
Ко мне, безумному Ною:
В глубине колокольца овец
И колокола церквей
Возвещают худой мир,
А солнце садится, и тени
Выстилают мои святыни.
Мы пустимся в путь одни
И вдруг под звездами Уэльса
Увидим кочевья ковчегов!
Над землей, покрытой водой,
Направляемые любовью
От горы к горе поплывут
Деревянные острова.
Смелей, путеводный голубь!
Вы стали морскими волками,
Синица, лиса и мышь!
Ковчег мой поет на закате,
А господь погоняет лето,
И потоп до конца процвел.
* * *
«Особенно когда октябрьский ветер…». Перевод А. Сергеева.
Особенно когда октябрьский ветер
Мне в волосы запустит пятерню,
И солнце крабом, и земля в огне,
И крабом тень моя легла на берег. —
Под перекличку птичьих голосов
И кашель ворона на палках голых
По жилам сердце деловито гонит
Ямбическую кровь, лишаясь слов.
Вон женщины во весь шумливый рост
Идут по горизонту, как деревья,
Вон бегают по перелеску дети,
В движении похожие на звезд.
Я создаю тебя из гулких буков,
Из шелеста дубов, осенних чар,
Корней боярышника, хмурых гор,
В прибое создаю тебя из звуков.
Над парком беспокойный циферблат;
Часы толкуют время, славят утро
И флюгеру о направленье ветра
Колючими словами говорят.
Я создаю тебя из дольних вздохов.
Трава пророчит: все, что я постиг,
Покроет мокрый изъязвленный снег.
Но ты вдали от злых вороньих криков.
Особенно когда октябрьский ветер
(Я создаю тебя в канун зимы,
Когда гремят валлийские холмы)
Молотит кулаками репы берег,
Я создаю из бессердечных слов
Тебя — сердечных сердцу не хватило.
Химическая кровь мне полнит жилы.
На взморье. Среди птичьих голосов.
ЗАЧЕМ ПРОХЛАДОЙ ВЕЕТ ЮГ. Перевод Арк. Штейнберга.
Зачем прохладой веет Юг,
А льдом Восток? Нам невдомек,
Пока не истощен исток
Ветров, и Запад ветровой
Всех осеней плоды несет
И кожуру плодов.
Дитя твердит: «Зачем шелка
Мягки, а камни так остры?»
Но дождь ночной и сердца кровь
Его поят и темный шлют ответ.
А дети, молвя: «Где же Дед Мороз?» —
Сжимают ли кометы в кулачках? —
Сожмут, когда ребята полуспят,
Кометы сном пыльнут в глаза ребят,
И души их зареют в полутьме, —
Тут ясный отзвучит ответ с горбатых крыш.
Все ясно. Звезды нас порой
Зовут сопутствовать ветрам,
Хоть этот зов, покуда звездный рой
Вокруг небесных башен держит путь,
Чуть слышен до захода звезд.
Я слышу лад, и «жить в ладу»,
Как школьный колокольчик дребезжит,
«Ответа нет», и у меня
Ответа нет на детский крик,
На отзвук эха, и Снеговика,
И призрачных комет в ребячьих кулачках.
РУКА, ПОДПИСАВШАЯ УКАЗ. Перевод П. Грушко.
Рука, подписав указ, отправила город в ад.
Пятивластие пальцев обложило данью кадык,
Удвоило мир умерших, вдвое уменьшив народ.
От пяти владык не уйдет ни один из владык.
Крутая рука завершается покатым плечом,
Белее мела суставы сжатой руки.
Гусиное перышко велит приостыть палачам,
Которые остудили горячие языки.
Рука, подписав декрет, посеяла ужас и злость,
Наладила голод и саранчу призвала.
Воистину велика рука, у которой есть власть
Вымарывать имена, озаглавливающие тела.
Пять владык отпустили грехи мертвецам,
Но не врачуют язв, не утешают сирот.
Рука заведует милостью, соперничая с творцом.
Но рука без глаз — и слез не прольет.
НЕ УХОДИ БЕЗ СЛОВ ВО МРАК НОЧНОЙ[41]. Перевод О. Чугай.
[41].
Не уходи без слов во мрак ночной —
Ты должен вспыхнуть в пламени заката,
Восстать над неизбежной темнотой!
Мудрец поймет, что бесполезен бой,
Что крик — не вспышка молнии крылатой,
Но не уйдет без слов во мрак ночной.
И праведник с последнею волной
Покинет свой залив зеленоватый,
Восстав над неизбежной темнотой!
Дикарь, поющий солнцу гимн земной,
Так поздно узнаёт, что нет возврата.
Но не сойдет без слов во мрак ночной!
Пусть каждому достался жребий свой —
Великие уходят, но тогда-то
Горит их взор падучею звездой.
Там, в вышине, слезами удостой
Меня, отец мой — горькая утрата, —
Не уходи без слов во мрак ночной,
Восстань над неизбежной темнотой!
СМЕРТЬ УТРАТИТ ВЛАСТЬ НАД ВСЕЛЕННОЙ. Перевод Арк. Штейнберга.
Смерть утратит власть над вселенной.
Станут голые трупы плотью одной
С человеком ветра и закатной луной,
Оголятся их кости, претворясь в перегной,
Рядом с ними звезды затеплятся въявь,
К ним, безумным, вернется разум иной,
Утонувшие снова всплывут над волной;
Хоть любовников нет — сохранится любовь.
Смерть утратит власть над вселенной.
Смерть утратит власть над вселенной.
Они не умрут, прозябая на дне,
Под зыбью морей неисчетные дни;
Корчась на дыбе, на колесе,
Не струсят, хоть жилы ослабнут все.
Вера в их треснет руках пополам,
Носорожье зло их боднет на излом,
Но, расщепясь, уцелеют они.
Смерть утратит власть над вселенной.
Смерть утратит власть над вселенной.
Чайки в уши им больше кричать не должны,
Могут стихнуть отныне вопли волны,
И не надо цветку, что расцвел весной,
Подставлять свой венчик под дождь проливной.
Пусть безумны они и мертвы как бревно,
Но, гремя сквозь ромашки, их черепа
Рвутся к солнцу, пока не взорвалось оно.
Смерть утратит власть над вселенной.
СТИХИ В ОКТЯБРЕ. Перевод А. Сергеева.
Под небом мой год тридцатый
Пробудился в звуках от моря до ближнего леса,
От ракушек в пруду до цапли
На дюнах,
А утро звало —
Хоралами волн и чаек пронзительной песней,
И стуками парусных лодок о мшистую пристань
В ту же секунду
Покинуть
Еще не проснувшийся город.
Вместе с птицами певчими
Птицы крылатых деревьев несли мое имя
Над лошадьми и фермами,
И в осенний
Мой день рождения
Все былые дни на меня низвергались ливнем.
Цапля ныряла в приливе, когда я вышел.
Городок пробудился,
За мною
Ворота его затворились.
Стая жаворонков в бегущей
Туче, и в кустах придорожных посвист
Дроздов, и почти июльское
Солнце
На плече холма.
Вешний воздух и звонкое пенье нежданно
Влились в утро, в котором бродил я и слушал
Шум дождя
И в дальнем
Лесу завыванье осени.
Бледный дождь над заливом
И над морем церковь размером с улитку —
Рожки пронзают туман,
Домик
Сереет, как филин.
Сады же весны и лета цвели небылицей
За горизонтом, под облаком, полным птиц.
Наверно, туда
Уходил
Мой день рожденья, но вдруг —
В край мой из стран блаженных,
Освежая природу и проясняя небо,
Повеяло чудом лета,
Смородиной,
Грушами, яблоками.
И на склоне года я вдруг увидел ребенка,
Который забытым утром шагает с матерью
Сквозь светлые сказки
Солнца
В легендах зеленого храма,
По детству дважды родному.
И детские слезы текли по моим щекам.
Этот лес и река, и море —
Такие же,
Как тогда,
Когда я мальчишкой в затишье летнего зноя
Поверял свою радость камням, деревьям и рыбам,
И пели тайны
Живые,
Пели птицы и волны.
И там был мой день рожденья.
Но погода менялась всерьез, и ожившая радость
Давно ушедшего детства
Запела
В сиянье солнца.
Стал летним полднем тридцатый мой год под небом,
Хотя городок внизу обагрялся кровью октябрьской.
Пусть же сердце
С холма
Поет на границе года.
ГОРБУН В ПАРКЕ. Перевод М. Зенкевича.
Горбун по парку,
Одинокий сторож,
Среди деревьев бродит, озабочен
С утра, когда откроют доступ
К деревьям и воде, и вплоть до ночи,
Когда звонок закончит день неяркий.
Он черствый хлеб ест на газете просто
И воду пьет из кружки на цепи,
В нее швыряют дети гравий,
Пьет из бассейна, где плывет кораблик,
А ночью в конуре собачьей спит,
Хоть привязать его никто не вправе.
Он рано просыпается, как зяблик,
Как озеро, спокоен на рассвете.
«Эй ты, горбун!» — кричат на дню сто раз
Безжалостные городские дети
И прочь бегут, когда он крик услышит,
Их топот — дальше, тише…
Дразня его и скрючив спину тоже,
Как будто с горбунами схожи,
Они бегут оравой голосистой
Среди зеленого простора,
И, отложив газету, сторож
Железной палкой подбирает листья.
Ночлежник конуры бредет быстрей
Средь нянек и озерных лебедей,
А дети убегают виновато
И с камня прыгают на камень,
Блестя глазами, как тигрята,
А рощицы синеют моряками.
Когда же опустеют все аллеи,
Там мраморная женщина, белея,
Встает перед фонтаном в темноте,
Показывая камня превосходство.
Как будто выпрямив горба уродство,
Она сияет в стройной наготе.
А все деревья запертого сада,
Скамейки, пруд, запоры и ограда,
Вся детвора, вопившая так дико,
Невинная, в цвету, как земляника, —
Все возникает перед горбуном
В собачьей конуре неясным сном.
СРЕДИ ЖЕРТВ УТРЕННЕГО НАЛЕТА БЫЛ СТОЛЕТНИЙ СТАРИК[42]. Перевод А. Сергеева.
[42].
Когда утро едва забрезжило над войной,
Он встал, оделся, из комнаты вышел и умер.
Взрывной волной все двери в домах распахнуло.
Он рухнул на камни, на свой разбитый паркет.
Пусть любимая улочка с траурной черной каймой
Знает, что здесь он на миг задержал рассвет,
Что глаза его были весенние почки и пламя,
Когда со звоном ключи из замков вылетали.
Не ищите обломков жизни в седом его сердце,
Не ждите звона лопаты — уже несется
Небесная «скорая помощь», влекомая смертью.
О, спасите его от этой пошлой кареты!
Утро парит на крыльях его столетья,
И сотня аистов села на руку солнца.
ЖАЛОБА. Перевод Арк. Штейнберга.
Я был мальчишкой, вдобавок плутом,
II черным прутом от церковных врат
(Старый шомпол вздохнул, подыхая по бабам).
На пальцах я крался в крыжовенных чащах;
Как болтунья-сорока, вопил пугач.
И, завидя девочек, обруч катящих
По ослиным выгонам, плавным ухабам,
Я краснел как кумач и пускался вскачь,
А в качельных, воскресных ночах на лугу
Всю луну лобызал мой растленный взгляд.
Эти жены-малютки, — на кой мне ляд!
Их, поросших листвой, я покинуть могу
В смольно-черных кустах, и пускай скулят!
Я стал ветрогоном, притом — вдвойне,
И черным зверюгой церковных скамей
(Старый шомпол вздохнул, подыхая по сукам).
Не тем пострелом, прильнувшим к луне
Фитильной, но пьяным телком, и мой
Свист всю ночь звучал в дымоходах вертлявых,
Городские кровати взывали ко мне,
Повитухи росли в полночных канавах,
И кого бы ни щупал пьяный телок,
Где б ни буйствовал на травяной простыне,
Что б ни делал бы в смольно-черной ночи, —
Мой трепетный след повсюду пролег.
Мужчиной заправским стал я потом
И черным крестом во храме святом
(Старый шомпол вздохнул, без подруг погибая).
Бренди в расцвете! Я пышно басил;
Нет, не котом с весенним хвостом,
Чья мышь — кипятковая баба любая,
Но бугристым быком, преисполненным сил,
В благодатное лето, в полдневный зной,
Средь пахучих стад. Поостыла вполне
Кровь моя; для чего угодно я мог
Лечь в постель, и хватало этого мне,
Черной, прочной моей душе смоляной.
Я полумужчиной стал поделом,
Как священники остерегали в былом
(Старый шомпол вздохнул над плачевным итогом).
Не телком на цепи, не весенним котом,
Не сельским быком в травостое густом,
Но черным бараном с обломанным рогом.
Из мышьей зловонной норы взвилась
Моя кривляка-душа, и вот
Я дал ей незрячий, исхлестанный глаз,
Клячи сопатой шкуру и стать
И в смольно-черный нырнул небосвод,
Чтоб женскую душу в жены поять.
Ничуть не мужчина я ныне, отнюдь,
Черной казнью плачу за ревущий мой путь
(Старый шомпол вздохнул о неведомой деве).
Окаянный, опрятный, прозрачный, лежу
В голубятне, слушая трезвый трезвон;
В смольно-черном небе душа обрела
Наконец-то жену с ангелочками в чреве!
Этих гарпий она от меня родила.
Благочестье молитвы творит надо мной,
Небеса черный вздох мой последний блюдут,
Мои чресла невинность укрыла в крыла,
Все тлетворные добродетели тут
Мой конец отравляют мукой чумной.
ТЕД ХЬЮЗ.
Тед Хьюз (род. в 1930 г.). — Родился в Йоркшире, учился в Кембриджском университете. В 1957 г. вышла в свет первая книга его стихов, «Ястреб под дождем», удостоенная премий Нью-Йоркского поэтического центра и Сомерсета Моэма. В произведениях Теда Хьюза прослеживается связь творчеством Д.-Г. Лоуренса и Д. Томаса. Поэт воспринимает жизнь как аотическое нагромождение темных сил, которому противостоит разумная воля человека.
Тед Хьюз много работает также в области детской литературы.
На русском языке стихи Теда Хьюза печатаются впервые.
НОЯБРЬ. Перевод А. Кистяковского.
Месяц утошпего пса. От ливней, под прелью полей,
Земля пропиталась водой, как трясинная мель
С аллеей железных лесин, но без птиц. На тропе
В канаве ярился ручей,
Глухо молчавший все лето. Лишь он да мои сапоги,
Шорохом жухлой листвы по каменьям тропы,
Разрушали навес тишины над вершиной холма.
Серебрились дождинки на сучьях,
Туманясь быстрее, чем день.
У ручья, возле самой воды, притулился бродяга:
Он спрятал лицо в бороде, утопил в волосах,
Как еж. Я думал, он мертв.
Но спокойствие покойных полей
Было полнее, глубже. Дохнул ледяной ветер,
Притерпевшийся бродяга засунул
Руки — навстречу друг дружке — дальше в рукава пиджака!
Почесал, одна о другую, ноги в лохматых обмотках
Из драной дерюги — и замер. Ветер внезапно окреп,
Осушил дождинки на сучьях,
И сейчас же секущие струи
Стерли очертания фермы.
Поля, туманясь, запрыгали. Черные сучья
Мелко затряслись под ударами стеклянных хлыстов.
А я все так же стоял на стылом ветру,
Глядя, как блестки дождинок бегут по лицу
Спящего. Видимо, очень глубокая вера
Мирно спала в нем — спали немые поля,
Корни, обнявшие душную влажную тьму,
Камни, готовые вынести тяжесть зимы,
Заяц, припавший к земле на вершине холма…
Дождь зачеканил почву до серого блеска свинца, —
Я побежал, и навстречу мне ринулся лес,
И тут я, скрытый от неба дубом, перевел дух.
Хранитель леса повесил соек и сов,
В силках висели ласки, коты, кроты:
Одни — невесомые, словно куски коры,
Другие — гордые формой и весом тел, —
Висели, надеясь дождаться хороших дней,
Под ливнем, склеившим перья и шерсть голов
И лениво каплющим с ног на умерший мох.
ПЕСНЯ БЫТИЯ. Перевод Л. Володарской.
Где-то когда-то
Жил некто
В погоне за жизнью.
Такая судьба.
Тяжкая судьба.
Судьба есть Судьба.
Вечная отчаянная гонка.
И первое сомненье: Судьба?
И первые вопросы:
Кто я? Зачем?
Неужели только
Картонный заяц[43] на игровом поле?
Наконец он решился.
Не быть дураком.
Ему достанет сил.
Да, он сможет.
Да. Да. Он скажет себе: стоп.
Смерть! Смерть
Выбившемуся
Из гонки.
Простор! И
Тишина безлюдья
В центре пустыни.
Он был один.
Не видя никого
К западу, востоку, северу и югу,
Он поднял кулаки
И, рассмеявшись в злобной радости,
Замахнулся на вселенную.
Но кулаков не стало.
Но рук не стало.
Но ног не стало, чуть он пошатнулся.
Пришел запоздалый ответ —
Собаки рвали его на части:
Он был
Картонным зайцем на игровом поле,
А жизнью владели собаки.
ФИЛИП ЛАРКИН.
Филип Ларкин (род. в 1922 г.). — Родился в Ковентри; выпускник Оксфордского университета. Печататься начал после второй мировой войны (сб. стихов «Северный корабль», 1945). Ф. Ларкин — участник антологии «Новые строки» (1956), авторы которой назвали себя «Поэтами Движения». Они ратовали за рациональность поэтического мышления, которая должна шла освободить поэзию от метафорического перенасыщения и эмоциональной необузданности, характерных для творчества послевоенных последователей Дилана Томаса.
На русском языке стихи Ф. Ларкина печатаются впервые.
ЛЕГЕНДА О ТРЕХ КОРАБЛЯХ. Перевод Р. Дубровкина.
Я видел, утром вышли в море
Три корабля и по волнам
Помчались вдаль, с судьбою
Споря, Навстречу бурям и ветрам.
Один на запад курсом лег
По убегающим волнам.
И влажный вихрь его увлек
К богатым, щедрым берегам.
Другой лег курсом на восток
По зыбким, пенистым волнам,
Но ветер, словно зверь, жесток,
Его отбросил к валунам.
А третий устремил свой путь
На север по седым волнам.
Но ветру надоело дуть,
Он дал обвиснуть парусам.
Гнал ураган, суров и горд,
Ночь по неласковым волнам.
Два корабля вернулись в порт,
А третий не вернулся к нам.
Он плыл на север через льды
По злым, безжалостным волнам
Под одинокий свет звезды
Навстречу бурям и ветрам.
ПЕСНИ. Перевод Р. Дубровкина.
Тетради с песнями вдова хранила много лет.
Ей нравились обложки:
Одна от солнца потеряла цвет,
Другая была в пятнах от бокала,
Одну она подклеила немножко,
А дочь разрисовала.
Так время шло. Однажды их она
Нашла случайно и, удивлена,
Раскрыла. С каждым ласковым аккордом
Сливались в слово
Слога под нотами. И в ритме твердом
Звучали песни юности беспечной,
Как будто старый сад листвой оделся снова,
И молодость казалась вечной.
Вот так же, некогда, в один из вешних дней
Она играла их впервые. В ней
Возникло чувство горькое, что мимо
Промчалась жизнь, метнулась тусклой тенью.
Какое это счастье — быть любимой!
От этой мысли радость и покой
Ее наполнили. Еще мгновенье —
И слезы б хлынули рекой.
Но нет, полузабытыми словами
Не разожжешь невспыхнувшее пламя.
ПОЭЗИЯ БЕГСТВА. Перевод Я. Берлина.
Порою вам о ком-то скажут
Со скрытым смыслом:
Он все послал к чертям
И просто смылся.
И в голосе уверенность, что вам
Приятна будет эта весть,
Что в этом есть и дерзость, и стихийность,
И нечто очищающее есть.
И сплетники, пожалуй, правы —
Ведь дом нам всем успел осточертеть,
Мне, например, противно все: мой кабинет,
И что я должен там торчать,
И вся со вкусом собранная рухлядь,
И жизненный налаженный уклад,
И книги, и удобная постель.
Так что, когда мне говорят:
«Он бросил всех, а у него их куча», —
Я сразу же взволнуюсь, я зардеюсь,
Как будто от «Какой же ты ублюдок!»,
Или «И тут она сама разделась», —
Ведь если он сумел, смогу и я?
И этим я держусь, как и держался,
Живу, трудолюбивый и разумный.
Но я бы с места хоть сейчас сорвался,
Да, и побрел, о гайки спотыкаясь,
Или калачиком свернулся в трюме тесном,
Блаженною щетиной обрастая,
Когда б мне не казался неуместным
Столь преднамеренный скачок назад
Для сотворенья вещи новой:
Поэмы, или вазы, или жизни —
Пусть даже непристойно образцовой.
ДАЙТЕ ЖИЛИЩЕ ДЕТЯМ. Перевод И. Озеровой.
На мелкой соломе, на блестках стекла
Из хлама готовит постель им забота.
Ни трав, ни земли, ни зимы, ни тепла.
Мам, дай поиграть нам хоть что-то,
Живые игрушки исчезнут не в срок,
Взрослея, мы их почему-то теряем.
Коробка от туфель и старый совок —
Мам, мы в похороны играем.
НА ОЧЕРЕДИ. Перевод А. Ибрагимова.
В извечном ожиданье перемен
Грядущему мы отдаемся в плен,
И что ни день, в своем воображенье,
Мы видим приближенье
Сверкающей армады кораблей.
Они плывут — надежда у рулей;
Но как скольженье их неторопливо!
А мы нетерпеливо
Глядим, сжимая вянущий букет,
В томительном предощущенье бед,
На изваянья в блеске позолоты,
На поручни и шкоты,
На вымпелы, что в синеве горят.
Но ни одна из призрачных громад,
Как мы мечтали часто поначалу,
Не подплывет к причалу,
Не выгрузит добра богатый груз
И не спасет от бремени обуз.
Мы тщетно ожидаем воздаянья
За все свои страданья, —
И вдруг в испуге видим: напрямик
Весь черный к нам спешит безвестный бриг.
За ним, в однообразье безграничья, —
Лишь тишина бесптичья.
ИЛЛЮЗИИ. Перевод И. Озеровой.
«Конечно, мне подмешали наркотик, да столько, что я не приходила в себя до следующего утра. Я ужаснулась, поняв, что меня погубили, и несколько дней была безутешна и плакала, словно ребенок, которого убивают или посылают к тете».
Мейхью. Лондонский Труд И Лондонская Беднота.
Даль ко мне доносит горький вкус беды,
Острый стебель в горле у тебя застрял,
Солнечные блики, случая следы,
Стук колес снаружи, отзвук суеты,
Там, где Лондон свадебный на ином пути,
Свет неоспоримый с трудной высоты
Разъедает шрамы, извлекает стыд
Из его укрытья; целый день почти,
Как ножи в коробке, разум твой открыт.
В трущобах лет ты похоронена. Не смею
Тебя утешить. Что сказать смогу?
В страданье — истина, и перед нею
Любое понимание — пустяк.
Тебе своя забота тяжелее,
Чем то, что жизнь перед другим в долгу,
Когда насильник, млея и бледнея,
Взбирается на нищенский чердак.
УХОД. Перевод Я. Берлина.
Из-за полей надвигается вечер,
Какого я еще никогда не видел,
Вечер, не зажигающий ламп.
Он издали кажется шелковым, но
Когда застилает колени и грудь,
Его прикосновенье не ласкает.
Куда девалось дерево, смыкавшее
Небо с землей? Что это у меня под руками,
Чего я не могу ощутить?
Какое бремя так отягощает мои руки?
БЕЛЬГИЯ.
КАРЕЛ ВАН ДЕ ВУСТЕЙНЕ. Перевод с нидерландского П. Мальцевой.
Карел ван де Вустейне (1878–1929). — Поэт, прозаик, эссеист, писал на нидерландском языке. Автор многих поэтических сборников («Фламандские примитивы», 1902–1903; «Отчий дом», 1903; «Стихи», 105; «Бог на море», 1926; «Горное озеро», 1928, и др.). Представитель символизма в бельгийской литературе. Черпал сюжеты из старинных легенд; мотивы одиночества и смерти характерны для многих стихов поэта.
Стихи ван де Вустейне, как и большинства других поэтов, публикуемых в бельгийском разделе этого тома, были напечатаны в сб. «Из современнои бельгийской поэзии», М., 1965.
«Плод падающий…».
Плод падающий…
— Там, в тиши неоскверненной,
Где медлю я, где ночь склоняет пышный свод.
И время замерло. Над неподвижной кроной
Звезда не промелькнет жемчужиной зеленой.
Все стережет твое паденье, плод.
Плод.
У черты времен и жизни истомленной,
Что воздуха бледней, полней небесных вод,
Щедрее снов, где свет играет затаенный, —
Я знаю — там, в ночной листве завороженной,
Плод падает… И сердце тоже плод,
Что упадет…
* * *
«Вновь астры зацвели…».
Вновь астры зацвели предсмертным хрупким светом,
И сердце страстное в преддверье панихид
Все факелы зажгло, навзрыд прощаясь с летом,
И бьется, и дрожит…
В моей руке лежат плоды твои, слабея,
И мне прощенья нет, я заперт в западне;
Так, осень, по тому, что знаю о тебе я,
Ты знаешь обо мне;
Жнец вечный я, что жнет на этих нивах полных,
Но для себя снопов не вяжет по пути;
Беглец, что обречен всю жизнь скитаться в волнах
И суши не найти, —
Вновь к сердцу, что желать умеет без надежды,
Приблизилась нужда, еще на пядь одну,
Но, жаждущее, мнит отринуть смерть и вежды
Открыть — узнать весну…
— Вновь молит сердце, вновь пылает в старых ранах
Осенней крови жар, и в пламя мир одет.
— Как бронзой золото становится в каштанах!
Сребристой астры цвет…
* * *
«День переходит в День…».
День переходит в День, как запах роз пьянящий.
— Ты не ослеп, о нет, среди пустой тщеты
Сквозь занавес часов ты видишь свет скользящий
И вечность, чьи дары познать не в силах ты.
Мир замещает Мир. В минуту просветленья
Твой взор охватит все, лишь от себя самой
Сокрыта красота и горечь отрезвленья,
В слезах, где преломлен и скомкан мир немой.
На образах, что спят, не проникая в мысли,
Останови, беглец, стремленье нищих глаз,
Там, в бездне бездн твоих, где глыбы слез нависли,
Лежит, неогранен, бесценный твой алмаз.
ПОЗДНИЙ ДЕНЬ.
Твой привкус, Поздний день, вода и запах розы. —
Дом холоден, широк, я здесь один — увы,
Я одинок, ушли желания и грезы,
Минувшее уйдет, как нежный шум листвы.
Всплывает лунный серп, клонится солнце долу.
Не бегство горя, нет, и не надежды весть.
Здесь царствует покой, подобно ореолу,
В согласии со мной готовый цвесть и цвесть.
И вечер высится, подобно вечной тени,
Огромный и пустой, у полной роз стены…
Печали внемлю я, средь благостных растений
Благословляя сень и радость тишины.
* * *
«О ты, что был отцом в моем родном гнезде…».
О ты, что был отцом в моем родном гнезде,
И, смерти обречен от века, изначала,
Учил ребенка жить; когда тебя не стало,
Как солнце на твоей сияло бороде;
— Я стал одним из тех, скользящих по воде,
Кто веслам дал покой, чей парус вьется вяло
В вечерних сумерках, кто иногда устало
С кормы кувшинки рвет, не радуясь звезде,
Иль глухо запоет, и песнь его едва ли
Не к небу улетит; окрест луга и дали —
Все внемлет ей в тиши, на грани забытья…
Так длится жизнь моя среди земной печали
И бесконечных волн, пока, склонясь, в зерцале
Вечерних ясных вод тебя не встречу я.
ФРАНЦ ЭЛЛЕНС.
Франц Элленс (псевдоним; наст. имя — Фредерик Ван Эрманжан; 1881–1972). — Поэт и прозаик, писал па французском языке. По профессии юрист. Был в дружеских отношениях с А. М. Горьким, переводил стихи Маяковского, Есенина. В своем творчестве, классическом по форме и связанном с романтическими традициями, отражал жизнь простых людей; для стихов Элленса характерны гуманистические мотивы, тяга к миру мечты и фантазии. Автор ряда поэтических сборников («Женщина через призму», 1920; «Сопряженные зеркала», 1950; «Завещание», 1951, и др.).
ТРУД. Перевод с французского В. Львова.
Как ты, углекоп, я тоже
Работаю в глубине.
Пускай бела моя кожа
Вся пыль осела во мне.
Не надо бояться клети,
Что в шахту спускает нас.
Но что поделают эти
Лампы, коль свет погас?
ВОСКРЕСЕНИЕ. Перевод с французского А. Эфрон.
Я спал на ложе голубых небес,
В объятьях облачной перины —
Лик с ненаписанной картины,
Безвестный светоч между звезд,
Затерянный среди крылатых сонмов
Ангел.
Но громовой удар, в дремотной мгле
Раздавшийся, меня вернул земле.
Очнулся я
В ее безмолвных недрах,
Ногами в сумрачной воде.
Я был один в слепящей черноте,
Лишь из незримой бездны доносилась
Небытия глухонемая песнь;
В ней горечь сочеталась с тишиной.
Всем сердцем жадным
Я глубоко вздохнул — поднялся ветер
И вздыбилась у ног моих волна.
Как пленная душа, она
Рванулась — и не выдержали сети…
Я полетел воздушным пузырьком
К поверхности,
Воды не потревожа.
Да будет свет, о боже!
Пусть птица снова
Продлит напев, что вечностью самой
Был прерван.
Пусть душа моя,
Что так давно не проронила слова,
Вольется в хор времен
И в хор людской.
И свет настал,
Зажегся, точно лампа,
В потемки детства несшая покой.
Рожденный в мир,
Я пробуждаюсь почкой,
Я голос пробую, как птица,
Сверкаю каплей дождевой,
Что серебрится
На проводе,
Когда гроза прошла.
Ростком и семенем я стал отныне,
Земля простерлась ложем для меня —
Не голубым, но цвета человека:
Мой человек — сегодняшнего дня.
ЯН ВАН НЕЙЛЕН.
Ян ван Нейлен (1884–1965). — Поэт, эссеист, писал по-нидерландски. Автор ряда стихотворных сборников («Птица феникс», 1928; «Шифр», 1934; «Охотник на заре», 1947, и др.), проникнутых неоромантическими мотивами и. выражающих неудовлетворенность буржуазной действительностью.
АВГУСТ. Перевод с нидерландского Е. Витковского.
Вновь расцвели подсолнух и вьюнок,
Бегония, красавица ночная,
Флокс, георгин, ковыль, душистый дрок —
И вновь я счастлив без конца и края.
Совсем не старый Ян сегодня я,
Но тяжкий август не ослабит зноя, —
И к сумеркам безмолвие земное
На сердце давит грузом бытия.
Когда растают радуги расцветок
В тумане и забрезжат холода,
Не станет слышно птиц средь голых веток, —
О летний миг, исчезнешь ли тогда?
Навек ли канешь? Ведь должно быть Лето
Лишь для меня, одно, в последний раз,
Отрада сердца, праздник уст и глаз,
Триумф цветущей зелени и света.
Но разве мало этого? К чему же
Еще одно, Последнее? К чему
Я не могу принять прощальной стужи?
Что юность мне? Дала ль она уму
И сердцу зрелость большую, чем годы
Иные, зрелые? В кругу светил
Сияет лето, лес смыкает своды.
Но отчего я не таков, как был?
КОНСТАН БЮРНЬО. Перевод с французского М. Кудинова.
Констан Бюрньо (род. в 1892 г.). — Поэт и прозаик, пишет на французском языке. Автор многочисленных романов, книжек для детей. Из сборников стихов наиболее значительны «Поэмы в прозе» (2 тома, 1927 и 1932), «Короткие волны» (1931), «Странствия» (1962). В 1966 г. вышла книга избранных стихов («Стихи. 1922–1963»). В предисловии к этому сборнику Ив Гандон отмечал: «Поэзия Бюрньо поэтизирует обыденное, стремится с наибольшей полнотой и ясностью отразить помыслы и страсти простой человеческой души».
ЛУБОК.
Это
Напечатанный на бумаге лубок,
Он для тех,
Чей тощ кошелек
И кому
Что к чему невдомек.
Нарисован там волк и ягненок,
Бежит ручеек
Между ними сироповый…
Эти дружки
Облизали бы нежно друг друга,
Будь длиннее у них языки.
Нарисован там принц молодой
(Ой-ой!).
Перед пастушкой простой
Преклонил он колени.
(Какое мгновенье!)
А пастушка
Совсем не простушка…
Что за прелесть
Эта пастушка!
Есть и мельница там,
Словно храм!
Хоть не ленится,
Ей не смолоть ни крупинки,
Потому что она
Чересчур хороша,
Эта мельница
На лубочной картинке.
Есть еще там…
А впрочем, какой в этом прок,
Ерундой заниматься?
Не наша эта задача.
В жизни тех,
Чей тощ кошелек,
Все иначе… Совсем иначе!
ПОДУМАЙ ОБ ЭТОМ.
Подумай об этом безумии,
Таком очевидном,
Таком безобидном
Безумии человека,
Который в уединении
Пишет стихотворение.
Подумай, в какое он ставит себя положение!
Он мог бы в карты сыграть,
Или выпить,
Или пойти танцевать,
Или в кино
Отправиться… Но
В каком-то самозабвении
Он пишет стихотворение.
Подумай также о долготерпении
Бедняги, который
На знает, как скоро
Современники признают его дарование,
И тем не менее
Пишет стихотворение.
Подумай о мании
Такой очевидной,
Такой безобидной
Человека, которого даже
Не одобряет жена
И который в случае ее одобрения
Пришел бы в смущение.
Подумай о том,
Кто в поэзию верит,
Кто с нею в дружбе
И кого неприятности,
По всей вероятности,
По этой причине
Ожидают на службе.
Подумай о том,
Кто терпит лишения
И кто тем не менее
(Это в наши-то дни!)
Пишет стихотворение.
ПАУЛЬ ВАН ОСТАЙЕН. Перевод с нидерландского И. Мальцевой.
Пауль ван Остайен (1896–1928). — Поэт, эссеист; писал на нидерландском языке. Зачинатель фламандского экспрессионизма; его стихи выразили анархический бунт против капитализма, в них звучит мотив братской общности народов. Поэт оказал большое влияние на развитие бельгийской поэзии. Основные сборники стихов: «Мюзик-холл» (1916), «Сигнал» (1918), «Плененный город» (1921) и др.
ВЕЧЕРНИЕ ЗВУКИ.
Как будто там белеют усадьбы за опушкой лесной
Сверкая голубизной проплывают поля под луной
Вечером ты слышишь вдалеке копыта
К реке процокали
Потом обманутый тишиной
Ты слышишь в родниках движение лунной воды
— Вдруг ты слышишь отдельно каждую каплю
Вечерней воды —
Лошади фыркая пьют
Ржанье
И снова к далеким конюшням вскачь
МЕЛОПЕЯ.
Скользит под луною река длинна
Над длинной рекою устало скользит луна
По длинной реке под луною скользит каноэ к морю
Мимо речных камышей
Мимо пологих лугов
Скользит каноэ к морю
Под скользящей луною скользит каноэ к морю
И так они следуют к морю каноэ человек и луна
Зачем скользят человек и луна вдвоем послушные к морю
СТАРИК.
Старик на улице
Его короткий рассказ о старой женщине
Пустяк дешевая трагедия
Его седой голос
Дребезжит как нож который точили долго
Пока сталь не стала совсем тонкой
Голос висит отдельно от старика
Над черным длиннополым пальто
Высохший старик в черном пальто
Похож на обуглившееся дерево
Посмотрите на него
Привкус страха у вас во рту
Это первый глоток наркоза.
ЮНЫЙ ЛАНДШАФТ.
Так почти неподвижно стоят они на лугу
Девочка что вертикально висит на канате неба
Чья длинная рука держит на длинной прямой веревке козу
И коза чьи тонкие ноги наоборот несут землю
Подобрав ее по черным и белым клеточкам
Мне кажется девочку зовут Урсулой
— Я и мое одиночество катаемся на лодке —
Полевой мак высок
Нет слов как это грациозно
Изящнее чем кольца рогов зебу
И выдублено временем как шкура зебу —
Их ценность открыта порывам души
Так я говорю и связываю слова в единый сноп радости
Перед этой девочкой с козой
Над кончиками моих рук
На ощупь ищут руки
Моих иных рук
Вечно
МАРСЕЛЬ ТИРИ.
Марсель Тири (род. в 1897 г.). — Франкоязычный поэт. Участвовал в первой мировой войне. Был адвокатом. Много путешествовал. В творчестве этого крупнейшего бельгийского поэта XX в. мифологические и библейские образы, зачастую саркастически переосмысленные, причудливо сочетаются с картинами современной жизни. Автор сборников стихов «Сердце и чувства» (1919), «Море спокойствия» (1939), «Три долгих жалобы полевой лилии» (1956) и др.
В ТРЕТЬЕМ КЛАССЕ. Перевод с французского А. Арго.
…Был третий класс поэтам предназначен.
Там пахло суетой, был воздух протабачен,
Но тонкой струйкою сквозь этот серый смрад
Неодолимо шел нежнейший аромат…
Иной, глаза чуть-чуть платочком прикрывая,
Глядит, как стелется завеса дымовая…
Их ночь черным-черна, как в сказке темный бор,
А на коленях их вчерашние газеты,
И с тех полос глядят на них в упор
Земные новости, последние декреты,
Возня, и суета, и плата за квартиру,
Налогов тягота, и обращенье к миру.
А где-то на Луне в незыблемом просторе
Есть кратер, называющийся Море
Спокойствия!..
Уже рассеялся дотла
Мой город Тирлемон — дорога привела
Нас к Млечному Пути… И наши все дела,
Расчеты, прибыли, весь мир обыкновенный
С его легендами и самый Тирлемон
Разбрызгался среди струящихся времен
Гигантским веером в туманностях Вселенной!
ПОЭМА. Перевод с французского П. Антокольского.
Я познакомился в травмае с ней когда-то
Там, за грядою дюн, на дальнем берегу.
И это был июль четырнадцатого года.
Я познакомился с той девушкой в трамвае,
Который мчался вдоль песчаных белых дюн,
Пересекал наш край без всякого маршрута.
А теплый ветер был беспечен, как щенок,
И не предчувствовал, что вечером погибнет.
Он словно кисеей касался губ и щек
Той бедной девушки в берете, в юбке длинной.
Последней синевы безоблачный клочок,
Последний мирный миг над фландрскою долиной.
Вы скажете, что он по-прежнему идет
Среди песчаных дюн и садиков зеленых,
Что очертанья дюн по-прежнему влажны,
И впитывают йод, и женственно нежны.
Нет, больше нет у нас попутчицы прелестной.
Болтали, что нашлась, что где-то люди помнят
Ее возврат в страну, в печаль безлюдных комнат.
Нет, это Мир другой, угрюмый, грустный, тесный.
А я уже старик. И в мыслях не могу
Твой облик воскресить, девчоночка живая,
В том переполненном, приморском том трамвае
В тот вечер ветреный на дальнем берегу.
Ты девушка. Ты мир. Продлился твой расцвет,
Продлилась жизнь твоя в теченье сотен лет.
Штыками пронзена, лишенная сиянья,
Ты слезы льешь. Ты соляное изваянье.
НОРЖ.
Норж (псевдоним; наст. имя — Жорж Можен; род. в 1898 г.). — Пишет на французском языке. Стихи поэта, чаще всего лапидарные и ясные, полны метких наблюдений над реальной действительностью и злых насмешек над буржуазным бытием, перерастающих в горький сарказм. Основные сборники Норжа: «Двадцать семь ненадежных стихотворений» (1923), «Календарь» (1932), «Радость сердец» (1941), «Крупная дичь» (1953), «Четыре времени года» (1960).
ОБ ОДНОМ ИЗ ТРЕХ РАСПЯТЫХ НА ГОЛГОФЕ. Перевод с французского М. Кудинова.
О третьем речь… Он самый невезучий.
Конечно, не знаток я, господа,
Но извините, странный этот случай
Был окружен молчанием всегда.
Не меньше мук тот парень испытал,
Чем бывший с ним напарник.
Почему же Из них двоих один он в ад попал,
Хоть на кресте он мучился не хуже?
Подумайте, в ладонях две дыры,
Пожар в кишках — и так висеть часами…
Он умер злым. А были б вы добры,
Когда б такое вытерпели сами?
Испорчен был и груб он, говорят,
Погряз в пороках, если верить книжкам…
Но с божьим сыном рядом быть и в ад
Отправиться — пожалуй, это слишком.
Его товарищ в небо прямиком
Попал с креста — за то, что помолился;
А он, чью плоть как будто жгли огнем,
Вдруг в пекле ада снова очутился.
Его товарищ, как он ни был плох,
Теперь в раю, обласкан и починен,
А на него свой гнев обрушил бог
За все то зло, в котором сам повинен.
Простите мне, но только никогда
Понять не мог я этот странный случай.
Одно скажу: тот парень, господа,
Из всех троих был самый невезучий.
СТАЛЬ, ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА. Перевод с французского В. Львова.
Как любовь свою нашли вы,
Сталь и уголь, при луне?
Ни цветущих роз, ни сливы
В безошибочной стране…
Обнимай ее смелее,
Будьте счастливы всегда.
Здесь ни тыквы, ни лилеи —
Сталь, железная руда.
Ах, как щедро и богато
Над заводом шла луна.
Чья-то грудь была прижата
К твоему плечу тогда… — Сталь, железная руда.
Красота! Всевышний дремлет,
И на отдыхе война,
И земля любовь приемлет
Там, где высятся всегда
Уголь, крепкий, словно камень,
С очень острыми зрачками,
Сталь, железная руда.
АНГЕЛЫ. Перевод с французского М. Кудинова.
— Опять про ангелов брехня?
А кто их видел?
— Я их видел,
И ночью, и средь бела дня
Их видел в натуральном виде.
— Ну, ты тогда хитрее нас!
Но почему же в самом деле
Мы, сколько ни таращим глаз,
Их все-таки не разглядели?
— Да потому, что вам подай
И два крыла, и песнопенья.
Есть ангелы! Но божий рай
К ним не имеет отношенья.
Одежда ангелов груба,
За их плечами нету крыльев,
И пахнет потом от рубах,
И сапоги покрыты пылью.
Храпят во сне. В плохие дни,
Ругаясь, бога поминают.
И то, что ангелы они, —
Об этом даже и не знают.
Как аромат любви хорош,
Любви душистой и хрустящей!
Он с ароматом хлеба схож,
Так пахнет ангел настоящий.
Архангел Михаил притих:
Он отдал бы свой шлем из стали
За две травинки, что в твоих
Кудрях нечесаных застряли.
Скис и архангел Гавриил
И замечает удивленно,
Что в меньшей степени он был
Архангелом, чем ты, влюбленный.
А вы, которым лучше всех
В каморке, что под самой крышей, —
Я слышал ваш счастливый смех
И знаю: ангелов я слышал.
Жан-Пьер! Носки свои надень.
Элиза! Где твоя помада?
Спрячь крылья в шкаф на целый день.
Ты ангел… И других не надо.
* * *
«Если б когда-нибудь…». Перевод с французского М. Ваксмахера.
Если б когда-нибудь
Мне речь сказать довелось…
— Оскар, про дрова не забудь!
— Жюлъен, не смазана ось!
…Всему бы я свету сказал:
Им тоже хочется жить…
— Сюзетта, вымети зал!
— Жак, чемоданы сложить!
Жить в замках, чтоб рядом вода
Журчала в тени дерев…
— Эдмон, десять бочек сюда!
— Леон, ты вычистил хлев?
…Чтоб жизнь от зари до зари
По-королевски текла…
— Мари, со стола убери!
— Жанна, протри зеркала!
… Ведь они и впрямь короли
Над грязью, железом, огнем…
Как-то раз прогуляться пошли
Король с королевой вдвоем
Под железнодорожный мост…
— Ни работы, ни денег нет…
— Брось горевать, Нинетт!
Погляди, сколько в небе звезд!
…И в этой речи своей…
— Какой ты славный, Анри!
…Я крикну богу: «Скорей
Все звезды им подари!»
МОРИС КАРЕМ.
Морис Карем (род. в 1899 г.). — Франкоязычный поэт. Лирика Карема родственна народным балладам и песням, ей присуща ясность формы, простота и мудрая лукавая наивность. Картины родной природы, философские раздумья, стихи о любви, стихи для детей — таков круг поэтических тем Карема. Автор многих сборников («Особняк», 1926; «Мать», 1935; «Магический фонарь», 1947; «Голос тишины», 1951; «Птицелов», 1959; «Из пламени и золы», 1974, и др.).
Перевел на французский язык басни С. Михалкова. На русском языке стихи Карема публиковались неоднократно.
ЧТО С ТОГО! Перевод с французского М. Кудинова.
Порой не знал он, что сказать.
Она тем более не знала.
Но им друг друга понимать
Нисколько это не мешало.
Не знал он, любит ли ее.
Она тем более не знала.
Но что с того! Житье-бытье
И это им не омрачало.
Не знал он, как идут дела.
Она тем более не знала.
Но что за важность! Жизнь текла
И всеми красками сверкала.
Чем для нее он в жизни был,
Не знал он. И она не знала.
Но что с того! Игра судьбы
Их крепко-накрепко связала.
БЕДНЯКИ. Перевод с французского М. Кудинова.
Плохая для них
Наступила пора:
Ни кур, ни коня,
Ни кола, ни двора.
Тогда из ветвей
На родном пепелище
Сооружать они
Стали жилище.
Поскольку не смели
Их просто убить,
Решили их голодом
Всех уморить.
Лишили их чая,
Лишили хлеба,
Оставили только
Землю и небо.
Тогда они ягоды
Начали рвать,
Грибы и каштаны
В лесу собирать.
Когда же в деревню
Им вход запретили,
Когда все дороги
Пред ними закрыли,
Когда приказали
Покинуть леса,
Переселились они…
В небеса.
ХОТЕЛ ХОДИТЬ. Перевод с французского М. Кудинова.
Хотел ходить —
Ему связали ноги,
Хотел творить —
Ему скрутили руки,
Стал говорить —
Ему заткнули рот,
Хотел заплакать —
Глаз его лишили,
Хотел любить —
Любовь его убили,
«Как дальше жить?» —
Спросил он у Христа.
Распятый бог
Не разомкнул уста.
ПОКОЙНИК. Перевод с французского М. Кудинова.
«Когда умирают, это всерьез», —
Покойник сказал родным.
Ему отвечали: «Поскольку вопрос
Исчерпан, давай помолчим».
«Когда умирают, — он продолжал, —
Находят к небу ключи».
«Возможно, — кто-то из близких сказал, —
Но все-таки замолчи».
А он все твердил: «Не надо меня
Ни сторожить, ни будить».
«Будить мы не станем, — сказала родня, —
Но перестань говорить».
Однако покойник молчать не хотел,
Покойник перечислял
Дома и угодья, все то, чем владел,
Проценты и капитал.
Под утро ушла из дома родня,
Покинули все мертвеца.
И день наступил. Но не видел он дня…
И говорил без конца.
АПОСТОЛЫ. Перевод с французского М. Кудинова.
Матфей сказал: «Скрывать от вас не стану,
Вам обратиться лучше к Иоанну».
«К Луке идите, — молвил Иоанн, —
Лука — мудрец. Ответ вам будет дан!»
«Нет, лучше к Марку вам адресоваться, —
Лука сказал, — Марк сможет разобраться
В проблеме этой. Для меня ж она,
Как грамота китайская, темна».
Недолго Марк заставил их томиться
И дал совет… к Матфею обратиться.
Так шли они, уйдя с зарей из дому,
От одного апостола к другому,
Которые ответить не могли,
В чем суть законов неба и земли.
ОДНАЖДЫ. Перевод с французского М. Кудинова.
Однажды он тень свою потерял.
Но мир об этом даже не знал.
Потом потерял он и голову тоже.
Но думали все: он обычный прохожий,
Такой же, как вы или я, пешеход,
Хотя и не ясно, куда он идет.
Затем, уносимый людским потоком,
Он сердце свое потерял ненароком.
Все дальше поток его нес и бурлил,
И не было ни фонарей, ни перил.
* * *
«Другие верят в бога…». Перевод с французского М. Ваксмахера.
Другие верят в бога,
Он верил в облака,
И все в округе строго
Бранили чудака,
И верой непристойной
Друзей он огорчал,
А он им со спокойной
Улыбкой отвечал:
«Садовник в розу верит,
А роза в мотылька,
Волна морская в берег,
А я вот — в облака».
АРМАН БЕРНЬЕ.
Арман Бернье (род. в 1902 г.). — Поэт, эссеист, прозаик; шппет на французском языке. Ряд стихов поэта проникнут пессимизмом, религиозными мотивами. При этом Бернье — последовательный противник ненависти, расизма, войны. Автор многих сборников стихов («Блуждающий странник», 1934; «Слишком много звезд», 1948, и др.).
«Мои родные голуби…». Перевод с французского В. Львова.
— Мои родные голуби, олени,
Скажите, что вы знаете о жизни?
— Мы знаем, что земля дает плоды,
Что свет прозрачен — это видит глаз;
Еще мы знаем свежий вкус воды,
Что жизнь — любовь и что любовь для нас
Полет и бег…
— А слышали вы слово «умирать»?
— На слух оно полно блаженной лени,
Но непонятно… Повтори опять…
— Мои родные голуби, олени!
ЧЕРНАЯ СОБАКА. Перевод с французского А. Сергеева.
На меня внимательно смотрит большая собака,
Черная, как ее молчанье,
И я молчу в ответ на ее молчанье.
Так, может быть, сами того не зная,
Мы рассказываем друг другу
О чем-то, что происходило с нами.
Но ласковая собака и грустный человек
Разделены непроходимой тайной
И обречены никогда не узнать друг друга,
Ибо меж ними— стена молчанья.
АШИЛЬ ШАВЕ.
Ашиль Шаве (1906–1973). — Поэт французского языка. Один из основателей сюрреалистской группы «Разрыв» (1934). Сражался в Интернациональной бригаде в Испании. Участвовал в бельгийском движении Сопротивления. В творчестве Шаве сложная ассоциативность, зашифрованность образов сочетается с логичной структурой, с реальной, социально острой и конкретной основой каждого стихотворения. Автор сборников «Вопрос доверия» (1940), «Герб любви» (1950), «Каталог единственного» (1956), «О естественной жизни и смерти» (1965) и др.
«Нож терпенья…». Перевод с французского А. Сергеева.
Нож терпенья
Подобен ножу, которым на стройке
Ты разрезаешь свой хлеб насущный,
Товарищ.
Дружеская рука,
Понимающий взгляд,
Слово из глубины души —
И мы с тобой говорим о любви,
Товарищ,
И никто нас в фальши не упрекнет —
Ведь мы смотрим вперед.
* * *
«В Арагоне тем героическим летом…»[44]. Перевод с французского А. Сергеева.
[44].
В Арагоне тем героическим летом
У меня на глазах умирал верный товарищ.
Старое солнце отбрасывало мою тень
На землю чистых людей.
Предо мной воскресал миф об Антее[45],
И я смотрел на спасительницу-землю.
Недвижный, ушедший в думы,
Я пронзал свое сердце
Золотым клинком действительности.
* * *
«Я все так же подобен…». Перевод с французского В. Львова.
Я все так же подобен
Стреле краснокожего
Из моего детства.
А что до моей визитной карточки,
Так я давным-давно потерял ее
В бескрайнем поле ржи.
ДАВИД ШАЙНЕРТ.
Давид Шайперт (род. в 1916 г.). — Поэт, прозаик, драматург; пишет на французском языке. Роман «Длинноухий фламандец» (1959), посвященный теме Сопротивления, издан в СССР в русском переводе. Активно борется за утверждение передовых принципов реалистического искусства, пропагандирует в Бельгии опыт советской поэзии, литературы социалистических стран. Стихи Шайиерта связаны с народной песенной традицией (сб. «И свет запел», 1954; «В этом саду, который стал вселенной», 1956; «Как я дышу», 1960; «Одна роза на десять шипов», 1968, и др.).
ЗИМНЯЯ ПЕСЕНКА. Перевод с французского К. Симонова.
Была бы сотня тысяч,
Я б все цветы скупил,
Весь город бы засыпал.
Весь снег бы растопил.
Была бы сотня франков,
Я б ворох красок взял
И кистью на заборах
Весну бы написал!
Хоть десять франков было б,
Купил бы я лимон,
Чтоб на остывшей печке
Горел, как солнце, он!
Ни франка не имея,
Окно я распахну,
Зайти ко мне без денег
Я попрошу весну!
АЗБУЧНАЯ ПЕСЕНКА. Перевод с французского М. Шехтера.
Если в небе ты умеешь читать,
Объясни, пожалуйста, мне одному:
Серо-алое облачко почему
К медовому тянется опять и опять?
Если азбукой гнезд овладела ты,
Объясни, пожалуйста, мне одному:
Серо-алая птица почему
К белоснежной тянется с высоты?
Если в сердце ты читаешь моем,
Объясни, пожалуйста, мне одному:
Загорелая рука почему
Хочет нежной рукой владеть, как цветком?
КАТАЛОНСКАЯ ПЕСЕНКА. Перевод с французского М. Кудинова.
Так мало места надо
Для нищеты моей,
Что камня у ограды
Вполне хватило б ей.
Так надо места мало
Для гордости моей,
Что острия кинжала
Вполне хватило б ей.
Так мало надо места
Для радости моей,
Что было бы нетесно
В груди гитары ей.
ПОЭТУ, СХВАТИВШЕМУ НАСМОРК. Перевод с французского М. Ваксмахера.
Послушайте, сударь, теперь вы, пожалуй,
Могли бы сойти с пьедестала:
Ночь настала и люди ушли.
Кто оценит сейчас
Благородный изгиб ваших бедер,
Чела вдохновенность и разлет шевелюры?
Кто оценит прекрасный порыв к небесам
И к бессмертью?
Затекли ваши ноги, онемели ладони,
И над глазом
Назойливой бронзой нависла
Непокорная прядь,
Но — такая обида! — пропадает величье зазря!
Вокруг ни души, только шальной воробей
Беззаботно клюет
Кончик вашего носа.
А ведь это, должно быть, убийственно скучно —
Клевать металлический нос,
Скучный нос человека, который в изысканной скуке
Сам под звездами
Носом клюет, —
И воробей улетает,
И опять вы один,
В пустоте.
Даже коты в подворотнях перестали вопить…
И тогда, на секунду забыв
Зачарованность сказочных замков,
Вы чихаете.
Ах, этот низменный звук,
Этот клич простодушного носа,
Никогда он не смел
Проникнуть в парадные залы
Ваших поэм…
Вы чихнули и съежились вдруг,
И мне стало вас жаль, мсье поэт,
Вам так одиноко
Торчать на своем пьедестале,
Кругом ни души,
И никто не пропишет вам капель от насморка,
И нету жаровни,
Чтоб зазябшие пальцы погреть,
Даже сторож ночной отлучился куда-то,
И никто вам не даст
Коленкой под зад,
Чтобы в вашу стерильную кровь
Просочилась хоть капля
Шершавой
Земной
Поразительной жизни.
МАРК БРАТ. Перевод с нидерландского Д. Сильвестрова.
Марк Брат (род. в 1925 г.). — Поэт, пишущий на нидерландском языке. Участвовал в движении Сопротивления. Стихи М. Брата представляют демократическую, антибуржуазную линию в современной поэзии Бельгии. Автор многих поэтических сборников («Восемнадцать шагов во время бури», 1950; «Вариации на заданную тему», 1956; «Все в едином мире», 1961, и др.). Член компартии Бельгии. Неоднократно бывал в СССР.
И НЕЧЕГО СОКРУШАТЬСЯ.
Книг совсем не беру с собою
Никаких навек предрешенных вычурных знаков
Танец в сердце проник
До конца став моей судьбою
За словами нечего гнаться
Они просятся с губ
Снегом падая в ночь
И нечего сокрушаться
РАССТАТЬСЯ.
Расстаться это заново начать жить
Это осознать пространство и время
Это вытравить из себя страх и в мертвых ветвях
Разбудить свежую песню
Расстаться это услышать напев тишины
Узреть бесконечный ликующий путь и любовь и
Ее неумолчный зов
Расстаться задеть ранить боль причинить
Поселившимся на холодной луне
Где покинутый мастер самозабвенно играет
И все более легкие дни уходящему вслед отмеряет
Расстаться это напоследок сжать руку
Обещать непременно писать обнять милые плечи
И уйти вперед без оглядки
(Если поезд ушел слишком рано если он
Никогда не прибудет — расстаться
Это унести с собой бесценную тайну)
И кому-то известно: расстаться
Это за гранью тоски и печали
Тянется жизнь и растет
Прежде чем кануть во мрак
ЕСТЬ БОЛЬ ИНАЯ.
Пусть слова-карамель
Себя сами забудут
Мирт в липкой крови
Каждый фонтан будит горькую песню
Ведь фонтаны не спят
И розовато-лиловые горы
По-рассветному молоды кротки
Песнь листвы хохот
Пересмешника безграничные выси
Земля в липкой крови
Каждый шаг множит отчаянье
Чернотою вечерних олив
Блеск петухов из стекла стоящих на страже
Город затаивший дыхание
Чтобы не выдать свой страх
Руки в липкой крови
Серебристые вздохи Гвадалквивира
Безмолвный полет козодоя
Нежная поступь весны
Бурьян поющий о смерти
Хрупкой и недостижимой
Когда с неба падает месть
Темной грозой в лаве молний
Когда не молчат голоса
Выплескиваясь ураганом огня
Ведь это в липкой крови голова федерико
Пусть слова карамелью
Сладко истают
Есть боль иная та что горит
На ослепшем лице и скрюченных пальцах
Есть боль иная боль пролитой крови
Крови беспамятства
И оставленности
ХУГО КЛАУС. Перевод с нидерландского В. Топорова.
Хуго Клаус (род. в 1929 г.). — Поэт и драматург. Пишет на нидерландском языке. Его стихам свойствен гуманистический пафос, сложная ассоциативная образность. В настоящее время живет в Нидерландах. На русский язык стихи Клауса переводятся впервые.
ПАНОРАМА.
О доброта и радость и мечтанья
Украдкой я развесил вас полотна
И неводы посохните на солнце
А рядом будут рыбы будут краски
Крик роженицы и сигнал в тумане
Нагрели дождь дома под теплым душем
Не зябко почкам в парковой аллее
Но мертвенный рыбак у парапета
Соломинку свою не отпускает
Та тянет вниз
Тропические пригороды вянут
И девушки стыдясь своих открытий
Захлопывают окна
И фонари подмигивают гнусно
Глухою ночью
Жучкам грызущим камень и железо
Разведчик Ноя выживет на юге
А ты в моих руках окаменеешь
ЗВЕРЕК.
Он убежал он спасся там пожар
А тут рассвет на лапках золотится
И солнце заплетает семь косиц
Живехонек он юркий светлоглазый
А большего не надобно ему
Но в полночь вновь туда на смерть и долго
Ждать зарева охотничьего рога
Так смело так безропотно никто
Другой не любит жизни
ПОЛЫНЬ.
Полынь воспоминаний ранним утром
В Мондклеме
Бойницы башни рвы
Посев камней и пахари в могилах
Разбойники бароны крикуны
А ветер воет в рог пустых столетий
И в шлеме с гребнем ждет войны петух
Ступи сюда и маятник сверкнет
Порежет пальцы
И броню груди
И будет жить в ней живо
Жить лениво
Пока слова соломой не сгорят
И поле перед замком и воскреснув
Из пламени утопленники-дни
Не запоют одышливую песню
ГЕРМАНИЯ.
ГЕРХАРТ ГАУПТМАН.
Герхарт Гауптман (1862–1946). — По преимуществу драматург и прозаик. Представитель натурализма, долгое время был под влиянием неоромантизма (немецкой разновидности символизма). Пьесы «Ткачи» (1892), «Затонувший колокол» (1897), «Перед заходом солнца» (1932) и др. принесли ему всемирную известность. Дебютировал подражательными стихами («Весна любви», 1881), вернулся к поэзии на склоне лет («Новые стихи», 1946). Перевел «Гамлета» В. Шекспира (1930). Лауреат Нобелевской премии (1912). В годы нацизма престарелый писатель оставался в Германии.
НОЧНОЙ ПОЕЗД[46]. Перевод Л. Гинзбурга.
[46].
Трясется, несется, летит состав,
Сквозь лунную полночь мчится.
Семь пассажиров храпят, устав.
Мне одному не спится.
То гаснет лампа, то вновь мигнет,
А вагон то качнет, то толкнет, то тряхнет,
И в торжественно-мерном круженье
Проплывают призраки за окном.
И при свете мигающей лампы в нем
Возникает мое отраженье.
Поезд летит все быстрей, быстрей
Мимо рвов и крутых косогоров,
Мимо чащ, мимо рощ, мимо пустырей,
Мимо стен летит и заборов.
Между тем сгущается мгла вокруг,
И горячие слезы из глаз моих вдруг
Бегут, лицо заливая.
Сердце дикой охвачено колотьбой,
И уже не властен я над собой,
В сладкой прихоти изнывая.
Рвануться бы в лунную ночь, туда,
В сгустившийся сумрак синий,
За телеграфные провода
Вдоль косо бегущих линий.
И опять открывается передо мной
Озаренная точно такой же луной
Ночь, блаженней которой нет в мире.
Я, как в сон, погружаюсь в нее, и вот
Снова эльфы ведут близ пруда хоровод,
Им эльф играет на лире.
Да, помнится, эльф так волшебно играл,
Что трава шелестеть не смела.
Ручеек возле мельницы замирал:
От восторга вода немела.
И сверкали слезинки чистейших рос
На глазенках ландышей, диких роз,
А в долине, помню, в долине
Внимали этой игре певцы,
Сладкозвучных, нежнейших мелодий творцы,
Кой-чему научившись отныне.
Но все дальше уносится поезд стальной,
Сон мой дивный обдавши чадом.
Прорезает гору он, как шальной,
Пролетает над водопадом.
В лихорадке — планета. Клокочет шквал.
Что за демон меня в своих лапах сжал
И несет в беспредельные дали,
Не давая остаться мне при луне,
Здесь, с самим собою наедине,
И чтоб звезды друг другу мигали?..
Исчезает виденье в дыму, в чаду.
А внизу подо мной все грохочет,
Громыхает, беснуется, как в аду,
Все ревет и смолкнуть не хочет.
То кряхтенье, то стон оглашают ночь.
Будто весь этот поезд по рельсам волочь
Привелось циклопам громадным,
И они, надрываясь, взывают к нам
Своим голосом, гулким, подобным громам,
Умоляющим и беспощадным:
«Сквозь душистую ночь вас несем мы сейчас,
В изможденье хрипя и стеная.
Мы дома золотые воздвигли для вас,
Словно коршуны, крова не зная.
Мы ткем для вас платья, мы хлеб вам печем,
Вы нам платите смертью, нуждою, бичом.
Но мы сломаем оковы!
Мы добро, что вы взяли, объявим своим.
Нас измучила жажда: мы крови хотим!
Мы к отмщенью, к отмщенью готовы!
Мы грубый, безжалостный, грозный народ,
И помыслы наши кровавы.
Но сбросьте с нас бремя скорбей и невзгод,
На жизнь и на смерь дайте право!
О, если, свой каторжный меряя путь,
Мы сможем хоть раз всею грудью вздохнуть,
То песня громовая грянет:
На песенки эльфов мотив не похож,
Он мрачен, он яростью дышит, и все ж
Он гимном столетия станет!..
Ты хочешь постичь эту песню, пиит?
Забудь же о чахлой свирели!
Услышь, как машина победно гремит,
Как рельсы стальные запели!
Взвиваются искры — гудят провода,
Дымят пароходы — клокочет вода!
Но, полн состраданья святого,
Ты чуткое ухо свое склони
К стенаньям и воплям людским, чтоб они
В стихах твоих ожили снова!..»
Трясется, несется, летит состав,
Сквозь лунную полночь мчится.
Семь пассажиров храпят, устав,
Мне одному не спится.
То гаснет лампа, то вновь мигнет,
А вагон то качнет, то толкнет, то тряхнет,
Грохот невероятен.
Но, слух обретя и волшебно прозрев,
Отчетливо слышу тот зов, тот напев,
Он в хаосе звуков мне внятен.
Вот стихает слегка, вот нахлынет опять,
Словно вырвавшись прямо из бездны,
Чтобы свирепствовать и бушевать,
Неистовый грохот железный.
Он все заполняет собой, а затем
Смолкает и вдруг исчезает совсем,
Будя и желанье и волю —
Напевом, рожденным небесной весной.
На высях житейских, средь жизни земной
Всем сердцем насытиться вволю!
ТЕРЦИНЫ. Перевод В. Левика.
Германия, великая страна,
Зловонной уподобилась трясине,
Где все, чем в мире славилась она,
Бесславно гибнет в липкой смрадной тине, —
Плодильня трупных мух, гнойник земной,
Для палачей Эдемом ставший ныне!
Свой клюв стервятник притупил жратвой,
Не зная страха, входят в храм гиены
И нагло пожирают хлеб святой,
И гадят на пол, мочатся на стены,
И тигр мурлычет, кровью пресыщен,
И лишь глаза горят огнем геенны.
Ему готовят европейский трон.
Пред ним рагу из падали. Он смрадом
И зрелищем гниенья упоен.
И, осмелев, шакалы бродят рядом.
И чьи-то кости в темноте хрустят.
И шепчет мир, ища смятенным взглядом:
«Где зверь? Кого он жрет?» Мой скорбный брат!
Пройди с поникшим от печали взором.
Пройди скорей и не гляди назад,
На гноище, смердящее позором!
15 Ноября 1942 Г.
* * *
«Приди и властвуй, Новый год…»[47]. Перевод Л. Гинзбурга.
[47].
Приди и властвуй, Новый год
От дня рождения Христова,
Во имя счастья всеземного
Сплотив наш человечий род!
Твой путь снегами занесен,
Но за невидимой чертою
Ты лучезарно осенен
Господней милостью святою.
Полвека и пять лет пройдет,
И год двухтысячный займется,
И новым чудом превзойдет,
Что чудом исстари зовется.
Вот белые кружатся мухи,
Чтоб молча на землю упасть.
То — силы зла, то — смерти духи,
Над всеми их немая власть!
Но только ты, новорожденный,
Ты, самый первый день в году,
От злобных чар освобожденный,
Любую сокрушишь беду
И, вызов бросивши испугу,
Шагнешь отважно в божий свет,
Где жизнь и смерть нужны друг другу
И зря дрожать — резона нет!
Итак, вперед, о Новый год,
Надеждой сладостной всесилен:
В священной битве рухнет гнет,
Грядущий урожай обилен!
Чем беспощадней приговор,
Тем жить отрадней убежденьем,
Что славой сменится позор,
Паденье в бездну — восхожденьем.
И дни, выстраиваясь в ряд,
Смыкаясь с дальним новогодьем,
Среди зимы весну таят
И летним дышат плодородьем.
Вино осеннее бурлит…
Движенье дней угодно богу…
И все зовет, и все велит:
Вперед! Вперед! Вперед! В дорогу!.
Агнетендорф, 1 Января 1945 Г.
РИКАРДА ГУХ. Перевод И. Грицковой.
Рикарда Гух (выступала также под псевдонимом Рихард Гуго; 1864–1947). — Последовательная сторонница неоромантизма, автор книг «Стихи» (1891), «Новые стихи» (1907), «Старые и новые стихотворения» (1920), «Осенний огонь» (1944). В поэзии Гух, по преимуществу камерной, иногда звучали и гражданские мотивы. Не скрывала своего резко отрицательного отношения к нацизму и подвергалась в годы «третьего рейха» репрессиям. После войны приняла активное участие в культурном возрождении Германии. На русский язык переводились только новеллы Гух («Светопреставление», 1970).
ТОСКА.
Чтобы ты был со мной,
Расплачусь всем на свете —
Самой горькой ценой —
За мгновения эти.
Так высокий зенит
Птиц измученных манит,
Берег, словно магнит,
Волны дальние тянет.
Так в чужой стороне
Будет снова и снова
Видеть путник во сне
Крышу дома родного.
* * *
«Бывает, что печаль с тобой не расстается…».
Бывает, что печаль с тобой не расстается.
Она тебя иссушит, истомит.
И навсегда с твоей душой срастется.
Весь мир затмит.
Все будто позади. Отраду день пророчит.
И кажется, беда не так горька.
Но нет. Она тебя повсюду жжет и точит.
Исподтишка.
Придет весна, полна тепла и света.
Не выкорчевать боль, не излечить.
И вечно будет в сердце рана эта
Кровоточить.
ВОЕННАЯ ЗИМА.
Подумать о весне.
Не вскользь, не мимоходом.
Когда вокруг беснуется зима.
Заблещет снова золотистым медом
Листвы кайма.
Кругом дрожит земля. Повсюду мрак и стоны.
Давай же помечтаем у огня,
Как желтым цветом вспыхнут анемоны,
Собою черный лес заполоня.
В луга вцепился снег, и леденеет вечер.
Но отчего средь холода и тьмы
Так сладостно пахнул весенний ветер
Среди зимы?
Проснутся в чащах звери. Оживет поляна.
Голубизною небо заблестит.
И жаворонок весело и рьяно
День возвестит.
Мы только безутешный плач слыхали —
Не шум листвы, не тихий шорох трав —
Вопль матерей, что сыновей теряли,
Все с ними потеряв.
Так есть ли бог там далеко за небосводом?
Когда кругом зола и дым глаза застлал?
Подумать о весне. Не вскользь, не мимоходом.
И помечтать, чтоб мир скорей настал.
ФРАНК ВЕДЕКИНД.
Франк Ведекинд (выступал также под псевдонимом Иероним Иовс; 1864–1918). — В стихах, восходящих к традициям Г. Гейне, и в многочисленных пьесах высмеивал буржуазное общество и его ханжескую мораль. Повлиял на Б. Брехта, назвавшего его «великим воспитателем новой Европы». Большинство стихов напечатал в журнале «Симплициссимус» с 1897 по 1902 гг. Публикация этих сатир часто затруднялась цензурой. Стихи Ведекинда переводятся на русский язык впервые.
БРИГИТТА Б. Перевод Л. Гинзбурга.
Бригитта Б. была невинна,
Нежна, застенчива, мила
И продавщицей магазина
В прекрасном Бадене была[48].
Хозяйка девушку любила,
Хоть нрав мадам и крут и строг,
А муж хозяйки — заправила
В центральном ведомстве дорог.
Но вот невинную голубку
К себе хозяйка позвала,
Чтоб та какую-то покупку
В дом баронессы отвезла.
Лишь вышла за город Бригитта,
Как некий тип — навстречу ей:
«Моя душа тобой разбита,
Я погибаю, будь моей!»
Из состраданья к прохиндею
Бригитта отдалась ему.
Он все, что надо, сделал с нею,
Схватил товар и — шасть — во тьму!
Про этот случай без утайки
Бригитта, плача и казнясь,
Поведала своей хозяйке.
Та к ней с участьем отнеслась,
Внимала не без интереса.
Но вдруг поняв: пропал турнюр,
Что заказала баронесса,
Вскипела: «Это — чересчур!»
Бригитта умереть готова,
Всю боль вложив в свой горький всхлип…
Но ту же ночь с Бригиттой снова
Провел в постели тот же тип…
Когда же в троицу, на праздник,
Все укатили на пикник,
Тот расторопный безобразник
К Бригитте с вечера проник.
Он осмотрел не без вниманья
Дом — от столов до сундуков,
Сказал Бригитте: «До свиданья!»,
Очистил сейф и — был таков!
Что это?! Связь с преступной шайкой?
А может, поворот в судьбе?..
Но, чтоб не встретиться с хозяйкой,
Сбежала прочь Бригитта Б.
Позавчера ее поймали.
Дурная кончилась игра,
Почти забавная вначале…
Любовник схвачен был вчера.
ТЕТКОУБИЙЦА. Перевод В. Швыряева.
Я тетку свою угробил.
Моя тетка была стара.
В секретерах и гардеробе
Прокопался я до утра.
Монеты падали градом,
Золотишко пело, маня.
А тетка сопела рядом —
Ей было не до меня.
Я подумал: это не дело,
Что тетка еще живет.
И чтоб она не сопела,
Я ей ножик воткнул в живот.
Было тело нести труднее,
Хоть улов мой и не был мал.
Я тело схватил за шею
И бросил его в подвал.
Я убил ее. Но поймите:
Ведь жизни не было в ней.
О судьи, прошу, не губите
Молодости моей!
СТЕФАН ГЕОРГЕ.
Стефан Георге (наст. имя — Генрих Абелес; 1868–1933). — Вождь и кумир неоромантиков. Учился у французских символистов, имел, в свою очередь, большое влияние на символистов русских (В. Брюсова, Вяч. Иванова). Его слава «надмирного витии» была опошлена нацистами, которые воздавали посмертные почести поэту, с презрением отказавшемуся от их наград и титулов при жизни и покинувшему из-за нпх страну. Причина интереса нацистских идеологов к Георге — их вульгаризированное, хотя и но совсем превратное, истолкование некоторых элементов философской и творческой концепции поэта. Важнейшие книги стихов: «Год души» (1897), «Ковер жизни, или Песня о сне и смерти» (1900), «Седьмое кольцо» (1907), «Звезда Союза» (1914). Среди переводчиков стихов Ст. Георге на русский язык были Вяч. Иванов, С. Радлов, Г. Петников и др.
«Парк называют мертвым…». Перевод В. Микушевича.
Парк называют мертвым, но взгляни:
Синеют небеса вдали светлее.
Как в эти неожиданные дни
Пруды блестят и пестрые аллеи!
Возьми седины мягкие берез
И желтизны глубокой. Сколько роз!
И поздним розам время отцвести.
Поторопись венок себе сплести!
Последних наших астр не забывай.
Багрянцем диких лоз на этой тризне,
Останками зеленой летней жизни
Осенние черты перевивай.
* * *
«Искать ее мне память поручила…». Перевод В. Микушевича.
Искать ее мне память поручила
Среди ветвей, покинутых листвою.
Безмолвно покачал я головою.
В стране лучей любовь моя почила.
Явись она, как летом, в жаркой сини,
Когда Эротам весело резвиться[49]
И робкая решалась мне явиться, —
Я был бы счастлив ей поверить ныне.
Перебродить пора бы винограду,
Но поздних злаков я не пожалею,
И полными горстями перед нею
Я расточу последнюю отраду.
* * *
«Благословенна ты в своем уделе…». Перевод В. Микушевича.
Благословенна ты в своем уделе.
Утихло сердце, боль превозмогая,
Покуда ждал тебя я, дорогая,
Когда в смертельном блеске шли недели.
В объятьях наших праздник нашей встречи,
Как будто бы далекая со мною,
И я постигну тайны нежной речи,
За солнцем следуя хвалой земною.
СЛОВО. Перевод В. Микушевича.
Нашел я клад бесценных грез,
До рубежей родных довез,
И Норна[50] в глубине времен
Искала для него имен,
Чтобы своим вручить я мог
Неувядаемый цветок.
Домой вернуться был я рад.
Богат и нежен дивный клад.
Седая Норна шепчет мне:
Имен достойных нет на дне.
Разжал я руки, как больной,
Лишился клада край родной.
И вот печальный мой завет:
Все тщетно там, где слова нет.
* * *
«Я на окне, храпя от зимней стыни…». Перевод Арк. Штейнберга.
Я на окне, храня от зимней стыни,
Цветок взрастил, но, вопреки старанью,
Меня печаля, он поник, а ныне
И вовсе покорился умиранью.
Дабы забыть судьбу его былую
Цветущую, я, на решенье скорый,
Бестрепетно сорвал напропалую
Увядший венчик, безнадежно хворый.
Нет, мне не надобно цветка больного!
Что толку в этой новой жгучей ране?
Вот возвожу пустые взоры снова,
В пустую ночь тяну пустые длани.
ЛАНДШАФТ-2. Перевод Арк. Штейнберга.
Ты помнишь ли октябрь, когда мы двое,
Сквозь пламенную киноварь листвы,
Сквозь черноту стволов и зелень хвои,
Брели, внимая смыслу их молвы?
К деревьям подступали не однажды
Мы, в нежном споре, врозь; тебе и мне
Молчалось. В шуме листьев чуял каждый
Весть о своем невоплощенном сне.
Смешок ручья прыгучий и зовущий,
В проводники пригодный по нужде,
Стихал и отдалялся в хмурой пуще
И, наконец, пропал безвестно где.
Забвенно странствуя в блаженной розни,
С тропы мы сбились. Вот и день погас;
И лишь ребенок, сборщик ягод поздний,
По верному пути направил нас.
На ощупь, продираясь меж колючих
Кустов, мы вязли в глине и песке
И увидали сквозь просветы в сучьях
Широкий дол и кровлю вдалеке.
Обняв последний ствол, к желанной цели
По склону вниз мы по цветам сошли,
Туда, где лучезарно золотели
Земля и воздух в заревой пыли.
СУМЕРКИ УМИРОТВОРЕНИЯ. Перевод Арк. Штейнберга.
Под вечер зной отхлынул поневоле;
Очнулась местность от палящей боли,
И смольно-серных туч густой осадок
Ниспал на мачты и на камень кладок.
Сады пахучие дышать не в силах,
В тропинки врос чертеж теней застылых.
Умолкли голоса, как бы уснули,
Другие — растворились в тихом гуле.
Как призрачно былых торжеств круженье!
Побоища гласят о пораженье.
В чаду порой звучит глухой и трудный
Миров порабощенных вздох подспудный.
ОТХОД. Перевод Арк. Штейнберга.
Сомкнули буки вдоль поморья кроны,
Как руки; не смолкает волн раскат.
От желтых нив сбегает луг зеленый,
И сельский дом забился в дремный сад.
Страдальца у беседки тронул мирный
Целебный луч, но юноша больной,
Витая взором в синеве эфирной,
О песне думает очередной.
Где щитоносные ладьи державно
Плывут ли, спят в заливах ли, вдали;
Где башни облаков клубятся плавно,
Обрел он берег сказочной земли.
В слезах родня, но он, без обороны,
Приемлет дар богов — благой покой,
Не сетуя, лишь грустью озаренный
Прощания, и славе чужд людской.
ДАНТЕ И ПОЭМА О СОВРЕМЕННОСТИ[51]. Перевод Арк. Штейнберга.
[51].
Когда, у врат Пресветлую узрев,
Я в трепете повергся и, сожженный,
Провидел ночи горькие, мой друг,
С участьем глядя на меня, шептал.
Я за хвалу Пресветлой был осмеян.
Ведь людям безразлично испокон,
Что, бренные, — мы песни о любви
Так замышляем, словно век пребудем.
Я, возмужав, изведал стыд страны,
Опустошенной ложными вождями,
Постиг спасенья путь, пришел с помогой,
Всем жертвуя, с погибелью сражался,
В награду был судим, ограблен, изгнан,
Годами клянчил у чужих порогов,
Подвластный лютым, — все они теперь
Лишь безымянный прах, а я живу.
Когда мой бег прерывный, скорбь моя
Над бедами, что навлекли мы сами,
Гнев, обращенный к низким, гнусным, дряблым,
Излились бронзой, — многие, внимая,
Бежали в ужасе; хотя ничье
Не ощутило сердце ни огня,
Ни когтя, — от Адидже и до Тибра[52]
Шумела слава нищего изгоя.
Но я ушел от мира, дол блаженных
Увидел, хоры ангелов заслышал
И это воплотил. Тогда решили:
Он одряхлел, впал в детство. О, глупцы!
Из печи взял я головню, раздул
И создал Ад. Мне был потребен пламень,
Чтоб озарить бессмертную любовь
И возвестить о солнце и о звездах.
СКИТАЛЬЦЫ. Перевод Арк. Штейнберга.
Они бредут средь поношений,
Недобрых взглядов и угроз.
Из царств, которых нет блаженней,
Их, говорят, орел унес;
Бредут, одним стремленьем живы,
Чтоб сызнова открылся им
Счастливый край, родные нивы,
Где пашут плугом золотым.
На диких взморьях заповедных
Они вступают в смертный бой,
Во имя гордых женщин бледных
Охотно жертвуя собой.
В их подвигах — спасенье края.
Когда отравный мечет дрот
Архангел, за грехи карая,
Они — в ответе за народ.
Но тает поздно или рано
Хвалы и славы чадный дым,
И вайи пальм и клич «осанна»
Морочат призраком пустым,
Тогда закат, суля отраду,
Усталым указует путь
Вперед, к сияющему граду,
Где суждено им отдохнуть.
За то, что в гимнах, год за годом,
Они хранили дивный лад,
Их ждет блаженный сон под сводом
Нетленных, дарственных палат.
КРИСТИАН МОРГЕНШТЕРН.
Кристиан Моргенштерн (1871–1914). — Начинал как представитель натурализма, позднее примкнул к неоромантическому движению («На многих путях», 1897). Известность приобрел главным образом как автор юмористических и абсурдистских стихов («Песни висельников», 1905; «Пальмштрем», 1910; «Пальма Кункель», 1916; «Гингганц», 1919), предвосхитивших многие авангардистские искания. Автор текстов для кабаре. Стихи Моргенштерна на русский язык переводились в 10-е годы; известен восторженный отзыв Андрея Белого о Моргенштерне.
ВОРОНКИ. Перевод Е. Витковского.
Бредут по лесу ночью две воронки
И луч луны как паутина
Тонкий струится сквозь
Отверстия
Утробные
Легко и
Тихо
И т
П
БАШЕННЫЕ ЧАСЫ. Перевод Е. Витковского.
Часы на башнях бьют по очереди,
Иначе друг друга они перебьют.
Христианский порядок, настоящий уют.
И приходит мне в голову — в час досуга
Отчего же народы
Не друг за другом бьют, а друг друга?
Это был бы гнев воистину благой —
Сперва бьет один, а потом другой.
Но, разумеется, подобная игра ума
При воздействии на политику бесполезна весьма.
КУСОК НОГИ. Перевод Е. Витковского.
Идет-бредет из края в край
Один кусок ноги.
Не дерево и не сарай —
Один кусок ноги.
На фронте вдоль и поперек
Устрелян был солдат.
Кусок ноги остался цел —
Как если был бы свят.
С тех пор бредет из края в край
Один кусок ноги.
Не дерево и не сарай —
Один кусок ноги.
ЧЕРЕЧЕРЕПАХА. Перевод Е. Витковского.
Мне много сотен тысяч дней.
Они длинны и гулки.
Один из готских королей[53]
Растил меня в шкатулке.
Века шагали — шарк да шарк.
Им не было конца.
Я украшаю зоопарк
Хейльброннского купца[54].
Пускай судьба моя слепа,
Я не дрожу от страха:
Я черепа-, я черепа-,
Я черечерепаха.
СТАРУШКА С ПРЯЛКОЙ. Перевод Е. Витковского.
Луна по небесам во тьму
Спешит походкой валкою.
На севере, в большом дому,
Живет старушка с прялкою.
Прядет, прядет… А что прядет?
Она прядет и прядает…
Как пряжа, бел ее капот —
Старушку это радует.
Луна по небесам во тьму
Спешит походкой валкою.
На севере, в большом дому,
Живет старушка с прялкою.
БАРАН-ЭСТЕТ. Перевод В. Куприянова.
Один баран
В большой буран
Берет бревно на таран.
Очень стран —
Но. Думаете, я вру?
Мне луна-кенгуру
Выдала суть секрета:
Баран-эстет
Уже много лет
Для рифмы делает это.
ДВЕ ПАРАЛЛЕЛИ. Перевод В. Куприянова.
Рядом две параллели
Шли в бесконечный путь.
До гроба они не хотели
Друг дружку перечеркнуть.
Две из почтенных фамилий,
Словно свечи, ровны.
Спесь и упрямство были
Им в дорогу даны.
Но вот, года световые
Блуждая одна с одной,
Они наконец впервые
Утратили смысл земной.
Разве они параллели?
Некому дать ответ.
Лишь души еще летели,
Слившись, сквозь вечный свет.
Свет безмерный незримо
Слил их в себе в одно.
Словно два серафима
Канули в вечность на дно.
ЭЛЬЗА ЛАСКЕР-ШЮЛЕР.
Эльза Ласкер-Шюлер (1869–1945). — Представительница и один из зачинателей экспрессионизма, немецкой разновидности литературного движения, охватившего всю Европу в пред- и частично в послевоенные годы (итальянский и русский футуризм, английский имажизм, французский и чешский сюрреализм). В немецкой литературе влияние экспрессионизма испытали все крупные писатели, даже такие, на первый взгляд, далекие от его идейной и эстетической концепции, как Генрих Манн и Райнер Мария Рильке. Э. Ласкер-Шюлер сыграла важную роль в обновлении поэтического языка в первые десятилетия века. Лирические и философские стихи в «Стиксе» (1902), «Еврейских балладах» (1913), «Моем синем рояле» (1943) ассоциативны, музыкальны, богаты неологизмами и неожиданными словоупотреблениями. Поэтесса вела скитальческий и богемный образ жизни, умерла в крайней нищете в Палестине, куда эмигрировала через Швейцарию, спасаясь от нацистских преследований.
Первые переводчики Ласкер-Шюлер на русский язык — В. Нейштадт и С. Тартаковер (оба — в 1923 г.).
МОЙ СИНИЙ РОЯЛЬ[55]. Перевод И. Грицковой.
[55].
В доме моем рояль стоял
Небесно-синего цвета.
Его убрали в темный подвал,
Когда озверела планета.
Бывало, месяц на нем играл.
Пела звезда до рассвета…
…Сломаны клавиши. Он замолчал.
Для крыс ненасытных прибежищем стал.
…Синяя песенка спета.
Горек мой хлеб. Если б ангел знал!
Ах, если б он ведал это —
При жизни мне б на небо путь указал,
Вне правила и запрета.
УСТАЛО СЕРДЦЕ… Перевод Е. Гулыга.
Устало сердце и легло в покое
На бархат-ночь, грустя,
А звезды у меня на веках дремлют.
Этюд течет серебряной рекою,
И нет меня, и тысячу раз я,
И проливаю мир на нашу землю.
Жизнь сыграна, аккорд последний взят.
Так бог судил, и я у грани бытия.
Псалом умолк, но мир ему все внемлет.
СЕННА-ГОЙ[56]. Перевод Г. Ратгауза.
[56].
Когда схоронили тебя на холме,
Сладкой стала земля.
Я иду, чуть касаясь тропы,
И пути мои так безгрешны.
О, розы крови твоей
Напоили нежностью смерть.
И я не боюсь умереть
Отныне.
И уже на могиле твоей
Я зацветаю вьюнками.
Твои губы так звали меня, —
Не вернется ко мне мое имя.
Я засыпана той же землей,
Что тебе кидали на гроб.
Оттого я живу в темноте
И подернуты сумраком звезды.
И я стала чужой
И совсем непонятной для наших друзей.
Но у входа в тишайший град
Ты ждешь меня, мой архангел.
ДЕНЬ ПОМИНОВЕНЬЯ. Перевод 3. Морозкиной.
На берег рушится волна.
Вода струями сверху налетела.
Но теплится свеча, что мною зажжена.
Я мать любимую увидеть бы хотела…
В песок прохладный телом я погружена
И знаю: этот мир душе дороже тела…
Душе я больше не нужна.
Ее бы я в наряд из раковин одела, —
Но, к этой грубой плоти приговорена,
Она в залог мне милой матерью дана.
Слежу за ней тайком — далёко залетела.
Ее приют — моих багровых скал стена.
Она гнездится там, а я осиротела.
СУМЕРКИ. Перевод 3. Морозкиной.
Устало я глаза полузакрыла
На сердце у меня туман и мгла
Я руку жизни больше не нашла
Которую когда-то отстранила
И вот меня безмерно поглотила
И во плоти на небо увлекла
А раннею порою я цвела
Ночь радостно меня взрастила
Мечта своей волшбою напоила
Теперь от щек моих бледнеют зеркала
БЕРРИС ФОН МЮНХГАУЗЕН. Перевод Арк. Штейнберга.
Беррис фон Мюнхгаузен (1874–1945). — Вслед за англичанином Р. Киплингом возродил жанр баллады, воспевающей воинские и рыцарские доблести: «Баллады» (1901), «Книга рыцарских песен» (1903), «Сердце под кольчугой» (1912), «Книга баллад» (1924, 1943). После первой мировой войны реваншистские настроения привели его к нацистам. После разгрома гитлеровской Германии покончил с собой. Мы печатаем ранние стихи поэта, в которых сильна гуманистическая традиция.
ЗОЛОТОЙ МЯЧ.
Я в отрочестве оценить не мог
Любви отца, ее скупого жара;
Как все подростки — я не понял дара,
Как все мужчины — был суров и строг.
Теперь, презрев любви отцовской гнет,
Мой сын возлюбленный взлетает властно;
Я жду любви ответной, но напрасно:
Он не вернул ее и не вернет.
Как все мужчины, о своей вине
Не мысля, он обрек нас на разлуку.
Без ревности увижу я, как внуку
Он дар вручит, что предназначен мне.
В тени времен мерещится мне сад,
Где, жребием играя человечьим,
Мяч золотой мы, улыбаясь, мечем
Всегда вперед и никогда назад.
СТАРЫЕ ЛАНДСКНЕХТЫ.
Есть в Небесах домишко простой,
Где находят вояки посмертный постой.
Вдали от пророков и ангельской своры
Они у камина ведут разговоры,
Гонимые пасынки райской семьи,
Ландскнехты, спасшие души свои.
Наскучив молчанием благоговейным,
Рубаки вздыхают о флягах с рейнвейном.
Ан в Небесах угощаться нельзя!
Разве что херувимчик босой,
Среди облаков разноцветных скользя,
Напоит их свяченой росой…
Сыграть бы в картишки, ругаясь при этом!
Но карты и ругань в Раю под запретом;
Когда же бедняги идут напролом,
Из уст вылетает не брань, а псалом.
Тут, изумленный таким превращеньем,
Мнется ослушник с великим смущеньем;
Побагровев, как бурак молодой,
Глупо молчит и трясет бородой.
Да, трикраты блаженны они!
Но боже! Как мало в Раю солдатни!
Щеголи, весельчаки, горлопаны,
Их собутыльники и друзья,
Рубленый сброд, оголтелый и пьяный,
Грешное братство меча и ружья, —
Все они, все, по воле господней,
Коптятся и жарятся в преисподней.
Иногда искушают спасенных солдат
Знакомые громы, что снизу летят.
Барабанная дробь рассыпается там:
«Тара-там-там-там, тара-там-там-там».
Бегут ландскнехты к небесным вратам
И жадно глядят, толпясь на пороге,
В пыльную пропасть, где вьются дороги,
Где барабан на парад сзывает,
Где фанфара, как щука, пасть разевает;
Лошади ржут, оружие блещет,
Рваное знамя в воздухе плещет,
Деревни горят, и пламя, играя,
Клубится к вратам постылого Рая.
Ландскнехты смакуют знакомую гарь,
Вслушиваются в хриплые трубы,
Трясутся их руки, сжимаются зубы…
Но тут появляется Петр-ключарь
И гонит несчастных ландскнехтов назад.
Еще последний, единственный взгляд!..
Они сидят у камина снова,
Но ни один не промолвит слова.
Они внимают, как еле-еле
Бормочут внизу барабанные трели,
Как ветер доносит к небесным вратам:
«Тара-там-там-там, тара-там-там-там…»
РУДОЛЬФ БОРХАРТ. Перевод В. Леванского.
Рудольф Борхарт (1877–1945). — Поэт идейно отошел от круга Георге, но так и остался автором для интеллектуальной элиты. Более известен как переводчик античных писателей. Значительное время жил в добровольном изгнании в Италии, где и был схвачен гестапо в 1944 г. Умер вскоре после удавшегося побега из концлагеря. Книги стихов — «Полуспасшаяся душа» (1920), «Творение из любви» (1923), «Ямбы» (в названии обыгрывается древнегреческое значение слова — «стихи-поношения», 1935; изданы посмертно в 1967 г.) и др. — свидетельствуют о большом формальном мастерстве в сочетании с некоторой тематической и эмоциональной бедностью. Переводится впервые.
НАДПИСЬ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ ЗЕРКАЛА.
Если в зеркало она глядится,
Снова, снова я шепчу:
«Что за чудо — не спугните… чу! —
В этом тусклом обруче таится…»
Зеркало, все прочее — забвенье,
Все — игра пустых теней,
Если только от нее и к ней
Нежное летает отраженье.
Просияй — и счастья целый ворох
Ей верни, и пусть в лучах
Сумрак пропадет, растает страх —
Безотчетный, скользкий страх во взорах.
В горький час яви моей любимой
Светлый лик — тот самый лик,
Глядя на который я постиг
Чудо жизни в миг неповторимый.
БОКАЛ.
Ты глядишь, бокал вина,
Как глаза моей тревоги.
Или впрямь душа больна?
Мрак мерцает черноокий.
Переливы льда в кругу стекла,
Зеркало теней, крутая мгла.
Над бокалом аромат —
Над бокалом бесы скачут.
Жажду дикую таят,
Злость и яд в ухмылке прячут.
У меня в мечтах она одна —
И звенит в ушах: «Так пей до дна».
Не грусти, любовь моя,
Обо мне не думай плохо.
Хоть и много выпил я,
Все же я не выпивоха:
Пьяница у бочки задремал,
А тебя я вижу сквозь бокал.
Подниму бокал огня
И поставлю осторожно.
Этот лед обжег меня.
Неужели невозможно
Поднести к губам ее ладонь,
Чтоб проник сквозь камень мой огонь?
МАНОН[57].
[57].
Мой милый друг, тебя мне жаль:
Один — всю ночь — у моего порога!
Мне душу бередит твоя печаль.
Но все пройдет. К чему тревога —
Ничто не вечно. Я в себе не властна.
К примеру, если заново начать,
Как знать, — а вдруг все сложится прекрасно,
Все то, что не сбылось, — как знать.
Откуда золото? Ответ туманный:
Об этом знает новый кавалер.
Но если он залез в твои карманы,
Я награжу тебя на свой манер.
На все твои мольбы, записки, речи
Что мне сказать? Я только вся в слезах.
Назначь мне час и место встречи.
Мы будем рядом — и что мне страх!
Не скрою, я пленилась новизною.
Она прекрасной кажется всегда.
Оставь упреки — я тебя не стою.
Избавь меня от ложного стыда.
Казалось мне, когда была твоею,
Что я люблю. Но ты забудь мечту.
Нет, я не для тебя. Я не сумею
Найти в себе любовь и чистоту.
Хороший мой, постой, не уходи же!
Останемся друзьями. Слово дам,
Другие недурны, но ты мне ближе.
Ты мне по нраву — ты знаешь сам.
Как девочка на шаре, я ликую.
Мне боязно — но поиграть позволь,
Не возноси меня на высоту такую:
Сорвусь — а для тебя такая боль!
ГАНС КАРОССА. Перевод Арк. Штейнберга.
Ганс Каросса (1878–1956). — Был в начале творческого пути приверженцем неоромантизма («Стихи», 1910; «Бегство», 1916, и др.), позже тяготел к классической традиции («Звезда над морем огней», 1946; последние разделы в «Собрании стихотворений», 1948). Позиция поэта в гоцы войны была двойственна: оставаясь в Германии и даже возглавив созданный фашистами Всеевропейский союз писателей (1941 г.), он в своем творчестве этих лет был крайне далек от идей национал-социализма, апеллировал к человеческой совести, к милосердию, что само по себе было для заправил «третьего рейха» «контрпропагандой». Поэтому Каросса считается одним из важнейших представителей так называемой «внутренней эмиграции» (это видно и из публикуемых в томе стихотворений). Его стихи на русский язык впервые были переведены И. Фрадкиным (1969).
ПЛЕННИЦЫ И СТАРИК.
Когда мы стелем на снегу полотна,
От ветра сгорбясь, и едва бредем,
Охранники нас обступают плотно,
Следя за нашим каторжным трудом.
Угрюмый сброд, победой охмеленный, —
Вы бедный мой народ готовы сжечь!
Один лишь к нам добросердечно склонный
Старик, что разумеет нашу речь.
Он нам не враг. Он знает наше горе.
Я думаю: он страшно одинок
Среди конвойных, в полупьяной своре.
Знать, он из тех, кого отметил бог!
Враги меня зовут последней дрянью,
Лентяйкой, — но старик совсем иной;
Он ворожит по звездам и Писанью.
Мудрец, он предсказал мне, что весной,
Как ласточки, воротимся мы снова
На родину, — так он шепнул, как друг,
И по ночам, в бараке, это слово —
Бальзам для изъязвленных наших рук.
1942.
НАД НЕПОГОДОЙ.
Туман приполз; густеет муть сырая.
Ручей, сквозь пламенные веретена
Огней последних окон, мчит бессонно.
Все отсветы померкли, догорая.
Бреду во мгле, прислушиваясь к гуду.
Глаза двух коз — попутчиц боязливых
Следят за мной. Вдруг в каменных массивах,
В их недрах что-то вздрогнуло, и всюду
Травинки взвихрены зачином шквала;
Но стебли гибкие меня учили,
Как дать отпор внезапной грубой силе.
Вперед! — и этой мглы как не бывало.
Крутыми стежками всхожу на склоны,
А там, над смольной празеленью хмурой
Глухих низин, ширяет коршун бурый,
Слепящим светом сверху озаренный.
ЭРИХ МЮЗАМ.
Эрих Мюзам (1878–1934). — Поэт, драматург, публицист. Дебютировав как экспрессионист («Пустыня, кратер, облака», 1914), постепенно отошел от этого направления в стремлении к прямому публицистическому эффекту («Горящая земля», 1920). В 1919 г. был участником борьбы ва создание Советской республики в Баварии. В начале 30-х годов резко выступал против фашизма. Был помещен в концлагерь, где нацисты инсценировали его самоубийство. Стихи и рассказы Мюзама печатаются у нас начиная с 20-х годов.
Р-Р-РЕВОЛЮЦИОНЕР. Перевод С. Маршака.
Германской социал-демократии.
Он мирно чистил фонари,
Но записался в бунтари
И вдоль по улице под флагом
Шагал р-р-революцьонным шагом.
Кричал он громко: «Я бунтую!»
А шапочку носил такую,
Что говорила напрямик:
Мой обладатель — бунтовщик!
Но люди с флагами шагали,
Заняв всю улицу в квартале,
Где он обычно до зари
Усердно чистил фонари.
Когда ж рабочие отряды
Решили строить баррикады
И принялись под треск пальбы
Валить фонарные столбы,
Он возмутился: «Что такое?
Столбы оставьте вы в покое!
Зачем валить их, дикари?
Я чищу эти фонари!»
В ответ раздался дружный хохот,
Потом донесся звон и грохот.
И вот защитник фонарей
Домой убрался поскорей.
И, безотлучно сидя дома,
Он написал два толстых тома:
«Как записаться в бунтари
И мирно чистить фонари».
ПАВШИЙ БОЕЦ. Перевод В. Левика.
Кто заснул могильным сном,
Тот любви не знает.
Тот не спросит, кто о нем,
Плача, вспоминает.
Что ж о мертвых нам скорбеть, —
Надо жить живому!
Только жизнь он должен впредь
Строить по-иному.
Ведь свободен тот, кто спит
Под могильной кущей.
Из цепей, нужды, обид
Вырвись ты, живущий!
Коль достойна смерть венца,
Делу павших следуй.
Меч возьми у мертвеца
И вернись с победой!
Пал один — другие в строй!
В бурю ли, в ненастье —
Каждый миг бросайся в бой
За людское счастье!
И в оплату за друзей,
Кровь проливших смело,
О погибших слез не лей,
Завершай их дело!
ПАУЛЬ ЦЕХ.
Пауль Цех (писал также под псевдонимами Тимм Бора и Пауль Роберт; 1881–1946). — Представитель левого крыла экспрессионизма, так называемого «активизма» (от названия журнала «Акцион» — действие, — вокруг которого группировались поэты-экспрессионисты, близкие коммунистической и социал-демократической партиям Германии). Книги Цеха («От Кресси до Марны», 1916; «Голгофа», 1920, и многие другие), проникнутые симпатией к угнетенным и обездоленным, были запрещены и сожжены нацистами. После годичного пребывания в гитлеровском застенке Цех эмигрировал в Южную Америку. Сотрудничал в советском журнале «Интернациональная литература». Отдельные стихи Цеха переводились у нас в 20-е годы. Его обширное и весьма неравноценное творческое наследие опубликовано лишь частично.
ЛИШЬ ПОВИНУЯСЬ ВОЛЕ ПАВШИХ… Перевод Л. Гинзбурга.
Лишь повинуясь воле павших,
В себе мы силу жить нашли.
Вскипела кровь в сердцах уставших —
Ужасен крик из-под земли!
И только тот, кто с ними слился
На крайней грани бытия,
Все отдал им, всем поделился,
Забыв про собственное «я»,
Тот станет зрячим, мудрым, вещим,
Не устрашится ничего,
И даже тайнам тайн зловещим
Теперь не скрыться от него.
И в каждом выстреле и стуке,
Звучащем в черноте ночной,
Услышит он, как стонет в муке
Кровоточащий шар земной.
1940.
ГЕРМАН ГЕССЕ.
Герман Гессе (1877–1962). — Один из крупнейших писателей немецкого языка, прозаик и поэт. Большую часть жизни прожил в Швейцарии, гражданином которой стал в 1923 г. Лауреат Нобелевской премии (1946 г.). У нас известны его стихи, написанные от имени Йозефа Кнехта, героя романа «Игра в бисер» (1943; русское издание — 1969).
РАВЕННА. Перевод П. Мальцевой.
Я тоже побывал в Равенне.
То город мертвый и пустой.
Руины, паперти, ступени —
Тысячелетней немотой
Все дышит. Сумрак улиц влажный
Невольно вызывает вздох.
Шаги, и эха шум протяжный,
И камни в трещинах, и мох.
Равенна! Отзвук песен старых…
Не улыбаясь, внемлешь им
На этих древних тротуарах,
Тоской забвенного томим.
ВСЕ СМЕРТИ. Перевод П. Мальцевой.
Всеми смертями я умер уже,
И каждою смертью снова хочу умереть,
Умереть каменной смертью в скале,
Умереть глиняной смертью в песке,
Смертью древесной во древе,
Лиственной смертью в лепечущей летней листве,
И бедной кровавой человеческой смертью.
Цветком хочу я опять родиться,
Деревом и травой хочу я опять родиться,
Оленем и рыбой, птицей и бабочкой.
Из каждого образа
Возводит моя тоска
Ступени к последней скорби,
К скорби людской.
О трепетная тугая дуга,
Тоска безумствующим кулаком
Хочет свести воедино
Оба полюса жизни!
Неоднократно, снова и снова, все чаще
Ты гонишь меня от смерти к рожденью,
К началу полного боли пути,
Божественного пути.
МОТЫЛЕК. Перевод П. Мальцевой.
Вот мотылек залетный
Пляшет над лампой — мал,
Хрупок, как дух бесплотный,
Вспыхнул, сверкнул, пропал.
Так, повстречавшись с нами,
Как мимолетный свет,
Счастье взмахнет крылами,
Вспыхнет, сверкнет — и нет.
ПЕЧАЛЬ. Перевод А. Ларина.
Вчерашнюю кипень сметает
Сегодняшний суховей.
Цветок за цветком облетает
С древа печали моей.
Их ветром гонит, гонит,
Как стаю белых мух.
В молчанье отзвук тонет,
И цепенеет слух.
На небе звезд не стало,
В сердце любовь умерла.
Даль черноту распластала,
В мир пустота вошла.
Кто о приюте мечтает
В годину бед и смертей?
Медленно облетает
Древо печали моей.
ИОАХИМ РИНГЕЛЬНАЦ. Перевод Л. Гинзбурга.
Иоахим Рингельнац (наст. имя — Ганс Бёттигер; 1883–1934). — Сатирик, куплетист, пародист, автор текстов для кабаре. Антибуржуазные, полные тематической и формальной новизны, стихи поэта («Стихи о спорте», 1920; «Куддель Даддельду», 1920 и 1923, и др.) были запрещены нацистами как образец «вырожденческого искусства». Переводится впервые.
АФИШНЫЕ ТУМБЫ.
Афишные тумбы, возможно,
В чем-то сродни маякам:
Их дождь поливает безбожно,
Ветер сечет по бокам.
Но как их пестро наряжают!
И средь городской кутерьмы
Сулят они, ржут, угрожают
И лгут еще хлеще, чем мы.
Приходит злодей спозаранку
И варварски, как говорят,
Срывает, поставив стремянку,
Нарядный афишный наряд.
Затем с вдохновенной отвагой
Он кисть и ведерко берет,
Чтоб новою пестрой бумагой
Оклеить им зад и перёд.
Театр… Выставка… «Все для невесты…»
Сигары… Убийство… Режим…
Спорт… Церковь… Протезы…
Протесты… Рисунки и подписи к ним.
Нет, я в облаках не витаю:
Все важным я здесь нахожу,
И все, что я здесь прочитаю,
Я дома жене расскажу.
Стихов не постиг ее разум,
Ей книги даются с трудом,
Но, внемля этим рассказам,
Она говорит мне: «Идем!»
Туда, где средь ливней шквальных
Афишные тумбы стоят
И много проблем весьма актуальных
Для любознательного современного человека в себе таят.
МАЛЕНЬКИЕ АКТЕРЫ.
О никчемных, маленьких актерах
С нежностью я думаю всегда,
О жрецах искусства, для которых
Ничего нет выше их труда.
Их, в программках набранных петитом,
Да и не известных никому,
Не терзает зависть к знаменитым.
Сами не ответят почему.
Попранные грубым самомненьем,
Театром лишь поглощены одним…
Но зато с каким благоговеньем
По ночам девчонки внемлют им!
В старых временах они застряли,
Их порывам крыльев не дано, —
Только сберегли, не растеряли
То, что мы растратили давно.
Честность — это высшее искусство,
Дар священный — быть самим собой.
Пусть же вам за бескорыстность чувства
Будет щедро воздано судьбой!
РОБКОЕ СЛОВО.
Жило
Робкое слово…
Оно
Было случайно обронено,
В испуге тотчас под диван
Забилось,
Где и забылось…
Потом было вот что:
В субботу рано,
При выколачиванье дивана,
Слово
Берте в левое ухо
Влетело…
(Левое было глухо.)
Но тут внезапный порыв ветерка
Слово вынес под облака,
И слово
Пристроилось — прямо с лёта —
В полупустой голове пилота.
Затем,
Очевидно, не выдержав качку,
Упало вниз оно,
На батрачку,
Обнимаемую батраком,
При этом плакавшую тайком.
Слово
Ресницы ей осушило,
Как будто именно к ней спешило,
Чтоб просветлело ее лицо…
Но тут литератор приметил словцо,
Звучавшее искренне, хоть и тихо.
Раздул, разодел, разукрасил лихо
И преподнес его, как на блюде:
Нате, мол, ешьте, добрые люди!..
И жалкое, бедное
Слово,
Дрожащее,
Испорченное, будто ненастоящее,
Пошло скитаться по белу свету,
Пока не досталось оно поэту,
Который бережно перенес
Его
В свое царство волшебных грез…
Вдруг является пародист,
Он был предприимчивый малый.
Достал из портфеля бумажный лист.
Словцо осмотрел: — Подойдет, пожалуй!.
Смешал его
С дерьмом и ядом,
С мелодийкой,
Содранной у какой-то бездарности.
И слово пошло колесить по эстрадам,
Достигнув вершин популярности.
Теперь оно громко звучит «в народе»
И все же
Не изменило своей природе,
И в новом обличье, и в новой коже.
Таится в самой его сердцевине
Нечто никем не расслышанное,
Так и не узнанное доныне,
Робкое и возвышенное.
ЭРНСТ ШТАДЛЕР.
Эрнст Штадлер (1883–1914). — Неоромантик («Прелюдии», 1905), затем экспрессионист. Название его главной книги — «Взлом» (1914) — стало лозунгом раннего экспрессионизма. В подчеркнуто урбанистической лирике поэта преобладают социальные мотивы. Убит на фронте первой мировой войны. Стихи Штадлера переводятся на русский язык с начала 20-х годов.
ИЗРЕЧЕНИЕ. Перевод И. Грицковой.
В старинной книге я нашел слова одни —
С тех пор они огнем мои буравят дни.
И если мне на ум придет порою
Суть ложью подменять, а естество игрою,
Лгать самому себе и тешиться обманом,
Звать белым черное, прозрачное туманом,
Нарочно отрицать все то, что не постиг,
И называть своим, чего я не достиг,
И если жизнь чурается меня,
И ускользают прочь и свет, и краски дня,
Мир станет чужд, охватит сердце жуть, —
Я вспомню те слова: «Свою постигни суть!»
ВРЕМЯ ЗАКРЫТИЯ МАГАЗИНОВ. Перевод Л. Гинзбурга.
Семь… Это время закрытия магазинов.
Из полутемных подъездов, из узких ущелий дворов, из гигантских
Пассажей и павильонов, прилавки покинув,
Идут продавщицы домой. Почти незрячие, еще оглушенные —
Целый день в заточенье: духота, толкотня, шум, ор —
Они выходят в летний дурманящий вечер, в его возбуждающий,
Чуть сладострастный, распахнутый настежь простор.
И тогда, кажется, начинают звенеть веселей и светлеть мрачные
Трамваи, изнемогшие от немыслимых перегрузок,
И улицы до отказа наполнены смехом девушек, а тротуары
Расцвечены бесчисленным множеством пестрых блузок…
Клокочут улицы, пенятся, как пенится море, в которое
Врывается с молодым напором река, грохочущая, бурная,
Неуемная, скорая.
Над безразличьем, над серостью, над похожестью однообразных
Прохожих
Торжествует многоцветье, многообразье, многозвучье
Судеб, друг с другом не схожих!
И тают тяготы дня, и заботы сходят на нет, повинуясь
Кипению ярому,
Как если бы через несколько часов все опять не пошло бы
По-старому!
Если б не ждали этих нарядных девушек пригородные
Кварталы, закоулки, глухие задворки,
Усталые родители с плачущими малышами, скудный ужин,
Сырые каморки,
И короткий сон, — ах, что снилось, когда бы вы знали, вставать
Не хотелось, так было сладко! —
Все это ждет их… Вечер, как зверь, поджидающий жертву.
И у этого зверя — мертвая хватка.
Даже самых счастливых, что под руку с другом идут, чуть ли
Не пританцовывая,
Ожидает такое же одиночество, та же мерзость и серость
Свинцовая,
И средь пестрой толпы — летний город словно пылает
Гвоздиками —
Страх пугает их страшными масками, мертвыми ликами,
И, прижавшись плотнее к дружкам, руки они ищут
Спасающей,
Словно старость пришла и нависла над ними незримо,
Как день угасающий.
ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР.
Лион Фейхтвангер (1884–1958). — Создатель исторического романа нового типа; драматург и поэт. Убежденный антифашист. В 1939–1940 гг. был интернирован во Франции, застигнут немецкими войсками и с трудом спасся, бежав в США, где провел последние годы жизни. В стихах, написанных во время первой мировой войны, проявилась пацифистская позиция Фейхтвангера тех лет. Творчество Фейхтвангера хорошо знакомо советскому читателю.
ПЕСНЯ ПАВШИХ. Перевод Л. Гинзбурга.
Мы здесь лежим, желты, как воск.
Нам черви высосали мозг.
В плену могильной немоты
Землей забиты наши рты.
Мы ждем ответа!
Плоть наша — пепел и труха,
Но, как могила ни глуха,
Сквозь глухоту, сквозь сон, сквозь тьму
Вопрос грохочет: «Почему?»
Мы ждем ответа!
Пусть скорбный холм травой зарос,
Взрывает землю наш вопрос.
Он, ненасытен и упрям,
Прорвался из могильных ям.
Мы ждем ответа!
Мы ждем! Мы только семена!
Настанут жатвы времена.
Ответ созрел. Ответ идет.
Он долго медлил. Он грядет.
Мы ждем ответа!
ОСКАР ЛЕРКЕ. Перевод И. Грицковой.
Оскар Лерке (1884–1941). — Не примыкал ни к одному из направлений. Мастер пейзажной и философской лирики, зачастую с включением мифологических и других античных мотивов, имевшей позднее широкий резонанс в поэтических кругах ФРГ. Автор сборников стихотворений «Странствие» (1911), «Музыка Пана» (1915), «Тайный город» (1921) и gp. При нацизме подвергся репрессиям. Стихи поэта о нацизме («Годы злодеяний») опубликованы посмертно в 1958 г. На русский язык переводится с начала 20-х годов.
ПИСЬМО.
Лежу один средь темноты.
А где-то лампу погасила ты.
И всюду вечер, вечер. Мрак и тишь.
Друг друга нам услышать не дано.
Ничто не сдвинет очертанья крыш.
Песчинки — ты, твой дом, твое окно.
А что случись с тобой — мне не узнать.
И даже если ты умрешь — мне не узнать.
И не узнаешь ты, коль я умру….
И ты и я — песчинки на ветру.
КОСТЕР.
Туман горит багрово-красным цветом.
А где-то позади него неистовствует пламя.
И рвется в горы прочь
От сердцевины костра.
Вот он — последний след.
Дни на исходе.
Завядший день еще раз расцветает,
И пеплом шелестит,
И принимает очертанья ночи,
И нестерпимое молчание в груди
Ко мне взывает:
Никто не мог оставить
Здесь свой след.
На рассвете наступившем,
На костре, давно остывшем,
Сон у быстрого ручья!
Вот он — последний след
На склоне дней.
ЧЕРТА ГОРОДА.
Ничто не проходит бесследно.
Сосчитаны даже уснувшие зерна в колосьях.
Но рвется наружу криком
Неутолимая скорбь.
И никого не убили.
Но в сумерках чьи-то руки
Кровь смывают с земли.
У каждого есть своя пристань.
Место мое — здесь.
Я вижу, как расцветают
В саду цветы и как звезды
Карабкаются в заброшенное
Корыто с водой.
ЯКОБ ВАН ГОДДИС.
Якоб ван Годдис (наст. имя— Ганс Давидсон; 1887–1942). — Экспрессионист, автор нашумевшего стихотворения «Конец света» и одноименной книги стихов (1918). Эсхатологические видения пронизывают все — крайне незначительное по объему — творческое наследие поэта. Рано развившееся душевное заболевание привело его в психиатрическую лечебницу; погиб в одном из гитлеровских лагерей уничтожения. Отдельные стихи Годдиса известны советскому читателю по переводам Б. Пастернака и В. Нейштадта.
НЕБЕСНАЯ ЗМЕЯ. Перевод Б. Пастернака.
Жарки дни, и ночи глухи.
В окнах тени, точно духи,
И порочны
Их движенья.
На лету
Пышут водкой
В темноту
Лица привидений.
«К тверди ринемся туманной,
Обманув ее охрану.
Месяц скроется из виду,
Звезды не дадут в обиду.
Свет ли то или потемки?
Песнь, мольба иль спор негромкий?
Во дворце ль мы, в хате ль тесной?
Тише, мы в стране чудесной».
Пропасть войск идет походом,
Стройно в небе маршируя.
Тьма друзей от них по сводам
Убегает врассыпную.
Мысль чумеет от вопросов.
Нынче их не разрешат.
Марш, рехнувшийся философ,
Под ушат!
КОНЕЦ СВЕТА. Перевод Л. Гинзбурга.
Сегодня на ветру не постоишь: —
Уносит шляпы!.. Что за наважденье!
В газетах пишут: всюду наводненье.
Срывает ветер черепицу с крыш.
Моря взбесились. Шалая вода
Смывает дамбы, затопив заставы.
Все кашляют, чихают… Ах, беда!
С мостов под насыпь валятся составы.
НОЧНАЯ МЕЛОДИЯ. Перевод И. Грицковой.
Когда заря по небу полоснет
И хлынет кровь багряная на море,
Осатанелым светом вспыхнут лампы,
Пронзая новорожденную ночь.
И люди в стороны шарахнутся от света,
Бродяги закричат, и всхлипнут дети,
Мечтая о лесах, и сумасшедший
На своей кровати
Запричитает: «Мне куда податься?
Зачем мы выбрались незваными гостями
Из чрева материнского на свет?
Хоть друг до друга нам и дела нет,
Чужие сны бессовестно буравим,
Клянем друг друга, мучаем и травим,
В чужое тело врезавшись костями.
Но умирать никто из нас не хочет,
И мы не одиноки, как луна,
Которая погибель нам пророчит, —
Одарит смертью за любовь она.
Там подо мной больная ночь стихает.
Зловеще встанет скоро новый день
И черный цвет безжалостно растопит.
Неужто будет он еще свирепей,
Чем день вчерашний, поглощенный ночью?»
Раскаты труб звучат с горы проклятой.
Когда же землю с морем примет бог?
ГЕОРГ ГЕЙМ.
Георг Гейм (1887–1912). — Лидер так называемого «черного экспрессионизма» (Г. Бенн, Г. Тракль, ранний Б. Брехт), урбанист, запечатлевший в своих стихах кошмары капиталистического города. Утонул, катаясь на коньках по льду озера, что «предсказано» в одном из его стихотворений. Печатался главным образом в экспрессионистических журналах; полное собрание стихов вышло посмертно, в 1947 г. Стихотворение «Россия», публикуемое в настоящем томе, представляет собой поэтический отклик на сообщения о страшной судьбе русских политзаключенных в Сибири, появлявшиеся и в немецкой печати.
ПРИЗРАК ВОЙНЫ. Перевод Б. Пастернака.
Пробудился тот, что непробудно спал.
Пробудясь, оставил сводчатый подвал.
Вышел вон и стал, громадный, вдалеке,
Заволокся дымом, месяц сжал в руке.
Городскую рябь вечерней суеты
Охватила тень нездешней темноты.
Пенившийся рынок застывает льдом.
Все стихает. Жутко. Ни души кругом.
Кто-то ходит, веет в лица из-за плеч.
Кто там? Нет ответа. Замирает речь.
Дребезжа сочится колокольный звон.
У бород дрожащих кончик заострен.
И в горах уж призрак, и, пустившись в пляс,
Он зовет: бойцы, потеха началась!
И гремучей связкой черепов обвит,
С гулом с гор он эти цепи волочит.
Горною подошвой затоптав закат,
Смотрит вниз: из крови камыши торчат,
К берегу прибитым трупам нет числа,
Птиц без сметы смерть наслала на тела.
Он спускает в поле огненного пса.
Лясканьем и лаем полнятся леса,
Дико скачут тени, на свету снуя,
Отблеск лавы лижет, гложет их края.
В колпаках вулканов мечется без сна
Поднятая с долу до свету страна.
Все, чем, обезумев, улицы кишат,
Он за вал выводит, в этих зарев ад.
В желтом дыме город бел как полотно,
Миг, глядевшись в пропасть, бросился на дно.
Но стоит у срыва, разрывая дым,
Тот, что машет небу факелом своим.
И в сверканье молний, в перемигах туч,
Под клыками с корнем вывернутых круч,
Пепеля поляны на версту вокруг,
На Гоморру серу шлет из щедрых рук.
РОССИЯ. Перевод Л. Гинзбурга.
За Верхоянском, средь безлюдной мглы,
На каторжные загнаны работы,
Угрюмые бредут седые роты,
И день, и ночь гремят их кандалы.
Но рты молчат. Мы их не слышим речи.
Лишь в рудниках стоит неясный гул…
Вооружен бичами караул.
Удар! Худые вздрагивают плечи…
Колонии возвращаются в бараки.
Луна — тусклей ночного фонаря.
Идут в снегу протоптанной тропою.
Им зарево мерещится во мраке
И на шесте, над страшною толпою,
Отрубленная голова царя!!
Март 1911 Г.
* * *
«Холмы и поле за полем…». Перевод Г. Ратгауза.
Холмы и поле за полем
Затопила синяя тьма.
Она захватила все реки,
Все деревья и все дома.
Облаков белопарусных стая,
Их ровный по небу бег.
Небо, как берег далекий,
Омывают ветер и свет.
Когда этот дымный вечер
Глаза нам закроет рукой,
Легконогие сны в наши двери
Входят бесшумной толпой.
Над их головами кимвалы
Позвякивают едва.
Они держат яркие свечи
И тихие шепчут слова.
С БЕЗЛЮДНЫМИ КОРАБЛЯМИ. Перевод Г. Ратгауза.
С безлюдными кораблями
Мы вышли в море сперва,
И ярко-белые зимы
К нам плыли, как острова.
Пустое и звонкое небо
Кольцом окружило нас,
И наш кораблик по волнам
Пустился в яростный пляс.
Назови мне город,
Где я не сидел у ворот.
Но та, чей локон я срезал,
Больше ко мне не придет.
Я выспрашивал мертвые зори,
Ловил я отсветы дня,
Но чье-то лицо чужое
Глядело на меня.
Я вызывал тебя долго
В стране прощания, там,
Где пустовзорые тени
Ходили за мной по пятам.
Дорога вела меня в поле,
Где в зябком небе стоят
Безлиственные деревья,
Угрюмый и черный ряд.
Сов и воронов черных
Я выслал дозором в поля.
Они сторожили повсюду,
Где чернела земля.
Они канули, словно камень
В черную шахту реки,
Зажавши в железных клювах
Соломенные венки.
Порой просквозит, как ветер,
Твой голос издалека,
Я сплю, и виски мне гладит
Твоя молодая рука.
Все это было когда-то
И снова вернется домой,
Закутавшись в холст печали,
Посыпав землю золой.
КУРТ ТУХОЛЬСКИ.
Курт Тухольски (писал также под псевдонимами Каспар Гаузер, Петер Пантер, Теобальд Тигр, Игнац Вробель; 1890–1935). — Сатирик демократического направления. Обилие псевдонимов объясняется разносторонностью творческой деятельности; стихи обычно подписывал именем Теобальда Тигра («Набожные песни», 1919); активно сотрудничал в периодике. Доведенный до отчаяния нацистскими преследованиями, покончил с собой. У нас до сих пор известен главным образом как публицист. Выпуск собрания сочинений производится в ГДР, начиная с 1969 г.
ПАРК МОНСО[58]. Перевод И. Грицковой.
[58].
Здесь очень мило, тихо, благовидно.
Броди, гуляй, и можно помечтать.
И ни одной таблички здесь не видно,
Где бы слова стояли «не топтать».
Лежит на травке мирно толстый мячик,
А рядом, от него шагах в пяти,
В носу курносом ковыряет мальчик —
Должно быть, что-то хочет в нем найти.
Глазеют тупо три американки.
Когда еще сюда приедешь впредь?
Париж снаружи и Париж с изнанки
Не видели, а надо посмотреть.
Щебечут птички, весело порхая.
И солнце заплутало меж ветвей.
А я сижу, блаженно отдыхая
Здесь наконец от родины своей.
ГЛАЗА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ. Перевод И. Грицковой.
Когда с утра идешь
Ты на работу
И на плечах несешь
Свою заботу,
Вокруг тебя из года в год
Кружит людской водоворот,
Боясь остановиться.
И всюду лица, лица.
Быстрый взгляд, линия рта,
Брови, ресницы, веки.
Что это было? Твоя мечта?..
Нет, все ушло навеки.
Давно успел пройти
Ты город тесный.
Всем встречным на пути —
Ты неизвестный.
Вдруг кто-то глазом подмигнет,
Душа взметнется, запоет…
Обрел?.. Нет, показалось…
Рассеялось… Промчалось…
Линия рта… Короткий взгляд…
Брови, ресницы, веки…
Время нельзя повернуть назад.
Ушло, прошло навеки.
Ты странствовать привык
И торопиться.
Глядишь — короткий миг! —
В чужие лица.
Это, может быть, враг твой,
Это. может быть, друг твой.
И, быть может, встречался тебе
Товарищ твой по борьбе.
Посмотрит мельком… Проходит мимо.
Необратимо! Невозвратимо!..
Быстрый взгляд и зрачок голубой,
Брови, ресницы, веки…
Что это?
Частица мира перед тобой.
Ушло, прошло навеки.
ТРЕТИЙ РЕЙХ. Перевод Л. Гинзбурга.
Высокий нужен идеал
Тебе, германский муж,
Чтоб ты бодрей маршировал,
Приняв холодный душ.
Сердца германские зажглись
Восторгом небывалым:
Мы наконец обзавелись
Достойным идеалом.
Первый рейх — ерунда,
Рейх второй — ерунда!..
Мы ответим:
Лафа — только в третьем!
А ну, скорей, а ну, сюда,
В третий рейх, господа!
Мы не хотим быть просто массой,
Хотим быть избранною расой,
Германской расой, расой рас,
И дух германский прет из нас!
Мы почвенны, а не безродны,
Мы больше, чем народ, народны.
Кто в эту истину не вник,
Тот пацифист и большевик!
Что? Третий рейх?
Ну, конечно — да!
Пожалте, скорей! Пожалте, сюда,
Господа!
В третьем рейхе — сплошное счастье.
Мы вырвем братьев из волчьей пасти,
Чтоб поселить среди немцев немецких
Немцев саарских и немцев судетских,
Немцев балтийских и немцев датских…
И — грянет грохот сапог солдатских!
На мир — плевать! Все мы дышим боем!
Ведь мы без войны ничего не стоим.
Третий рейх нам вроде родного дома,
Где все так дорого, так знакомо: сабля,
Плетка, розга, указка, орден, мундир, жандармская каска…
На всей подвластной нам территории
Мы вспять повернем колесо истории,
А не повернется история вспять,
Мы хором воскликнем: «Отчизна-мать!»
Ну, а перед лицом войны
В третьем рейхе все равны.
Все мы арийцы — кашубы и венды…
Мы делим поровну дивиденды!
Позвольте! А как же тогда пролетарии?!
О! В третьем рейхе они — не парии,
Счастливчики бога благодарят
Каждое утро
И говорят:
— Хоть мы та же самая серая масса,
Все так же — ни денег, ни хлеба, ни мяса,
Все так же нас голод сжирает живьем,
Зато
Мы в третьем рейхе живем!
Итак, процветай, возрожденная нация!
Что это: мистика?
Мистификация!
1932.
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ… Перевод Л. Гинзбурга.
Отец убит, и брат убит,
Другой в плену томится.
А мать все плачет, все скорбит!
Ну, как нам прокормиться?
И мы стоим, молчим стоим,
Мы боль и ненависть таим,
Всё знаем, всё мы видим —
И ненавидим!
Мы ненавидим прусский дух,
Смесь лжи и пошлых истин,
И — кто на падали разбух —
Орел нам ненавистен!
Он, с треском полетев с гербов,
Оставил нам сирот и вдов.
Как из нужды мы выйдем?
Мы ненавидим!
Признайся, брат, не ты ли сам
С покорностью бараньей
Служил преступным этим псам
И пал на поле брани?
Нас лихорадит, нас трясет.
Нас только ненависть спасет —
Иль света мы невзвидим.
Мы ненавидим!
Их мало, нам же — несть числа.
Взвей к небу наше знамя!
С земли сметем, сожжем дотла
Убийц, кто правил нами!
Во мгле, в грязи, в беде, в крови —
Мы не погибли для любви,
И клятву в сердце врубим:
Мы любим!
1919.
КЛАБУНД.
Клабунд (наст. имя — Альфред Геншке; 1890–1928). — Сатирик; привлекался в кайзеровской Германии к суду за книгу стихов «Клабунд! зори! Клабунд! дней начало!» (1913). Под маской певца богемы и мастера эротической темы («Негр», 1920, и др.) скрывался гуманист антибуржуазного толка. Известны пацифистские выступления поэта.
СОЛДАТСКАЯ НЕВЕСТА. Перевод И. Грицковой.
Душа болит, и грудь щемит…
Здоровьем я плоха…
Пусть к свадьбе колокол гремит…
Все-это-че-пуха…
Любила парня одного.
Все отдала бы за него.
Трили, трили, бум —
Себя он вздернул на крюке,
Забился в золотом шнурке
Своих волос, не ведая греха.
Вот
Блуждают по дороге —
Кто безрукий, кто безногий,
Кто ослеп, кто глух, кто нем,
Кто без головы совсем.
Плетутся не спеша.
В чем держится душа?
Жизнь не стоит ни гроша.
А вот этот
Без рук и без ног.
Из груди его сыплется песок.
Голова — пустая банка,
Рядом с ним стоит шарманка.
Это было у моста.
Ей-я-я,
Спи,
Мое дитя.
Будет жизнь твоя свята.
Горячо любила Франца я.
Но его манила Русь да Франция.
Он в обеих странах воевал.
А потом к себе господь его призвал.
На побывку он однажды приезжал,
Ей-я-я,
И меня тогда к своей груди прижал,
Ей-я-я,
И провел у нас совсем немного дней.
Руки милого
Железа холодней.
А лицо его совсем бело, как мел.
Значит, так господь хотел.
А ему видней.
И теперь он дни и ночи спит,
Одеялом из зеленых трав накрыт,
Ей-я-я,
Ничего не скажешь — славная кровать,
Ей-я-я,
Из нее не хочется вставать,
Ей-я-я,
Только б спать.
А в глазах его зияет пустота.
Как из раны,
Кровь струится изо рта.
И костям его теперь в земле бряцать.
Ну а звездочкам — тем на небе мерцать.
Безутешно в голос плакать я начну.
Ах, зачем ты оставил меня одну?
Ах, зачем ушел на вечную войну?
Полети, птичка, за облака.
Может быть, увидишь божьего сынка.
Не знает он, должно быть, в далекой высоте,
Что многие распяты, как и он, — на кресте.
Гибнут сотни миллионов,
А ему не слышно стонов.
И ему не снится,
Что у нас творится.
Так что же он молчит до сих пор?
Люди вынесли ему приговор.
Велика, господь, твоя вина.
За нее расплатишься ты сполна.
Важная персона!
Убирайся с трона!
Что тебе без дела сидеть?
Аль не хочешь в могиле смердеть?
С нами поживи.
Утопай в крови!
Прозябай, как мы,
Средь кромешной тьмы!
ИВАН ГОЛЛЬ. Перевод Г. Ратгауза.
Иван Голль (наст. имя — Исаак Ланг; другие псевдонимы — Иван Лассанг, Жан Лонгвиль, Тристан Торси, Йоханнес Тор, Тристан Тор; 1891–1950). — Колоритная фигура в истории европейского авангардизма. Писал по-немецки и по-французски (порой и по-английски), был немецким экспрессионистом, сыграл важную роль в становлении французского сюрреализма, позже примыкал к школе «новой вещности», объединившей группу немецких поэтов. Жил то в Германии, то во Франции, с 1939 по 1947 гг. — в США, умер в Париже. В экспрессионистский период творчества выпустил книги «Дифирамбы» (1918), «Торс» (1918) и др. Книги французских стихов переводились на немецкий женой поэта под его руководством. Поэма «Панамский канал» (1918) поэтизирует человеческий труд. Стихи Ивана Голля переводились на русский язык в 20-е годы.
ПЛАМЕННАЯ АРФА.
Пылающая купина
Знак перемен глубочайших
Пламенная арфа
Моей юной скорби
Дым и тяжесть моих желаний
Скудный жар мятежа
Горящие розы моих соборов
Неопалимый ангел земли
Пепельный ворон
Сожри останки забвенья
Отец одичалых огней
Благослови пламенного сына
ИОВ[59].
[59].
Замкнулся круг моей боли
Мое бытие вернулось в стихию
Стало легендой ракушек
Я возведен в сан крапивы
Колдовством обращен в камень
Гляди! Из моих карих глаз сочится мед
В моих пальцах блестит зеленая ящерка
Мелькает нежный рожок улитки
Я вернулся к себе как статуи
Чей голос чужим не слышен.
Эхо провидческих зовов
Звучит в пещере моей груди
Моя любовь досталась синей бабочке
Моя печаль темным ночным зверям.
Рухнул купол Содома[60]
Но его бездомные птицы
Спят на моем плече
О этот сон тонкий как стебель
Из которого утром зацветет разум
Или рыдающая песня.
НЕЛЛИ ЗАКС. Перевод В. Микушевича.
Нелли Закс (1891–1970). — Известны главным образом зрелые стихи поэтессы, собранные в книги «В обителях смерти» (1947), «Звездное затмение» (1949), «Будущее неведомо никому» (1957), «Бегство и превращение» (1959) и др. Главная тема творчества Закс — трагедия еврейского народа, подвергшегося массовому уничтожению в гитлеровских лагерях смерти. Это — и личная тема: семья поэтессы погибла; лишь ей самой, вместе о престарелой матерью, удалось при содействии шведской писательницы Сельмы Лагерлёф вырваться в 1940 г. в Швецию. В 1966 г. удостоена Нобелевской премии. На русский язык переводились отдельные стихотворения Закс.
НАРОДЫ ЗЕМЛИ.
Народы Земли,
Вы, силою неведомых созвездий
Опутанные, словно пряжей,
Вы шьете и вновь распарываете,
В смешении языков,
Словно в улье,
Всласть жалите,
Чтобы и вас ужалили.
Народы Земли,
Не разрушайте Вселенную слов,
Не рассекайте ножами ненависти
Звук, рожденный вместе с дыханием!
Народы Земли,
О, если бы никто не подразумевал смерть,
Говоря «жизнь»,
Если бы никто не подразумевал кровь, говоря «колыбель»!
Народы Земли,
Оставьте слова у их истока,
Ибо это они возвращают
Горизонты истинному небу
И, своей изнанкой,
Словно маской, прикрывая зевок ночи,
Помогают рождаться звездам.
ПЕЙЗАЖ ИЗ КРИКОВ.
В ночи, где умираньем разорвано шитье,
Срывает пейзаж из криков
Черную повязку.
Над Мориа, крутым обрывом к богу[61],
Жертвенный нож реет — знамя,
Вопль Авраамова возлюбленного сына,
Ухом великим Библии сохраненный.
О иероглифы из криков,
Начертанные на входной двери смерти!
Раны-кораллы из разбитых глоток-флейт!
О кисти с пальцами-растениями страха,
Погребенные в буйных гривах жертвенной крови, —
Крики, замкнутые искромсанными рыбьими жабрами,
Вьюнок младенческого плача
С подавленным старческим всхлипом
В паленой лазури с горящими хвостами.
Камеры заключенных, кельи святых, обои —
Образцовые гортанные кошмары,
Ад лихорадочный в собачьей будке бреда
Из прыжков на цепи —
Вот он, пейзаж из криков!
Вознесение из криков,
Ввысь из костяной решетки тела,
Стрелы криков, извлеченные
Из кровавых колчанов.
Крик Иова на все четыре ветра,
Крик, скрытый Садом Гефсиманским[62],
Обморок мошки в хрустале.
О нож заката, вонзенный в глотки,
Где лижут кровь деревья сна, прорвавшись из земли,
Где отпадает время
На скелетах в Майданеке и в Хиросиме.
Крик пепла из провидческого глаза, ослепленного мукой, —
О ты, кровавый глаз
В искромсанной солнечной тьме,
Вывешенный на просушку божью
Во вселенной —
НЕКТО ОТНИМЕТ ШАР.
Некто
Отнимет шар
У играющего
В страшную игру.
У звезд
Свой огненный закон.
Их урожай —
Свет.
Их жнецы —
Не отсюда.
За пределами досягаемости
Их амбары.
Даже солома
Одно мгновение светится,
Разрисовывает одиночество.
Некто придет
И приколет зелень весенней почки
К молитвенному одеянию
И гербом водрузит
На лбу столетия
Шелковистый локон ребенка.
Тут подобает
Сказать «аминь».
Увенчание слов
Ведет в Сокровенное,
И
Мир,
Ты, великое веко,
Закроешь всяческое беспокойство
Небесным венком твоих ресниц,
Ты, тишайшее Рождество…
ЭРНСТ ТОЛЛЕР.
Эрнст Толлер (1893–1939). — Литературная деятельность «драматурга немецкого пролетариата» неразрывно связана с его деятельностью общественно-политической. Стихи из «Ласточкиной книги» (1924) написаны в тюрьме, где Толлер отбывал пятилетнее заключение как один из руководителей Советской республики в Баварии. В 30-е годы принимал активное участие в антифашистском движении. Покончил жизнь самоубийством. В 20-е годы пьесы Толлера шли на советских сценах.
ТРУПЫ В ЛЕСУ. Перевод И. Грицковой.
Груды искромсанных тел.
Тлеют и корчатся трупы.
Мозг вытекает струей
Из проломленных лбов.
Остекленели глаза.
Воздух отравлен запахом бойни.
О, если бы видеть могли вы
Своих сыновей, немецкие матери,
Матери Франции!
Лежат вперемешку
Разбухшие трупы бывших врагов,
Касаясь друг друга руками беспалыми,
Словно в объятии братском.
В зловещем объятии!
Я вижу их, вижу. Но кто же я сам?
Зверь ли? Пес мясника?
Я вижу их, вижу:
Опозоренных…
Мертвых…
ГЕРМАНИЯ. Перевод И. Грицковой.
Снова вижу сквозь решетку:
Вдалеке играют дети.
Втиснут в темную клетушку.
Годы пыток… годы тюрем.
Сыновьям твоим,
Германия,
Долго-долго
Не играть с детьми.
МАТЕРЯМ. Перевод Л. Гинзбурга.
Матери,
Надежда ваша,
Ваше радостное бремя,
В землю грязную зарыто,
Мечется в предсмертном хрипе
Возле проволоки ржавой,
Топчет желтые поля.
Страшные, слепые звери,
Спотыкаясь,
Бродят слепо
По истерзанной земле.
Матери!
Ведь это ваши дети
Принесли друг другу смерть!..
Так забейтесь, зарыдайте,
Изойдите в адской боли,
Воздымите к небесам
Скрюченные болью руки,
Станьте огненным вулканом,
Станьте раскаленным морем,
Боль
Пусть к действию зовет!..
Миллионы матерей!
Ваши страшные страданья
Да послужат семенами,
Из которых возрастает
Человечность!
ГЕРТРУДА КОЛЬМАР.
Гертруда Кольмар (1894–1943). — Поэтесса гуманистического направления, автор цикла стихов о Французской революции. Жила в творческой и человеческой изоляции, особенно усилившейся после 1933 г. Погибла в гитлеровском лагере смерти. Интерес к стихам Кольмар возник в послевоенные годы и не спадает и поныне. Полное собрание стихотворений вышло в 1955 г. Отдельные стихотворения Кольмар были опубликованы в русском переводе.
БОЛЬШОЙ ФЕЙЕРВЕРК. Перевод И. Грицковой.
Большой сегодня вспыхнул фейерверк.
И сотни ярких звезд, что к небу рвались,
В силки кромешной темени попались.
А ночь долга.
Я, прислонившись к дереву, стою.
Искрится пруд. И кажется, что снова
Я вижу капли ливня золотого.
А ночь долга.
Я в легком платье. И меня знобит.
И лепестки цветов по тихой глади
Легко плывут, как розовые пряди.
А ночь долга.
Я сяду на скамью. Сожмусь в комок.
И слышно мне, как тихо прошуршала
Змея в траве и вытянула жало.
А ночь долга.
Мне рук окоченевших не согреть.
Из черноты проступят на мгновенье
Причудливые, странные растенья.
А ночь долга.
Сомкнулись веки, а на дне глазниц
Зеленый и багровый цвет таится,
И бликов солнечных мелькает колесница.
А ночь долга.
Уже давно закончен фейерверк.
Протяжный бой часов меня разбудит.
Напомнит мне, что впредь тебя не будет.
Ты не придешь.
ЗАБРОШЕННАЯ. Перевод И. Грицковой.
Не ждала такого запустенья.
Смотрят вещи на меня сурово.
Ощетинясь от прикосновенья,
Печь ладони мне спалить готова.
Кресло на пол старый плащ швырнуло.
До чего же окна мутноглазы.
Исподлобья на меня взглянула
Мертвая сирень из темной вазы.
Стол, и стул, и коврик, тот, что вышит
Мною был старательно когда-то,
Шкаф в углу — и он враждою дышит,
Словно я пред всеми виновата.
И любой предмет меня дичится.
Вещи говорят: «Ты здесь чужая».
Зеркало поблекшее бранится,
Отраженье в злости искажая.
И клубок лиловой шерсти рвется
Вон из рук назло повиновенью.
…Все, что нами всуе предается,
Нас самих потом предаст забвенью.
* * *
«Дети дружат с каждою звездою…». Перевод Г. Ратгауза.
Дети дружат с каждою звездою,
Дети могут даже спрятать солнце,
Дети просят злой и долгий дождик
Пожалеть их, выпустить на волю.
Поясок у звезд я попросила,
А у солнца — красную корону,
Говорила я со злой любовью,
Признавалась, что хочу на волю.
Крупный жемчуг мне снизали звезды,
Шапочку мне солнце подарило,
А любовь меня и не слыхала
И была, как дождь, неумолима.
НЕКРОЛОГ. Перевод В. Микушевича.
И я умру, как многие другие.
Разравнивают грабли пашню лет,
Вписав меня в комки земли сухие.
Бездетная, умру я в дни глухие,
Устало глядя лысым тучам вслед,
Раскинув руки… Никакого эха.
Я кончилась. Была — и нет меня.
Движенью городскому не помеха,
На перекрестке нищий, словно веха.
Худые горсти… Лишь на склоне дня
Упало в шляпу солнце, как монета.
Картошки за него не продадут.
А я сыта и в холоде согрета.
Страсть, ярость, гнев бушуют морем где-то,
Чтобы шумела раковина тут.
Да, прахом стану я, на все согласным,
Вы, соль земли, и после смерти — соль.
Торгаш с глупцом — в довольстве безучастном,
А вы безмолвно ждете в свете красном,
Неумолимо тихие, как боль.
На бледных пальцах ржавчина решетки.
У скольких нож под сердцем не погас.
С добычей вор, у идиотов — плетки.
Меня растопчут грязные подметки.
Я прах, и все-таки я знала вас.
Была я вашим зеркалом увечным.
Лелеял вас мой слишком хрупкий лик.
Ах, что я вам, и в смерти безупречным,
Вам, вашим дням неизгладимо вечным,
Тогда как я — песчинка, проблеск, миг?
Я — глина, я — податливое тленье.
У вас в руках я форму обрела.
Что вам я в строгом вашем отдаленье,
Что сердце вам и все мои моленья,
Что губы вам и вся моя хвала!
ПЕТЕР ХУХЕЛЬ.
Петер Хухель (род. в 1903 г.). — Дебютировал в 20-е годы; стихи, написанные при нацизме, опубликовал лишь в 1948 г. Был солдатом вермахта; советский военнопленный; затем принимал активное участие в культурном строительстве в ГДР. В 1949–1962 гг. — главный редактор журнала «Зинн унд Форм» (ГДР). В 60-х годах отходит от общественной деятельности, печатается в основном в ФРГ. С 1971 г. живет в Италии. Лучшие стихи поэта собраны в книге «Шоссе, шоссе» (1963).
ЛЕНИН В РАЗЛИВЕ. Перевод Г. Ратгауза.
Северным летом в зеленой осоке
Озеро спит. И утренний сон
Белым туманом, чистым и строгим,
От шелеста зыбкой листвы охранен.
Чайка, пугаясь собственной тени,
Чертит спросонья крылом над водой,
Здесь, в первозданном уединенье,
Где обнялись береза с ольхой,
Здесь, у воды туманного края,
Здесь, в шалаше, у туманных озер,
Жил он, как будто бы лес охраняя.
Были с ним чайник, пила и топор.
Сумрачной ранью, северным летом,
Ездил сюда петроградский гонец.
Тот, кто скрывался в прибежище этом,
Ведал все тайны умов и сердец.
Он властно правил ходом времен.
Еще заалеть заря не успела
(Мудрый умеет время ценить,
И любит свое одиночество он), —
Он прял своих мыслей упорную нить,
Писал, и камыш сухой то и дело
Бросал он в костер, и спокоен был взгляд.
Он ежился, зябко на руки дыша.
…Росисто белеет стена шалаша,
Озерные заводи тускло блестят.
Он жил заодно с водою и лесом.
Под старыми ивами, как под навесом,
Укрывшись от солнца, писал он в тени.
Тетради он клал на широкие пни.
Крестьянин, который поблизости жил,
Собрался косить луговую отаву.
И девять дней от зари до зари
Он с ним заодно выкашивал травы,
Работал не хуже, чем все косари:
Он сено косил, потом ворошил,
Потом для просушки он слеги сложил.
Без устали острой косой он махал,
И не было дела желанней и краше:
Коровы без сена и дети без каши
Совсем отощали, народ голодал.
Облачком смутным растаяло лето,
Гром отгремел, начались холода.
И пеленой молочного цвета
К ночи до глаз закрывалась вода.
Ночь была зябкой, но он не продрог.
Не замечая, что чай его стынул,
Березовый сук он к огню пододвинул
И глаз от огня отвести он не мог.
Воронежский пахарь с сохой деревянной,
Рыбак в своей куртке, дырявой и рваной,
Таежник, ловивший зверей в западню, —
Вся Россия стекалась к лесному огню.
Они ни читать, ни писать не умели,
Но в эти недели в просторах страны
Те мысли, что высказал Ленин в апреле,
Повсюду летели, всем были ясны.
А озеро вздулось под черным дождем,
Грозя затопленьем раскидистой иве,
Собранью деревьев над зеркалом вод.
Как в Ясной Поляне, в именье своем,
Граф беседовал с богом, так Ленин в Разливе
Беседовал с теми, чье имя — народ.
Неласково хмурились дни сентября,
Но сено убрать позволяла погода.
Крестьянин пришел, потоптался у входа,
В шалаш заглянул, — не застал косаря.
Коса, обвязанная соломой,
Лежала в сухом и укромном углу,
Висел котелок на рогуле знакомой.
Крестьянин зачем-то потрогал золу…
И долго кричал и звал крестьянин.
Простор откликался, сыр и туманен,
Да гуси летели в тумане сыром,
Печально шумели, махая крылом.
*
Так здравствуй, Октябрь! Звездой путеводной
Ты светишь народам и ночью и днем.
Когда мы встречаем твой день благородный
И праздничный стол украшаем вином,
И крупные, красные яблоки ставим,
И мир, охранивший селенья, мы славим,
Нам вспомнится эта глухая пора, —
Камыш приозерный, холодное лето,
Когда он при звездах вставал до рассвета,
Далекое пламя ночного костра.
ШОССЕ, ШОССЕ, ШОССЕ. Перевод А. Ларина.
Затравленные закаты
Катящихся в пропасть лет!
Шоссе, шоссе, шоссе.
Шлагбаумы бегства.
Шинный след на полях,
В багровое небо
Глядящих глазами
Подыхающих лошадей.
Ночи. Харкотина в легких,
Беглецов неживое дыханье,
Выстрелы
Прямо закату в висок.
Из поломанных ворот
Ветер беззвучно пеплом швырял,
Зарево
Темноту угрюмо жевало.
Мертвецы,
Распластанные на рельсах,
Сдавленный крик,
Будто удар по ногтю.
Черный,
Гудящий бинт копошащихся мух
Врачевал им раны —
Пока под полуденным солнцем
Гулкою поступью двигалась смерть.
ОКТЯБРЬ. Перевод А. Ларина.
Октябрь, и тяжек мед последней груши,
Дозревшей до броска к земле,
И лижет мух в паучьем плюше
Последний свет в белесой мгле —
Он зелень клена медленно сосет,
И перепончатые листья,
Варясь в лучах клубящихся высот,
Становятся мертвей и мглистей.
Все умирает в приторном вине,
В пурпурной георгинной мари,
Пока не вздрогнет ласточка во сне,
Поняв, что свет опять в ударе,
Пока не слущат сытые полевки
Орех последний на обед
И бурой россыпью, в обновке,
Из тьмы не вынырнут на свет.
Октябрь, и раздобревшую корзину
В набухший подпол волокут,
И сад, трудолюбиво гнущий спину,
В лохмотья ветхие обут.
И свет в белесом паутинном плюше
Разлегся в неге и тепле,
Чтобы помочь последней груше
Осенний смак отдать земле.
ПАМЯТИ ПОЛЯ ЭЛЮАРА. Перевод Г. Ратгауза.
Свобода, моя звезда,
Не внесенная в звездные списки,
Еще над рыданьями мира
Незримая,
Ты мчишься уже
Над рубежами времен,
Я знаю, что ты — в дороге,
Моя звезда.
АЛЬБРЕХТ ГАУСГОФЕР. Перевод В. Левика.
Альбрехт Гаусгофер (1903–1945). — Не был профессиональным литератором. Ради антифашистской деятельности отказался от блестящей карьеры одного из ведущих геополитиков «третьего рейха». Был схвачен гестапо и позже расстрелян в тюрьме Моабит по подозрению в причастности к неудачному покушению на Гитлера 20 июля 1944 г. Стихи из чудом сохранившейся тетради «Моабитских сонетов» написаны в ожидании казни.
«Когда почуял деспот Ши Хуан-ди…».
Когда почуял деспот Ши Хуан-ди,
Что ополчиться на него готово
Духовное наследие былого,
Он приказал смести его с пути.
Все книги он велел собрать и сжечь,
А мудрецов — убить. На страх народу
Двенадцать лет, властителю в угоду,
Вершили суд в стране огонь и меч.
Но деспоту настало время пасть.
А те, кто выжили, учиться стали,
И мыслили, и книги вновь писали.
И новая пришла на смену власть.
Китай расцвел. И никакая сила
Ни мудрецам, ни книгам не грозила.
СТОРОЖА.
Блюстители, приставленные к нам,
Ребята превосходные — крестьяне.
Их вырвали из сельской глухомани,
Чтоб кинуть в дикий городской бедлам.
Для них связать два слова — тяжкий труд.
И лишь порой прочтешь в немом их взоре
Вопрос о тяжком всенародном горе,
Которое в сердцах они несут.
Они с востока, с берегов Дуная,
Где все успела разорить война.
Мертвы их семьи, выжжена страна.
И ждут они — придет ли жизнь иная?
Их узниками сделали, как нас.
Прозреют ли они? Пробьет ли час?
ВОРОБЬИ.
Порой моя тюремная решетка
Приманивает с воли двух гостей:
То уличный задира воробей
И с ним его пернатая красотка.
У них любовь: то споры, то смешки,
То клювом в клюв — и как начнут шептаться!
Соперник и не пробуй подобраться,
Конфликт решится битвой, по-мужски.
Как странно здесь, в цепях, в тюремной щели,
Глядеть на них, свободных! Но за мной
Следит глазок блестящий и живой —
Чирикнули, вспорхнули, улетели.
И вновь один я, вновь гляжу в окно…
Зачем мне птицей быть не суждено!
КРЫСИНЫЙ ПОХОД.
Лавиной крысы движутся к реке,
Несчастную страну опустошая.
Вожак свистит — и, точно заводная,
Вся стая дергается при свистке.
Уничтожают житницы и склады,
Кто шаг замедлит — стиснут, понесут.
Упрется — закусают, загрызут.
Идут к реке — и нивам нет пощады.
По слухам, кровью плещет та река.
Все яростней призывы вожака,
Все ближе цель — вот запируют вскоре!
Истошный визг, пронзительный свисток,
Лавина низвергается в поток, —
И мертвых крыс поток выносит в море.
ВОЛЬФГАНГ БОРХЕРТ. Перевод И. Грицковой.
Вольфганг Борхерт (1921–1947). — За свою недолгую жизнь поэт успел побывать и актером, и солдатом вермахта (в 1944 г. был осужден нацистским судом за критику режима и отправлен в штрафной батальон на фронт), и в американском плену. Драма «Посетитель», рассказы и стихи, написанные Борхертом в последние два года жизни, принесли ему посмертную славу зачинателя антифашистской темы в литературе ФРГ. На русском языке публиковались рассказы В. Борхерта, а также отдельные стихотворения.
МЕЧТА.
Когда я умру,
Хочу на ветру
Раскачиваться фонарем.
Ночью и днем.
Из года в год.
Но лишь у твоих ворот.
Или в порту, где в черной пыли
Грузные спят корабли,
Смех женщины слышен развязной.
Или на улочке грязной.
Я бы мерцаньем своим помог
Тому, кто бредет, одинок.
Или неплохо наверняка —
Висеть у дешевого кабака.
Музыке в лад
Был бы я рад
Подмигивать желтым огнем
И думать о чем-то своем.
Или хочу, чтобы в щель гардин
Мальчик, оставшийся дома один,
Испуганный, видел меня сквозь тьму,
Спокойнее стало б ему.
А вьюга, которой на все наплевать,
Будет сильней завывать.
Так вот почему, когда я умру,
Хочу на ветру
Раскачиваться фонарем.
Под снегом и под дождем.
И в тишине ночной
Шептаться с луной
Лишь о тебе одной.
ДОЖДЬ.
Как старуха по земле плетется,
В непонятной злобе трепеща.
Волосы влажны. И остается
Мокрый след от серого плаща.
В дверь любую яростно стучится.
В окна бьет отчаянно рукой.
…Девушка влюбленная томится:
Как из дома выйдешь в дождь такой?
Вихрь старухе волосы взлохматит.
Дерзко головой она качнет.
На лету свой серый плащ подхватит.
И, как ведьма, танцевать начнет.
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР.
Над городом тумана пелена.
Тугого, серого. И различимы еле
Свет фонаря и белые чепцы сестер.
И чей-то разговор
Доносится едва.
И каплями дождя летят
Отдельные слова
…На той неделе…
…Моя жена…
Они звучат как будто бы стихи,
Рождая домыслы… И вот уже тихи,
Пустынны улицы. Последний замер шаг.
И притомился шум. И полуночный мрак
Стал понемногу в окнах проступать.
Все потому, что город хочет спать.
ПОЭТЫ ФРГ.
ВИЛЬГЕЛЬМ ЛЕМАН.
Вильгельм Леман (1882–1968). — Долгое время был известен только как прозаик, первые стихи опубликовал в пятидесятилетнем возрасте. Его камерная, по преимуществу пейзажная, лирика, родственная стихам Лерке, также приобрела «широкую известность в узком кругу» интеллектуалов и писателей ФРГ. Книги стихов «Ответ молчанья» (1935) и «Зеленый бог» (1942) резко отличались по тону от большинства произведений, публиковавшихся в фашистской Германии. В книге «День-долгожитель» (1954) поэт углубляет философские мотивы своего творчества. Стихи Лемана переводятся на русский язык впервые.
НА ЛЕТНЕМ КЛАДБИЩЕ. Памяти Оскара Лёрке. Перевод Л. Гинзбурга.
Вспорхнула птица… Вновь все стихает…
Могила — в розах — благоухает.
Мир в тишину погрузился весь.
Восстань, воскресни, лежащий здесь!
На синеву эту посмотри.
Пот со лба моего сотри.
Сладостно лето в цветенье своем.
Сладко нам вновь посидеть вдвоем…
Зенитка лает… Сирена воет…
О нет! О нет! Воскресать не стоит.
Жизнь— это подлых убийц торжество!
Уж лучше оставь меня одного.
Уйдя из мира, где смерть и злоба,
Надежней скрыться под крышкой гроба!
ГЕОРГ ФОН ДЕР ВРИНГ. Перевод В. Леванского.
Георг фон дер Вринг (1889–1968). — Автор близких к фольклорной и романтической традиции стихов песенного типа, порою — с религиозной окраской: «Песни Георга фон дер Вринга. 1906–1956» (1956). С 1940 по 1943 г. был в рядах вермахта. Предполагают, что он покончил жизнь самоубийством. На русский язык переводится впервые.
НА РОДИНЕ.
Там, где Везер[63], Нижний Везер, —
Снова ты такой, как встарь.
Травы режутся, и ветер
Говорит с рекой, как встарь.
И приносит мать-старушка
Бедный ужин твой, как встарь.
Хлеба черного горбушка,
Свежий сыр, такой, как встарь.
Пароходов поговорки
И гудки всю ночь, как встарь.
Пахнет камфорой в каморке,
И уснуть невмочь, как встарь.
Распахнешь окно — и глянет
На тебя звезда, как встарь.
Снова даль куда-то тянет,
Не понять куда, как встарь.
НЕ СМОГ.
Не знал любви — и был слепым.
Прозрел — но видит бог,
Что всей душою стать твоим
Я не сумел, не смог.
Твой нежный взор и разговор —
Бальзам от всех тревог.
Но исцелиться до сих пор
Я до конца не смог.
И ты баюкала дитя,
А я сидел у ног.
И наглядеться на тебя
Я не сумел, не смог.
И смерть сразила милую
Безжалостно, не в срок.
Заплакать над могилою
Я не сумел, не смог.
А жизнь была как взмах крыла.
Ты видишь между строк:
Благодарю и все дарю —
Что смог и что не смог.
ГОТФРИД БЕНН.
Готфрид Бенн (1886–1956). — Вначале был экспрессионистом, позже выдвинул своеобразную концепцию творчества как виртуозной игры. Автор философской лирики, затрагивающей самые различные аспекты бытия, истории и культуры. Со своей элитарной позиции поначалу принял нацизм, но уже в 1934 г. отошел от него; подвергся нападкам гитлеровских культур-политиков — вплоть до запрета писать. Как поэт и теоретик поэзии имел очень большое влияние на послевоенное поколение западногерманских поэтов. Основные книги стихов: «Морг и другие стихи» (1912), «Неподвижные стихотворения» (1948), «Пьяный поток» (1949). На русском языке были опубликованы некоторые стихотворения Бенна.
ГРУСТНЫЙ ВАЛЬС. Перевод В. Микушевича.
На смену битвам и схваткам,
После гроз и после побед,
Изнеженностью, упадком
Новый тянется след.
Великая сцена у Нила[64]:
Что фараонов трон,
Если рабыня пленила
Героя, кем держится он!
Щиты, пращи, каменья,
Эллинский дозор.
Уносит ладью теченье
Вдаль, на морской простор.
Белым богам Парфенона[65]
Кощунство грозит искони.
Прослыли во время оно
Декадансом[66] они.
Сколько пробоин и трещин!
Хмель не для мертвых тел.
Веком веку завещан
Великий чужой удел.
Танец из вымершей дали,
Из храмов, из руин.
Потомки и предки пропали:
Никого! Ты один…
Танец при северных скалах, —
Грустный вальс! Танец мечты —
Грустный вальс! В звуках усталых
Человек! Ты!
Розы в полном цветенье,
В море впадают цвета.
Дышат глубоко тени,
Ночь голубым залита.
Там, где все реже и реже
Кровоточит волшебство,
На мировом побережье
Тождество всех и всего.
Сначала в стихах заклинали,
В мраморе, в красках картия,
Музыкою поминали…
Никого! Он один!
Никого! Ниже, ниже
В терновом венце чело.
С гвоздиными язвами ближе
Бессмертье к тебе подошло.
Складки твоей плащаницы,
Уксус — тебе питье,
Чтобы потом из гробницы
Воскресенье твое.
* * *
«Твоим ресницам шлю дремоту…». Перевод В. Микушевича.
Твоим ресницам шлю дремоту
И поцелуй твоим губам,
А ночь мою, мою заботу,
Мою мечту несу я сам.
В твоих чертах мои печали,
Любовь моя в твоих чертах,
И лишь со мною, как вначале,
Ночь, пустота, смертельный страх.
Слаба ты для такого гнета.
Ты пропадешь в моей судьбе.
Мне ночь для моего полета,
А поцелуй и сон тебе.
АСТРЫ. Перевод Г. Ратгауза.
Астры — о, дни тревоги…
Облик древней чары возник,
И чашу весов держат боги
На краткий и зыбкий миг.
И вновь — золотое стадо
Небес, лепестки и свет.
Что древней жизни надо
Под крылом умирающих лет?
И вновь желанное — въяве,
Хмель, роза и красный восход.
Лето в речной оправе
Следит касаток полет.
И снова — предположенье,
Но все уже ясно давно.
И ласточки льнут к теченью
И пьют эту ночь, как вино.
ПРОЩАНИЕ. Перевод В. Топорова.
Ты кровь моя, наполнившая раны,
Ты хлынула, ты льешься все сильней,
Ты час, когда негаданно-нежданно
Очнется на лугу толпа теней,
Ты аромат невыносимой розы,
Глухое одиночество потерь,
Жизнь без мечты, падение без позы,
Ты горе, ты сбываешься теперь.
Ты жизнью не стыдясь пренебрегала,
Растерянно глядела и звала,
Неменьшего страдания искала,
Но равного партнера не нашла;
Лишь в глубине, ничем не замутненной,
Куда не достигает наша ложь,
Свое молчанье, скорбный путь по склону
И запах поздней розы ты найдешь.
Порой сама не знаешь, что с тобою,
И пребываешь словно в забытьи:
Твои черты, твой образ — все другое,
Твои слова, твой голос — не твои;
Мои черты успели позабыться,
Мои слова, мой голос — все не в счет;
С кем было так — того не добудиться,
Он прошлое за милю обойдет.
Последний день, безмерные пределы, —
И ты плывешь, куда велит вода;
Прозрачный свет над рощей поределой
На листьях застывает, как слюда;
Кто станет жить в листве мертво-зеленой,
Ведь сад увял и птичий крик затих?
А он живет — отринутый, лишенный
Воспоминаний: можно и без них.
ЭРИХ КЕСТНЕР. Перевод К. Богатырева.
Эрих Кестнер (псевдонимы — Роберт Ноймер, Мельхиор Курц, Ханс Бюль, Эмиль Фабиан, Бертольт Бюргер; 1899–1974). — Автор меланхоличных, часто иронических стихов, примыкал к направлению «новая вещность». Известны также сатирические стихи, тексты для кабаре, проза и детская проза поэта. Основные книги стихов: «Шум в зеркале» (1928), «Песня между двух стульев» (1932), «Тринадцать месяцев» (1955). В 1934 и в 1937 гг. был репрессирован нацистами. Стихи Кестнера выходили у нас отдельной книгой («Маленькая свобода», М., 1962).
ПИСЬМО МОЕМУ СЫНУ.
Уже давно пора иметь мне сына.
Я думаю о нем не первый год.
Для достижения мечты старинной
Мне матери к нему недостает.
Но не любая барышня — невеста.
Я убеждаюсь в этом все сильней.
Пока я счастью не пришелся к месту,
Мы не узнаем матери твоей.
Но я наверняка тебя увижу.
И я заране этой встрече рад.
Ты с каждым шагом будешь мне все ближе.
Но первый шаг твой будет наугад.
Сперва ты будешь плакать, корча рожи,
Пока к другим делам не перейдешь,
Пока твой ум и взгляд не станут строже,
Пока того, что надо, не поймешь.
Ты снова перестанешь понимать,
Когда научишься смотреть, как взрослый.
Сперва нужна ребенку только мать.
Отец ему понадобится после.
Я поведу тебя средь пышных вилл,
Потом пройду с тобою шахтной толщью.
Ты будешь удивляться что есть сил.
Я буду поучать тебя. Но молча.
Я в Ипр и Во[67] с тобою вместе съезжу.
На океан крестов мы молча взглянем.
Охватят чувства нас одни и те же.
И слез — ни ты, ни я — скрывать не станем.
Нельзя судить о жизни по рассказам.
Я к жизни поверну тебя лицом.
Я верю в то, что побеждает разум.
Я не пророком буду, а отцом.
Но если будешь одного покроя
Со всеми, меряясь под их аршин,
Назло всему показанному мною,
То ты не будешь сыном мне, мой сын.
ГОЛОСА ИЗ БРАТСКОЙ МОГИЛЫ.
Мы здесь лежим. Мы здесь насквозь прогнили.
Вы думаете: «Крепко спится им!»
Но мы не можем глаз сомкнуть в могиле.
Но мы от страха за живых не спим.
Во рту полно земли. Чтоб не орали!
Мы криком бы могилу разнесли.
Мы с криком из могилы бы восстали.
Но мы молчим. Во рту полно земли.
Прислушайтесь, как запросто порою
Попы вверяют господу страну,
А он, который проиграл войну,
Оставить просит мертвецов в покое.
Вы служащим у господа поверьте!
Ведь столько благородства в их речах,
И так красивы их слова о смерти:
«Жизнь далеко не лучшее из благ!»
И мы лежим. Во рту полно земли.
Мы думали, что будет все иначе.
Мы умерли. И здесь нас погребли.
Вас завтра ждет такая же удача.
Война. Четыре года преисподней.
Вы думаете: «Крепко спят они!»
Четыре года — и венки сегодня.
О, не вверяйтесь милости господней!
Будь проклят, кто забудет эти дай!
ЭЛИЗАБЕТ ЛАНГГЕССЕР.
Элизабет Ланггессер (1899–1950). — Трудную для восприятия, изощренно-метафорическую лирику («Садовник и роза», 1947) и прозу Ланггессер считают одним из основных источников «магического реализма» — направления, весьма популярного в литературе ФРГ 50-х годов (магический реализм основан на смешении реальных и фантастико-символических мотивов и образов). Подверглась расовым преследованиям в нацистской Германии; одна из дочерей поэтессы погибла в концлагере.
ПРАВИТЕЛЬ МАРС. Перевод В. Микушевича.
Он барабанит
По шару земному.
К чувствам-сиротам немилостив гром.
С ревом грядет он, и руслу речному
Стать суждено
Разоренным гнездом.
Бой барабанный,
Вихрь ураганный,
Опережая
Зло и добро.
А непоседа
Нике-победа
Только одно
Уронила перо.
Он в барабанные
Бьет перепонки,
Дробью рассыпав отчаянный страх.
Прыгают палочки в бешеной гонке,
Треск деревянный даже в цепях.
Жалобный голос.
Только ли колос —
Цеп сокрушает
Себя в молотьбе.
В натиске бреда
Нике-победа
Первой сломала
Крылья себе.
МАРИЯ ЛУИЗА КАШНИЦ.
Мария Луиза Кашниц (полное имя: фон Кашниц-Вайнберг; 1901–1974). — В зрелом творчестве поэтессы преобладает антифашистская и пацифистская тематика. Опубликовала в послевоенные годы стихи, написанные во «внутренней эмиграции»: «Пляска смерти» (1946). В «Новых стихах» (1957) и др. отчетливо видна гуманистическая позиция Кашниц. Стихи поэтессы публиковались в журнале «Иностранная литература».
«Когда они поэта хоронили…»[68]. Перевод В. Топорова.
[68].
Когда они поэта хоронили,
На кладбище был фоторепортер,
И снимок напечатали. Мы видим:
Горбатый, чтоб не тесно голове,
И все же тесный гроб, сырую землю
И горсть сырой земли в руке у друга
(В руке, размытой дрожью) — но не бог весть
Кто умер иль, вернее, бог весть кто.
На снимке не хватало бургомистра,
На снимке не хватало профессуры,
Зато хватало жестяных венков
(Кто час кончины в силах приурочить
К цветенью роз?). Священник говорил,
Не по погоде, долго. Дети зябли.
Невидимые, жались в стороне
Две нимфы, семь дриад и саламандра, —
Не то чтоб он их вечно воспевал,
Но им казалось: это их знакомый.
А те, кто плоть и кровь, сморкались — тихо,
Но тщательно — и кутались в меха:
Не простудиться б. Смерть грядет за смертью.
Глядели не на землю — в небеса:
Там туча проплывала, так черна
И так фотогенична, что фотограф
Решил заснять ее — не для печати,
А для себя, на всякий случай. Правда,
На пленке этой тучи не нашлось.
КОШКА. Перевод В. Топорова.
Кошка о которой пойдет речь сидела на помойке и орала
Ночь напролет две напролет три напролет.
В первый раз он спокойно прошел мимо
Не думая ни о чем и под ор за окном уснул.
Во второй раз он ненадолго задержался
Глядя на орунью попробовал ей улыбнуться.
В третий раз он одним прыжком настиг зверя
Схватил за шкирку назвал «кошкой» не придумав иного имени
И кошка прогостила у него семь дней.
Ее клочковатую шерсть не удавалось ни отмыть ни расчесать.
Вечером по возращении он еле отбивался от ее зубов и когтей.
Ее левое веко нервически подергивалось.
Она раскачивалась на занавесках хозяйничала на антресолях.
В квартире стоял звон гром и треск.
Все цветы приносимые им домой она съедала.
Она сбивала вазы со стола раздирала нераспустившиеся бутоны.
Ночами она бодрствовала у него в изголовье —
Глядела на него горящими глазами.
За неделю его гардины были располосованы
Кухня превратилась в помойку. Он бросил ходить на службу
Бросил читать бросил играть на рояле.
Его левое веко нервически подергивалось.
Он начал скатывать пулю из серебряной фольги
Которую она долго недооценивала. Но на седьмой день
Сделала ловкое обманное движение. Он выстрелил
Серебряной пулей — и промазал. На седьмой день
Она прыгнула к нему на колени заурчала позволила себя погладить
И он подумал: моя взяла.
Он ласкал ее чесал ее завязал ей на шее бантик.
Но тою же ночью она спрыгнула с четвертого этажа
И убежала — недалеко — как раз туда откуда
Он ее взял. Там в загадочном лунном свете
Расцветала помойка. На старом месте
Кошка летала с камня на камень сверкала облезлой шерстью
И орала
ХИРОСИМА. Перевод В. Топорова.
Сбросивший гибель на Хиросиму
Ушел в монастырь бить в колокол.
Сбросивший гибель на Хиросиму
Отпихнул ногой табурет, повесился.
Сбросивший гибель на Хиросиму
Еженощно сражается с демонами безумия —
С сотнями тысяч демонов безумия,
Уничтоженных им, но воскресающих для него.
Все эти слухи недостоверны.
Буквально вчера он попался мне на глаза
В саду на своей пригородной вилле.
За новеньким забором росли ухоженные цветы.
(Правда, не лотос, а розы.) И недостаточно пышные,
Чтобы затеряться в их зарослях.
Я рассмотрела
Дом, рассмотрела хозяйку в цветастом платье,
Маленькую девочку рядом с ней
И мальчика чуть постарше — у него на плечах,
Занесшего кнутик над головой отца.
И его самого я хорошенечко рассмотрела!
Он стоял на четвереньках в траве,
Беззаботно ощерясь улыбкой, ибо фотограф
Притаился за забором — недреманное око мира.
ДЖЕНАЦЦАНО[69]. Перевод Н. Гребельной.
[69].
Дженаццано, горный город,
Вскарабкавшийся
С ослиным упрямством
По западной крутизне
Среди зимнего,
Стеклянного
Позвякиванья.
Здесь стояла я у колодца.
Здесь я вымыла свою невестину рубашку.
Здесь я вымыла свой саван.
Мое лицо легло белым
В черную воду,
В сквозную прозелень платанов.
А мои руки стали
Двумя ледышками
С пятью сосульками на каждой.
И позвякивали.
ПРЕДМЕСТЬЕ. Перевод Н. Гребельной.
Только лишь два дерева
Остались от рощи.
Только лишь два ягненка
От большой отары.
Один почернее, другой побелее.
Никто более не видит
На западе
Красноватых
Зубцов ограды.
Непригодные для жилья дома
Остались от городка,
Сбежавшего,
Куда-то запропавшего,
Белого,
Со сверкающими стеклами окон,
Наполненного
Мальчишками,
Трещащими,
Двухколесными.
Неисчислимыми.
Мальчишки
Упрямо укореняются
По всей округе
С почерневшими кипарисами,
Комариными прудами,
Ложбинами,
Полными цветущего дрока.
ВОЛЬФГАНГ ВЕЙРАУХ.
Вольфганг Вейраух (публикует стихи и под псевдонимом Йозеф Шерер; род. в 1907 г.). — Установка на формальный версификаторский эксперимент сужает возможности той острой критики капитализма, к которой поэт стремится в своих стихах («Песнь против смерти», 1956). Более непосредственны антифашистские стихи Вейрауха («Конец и начало», 1949; «Мелом на стене», 1950, и др.), в которых обобщен, в частности, и его личный опыт солдата вермахта. На русский язык переводились лишь отдельные стихотворения Вейрауха.
СТУЧИТСЯ ВЕТЕР ОБ ОКНО. Перевод И. Грицковой.
Стучится ветер об окно,
И на дворе уже темно.
И мы заснем спокойно.
Но вклинится в беспечный сон
Зловещий крик, протяжный стон.
И мы проснемся разом.
И нам почудится беда,
Как в те кровавые года,
Когда мы спать боялись.
Быть может, это неспроста —
Кромешной ночи темнота
Пугает нас, как прежде.
Заплачут дети за окном,
Что умирали день за днем.
И не унять их стоны.
Убиты или сожжены —
Они погибли в дни войны.
И в том повинен Гитлер.
Они восстали из земли
И в нашу комнату вошли,
Обуглены пожаром.
А те, что мерзли в холода
И превратились в груду льда,
Пришли, чтоб отогреться.
И, не успев войти, тотчас
Они гурьбой обступят нас.
И сердце сводит ужас.
И стала комната тесна.
Нам этой ночью не до сна.
И до смерти нам стыдно.
Гуляет ветер средь полей.
Мы укрываем потеплей
Свое дитя родное.
А те, погибшие, потом
От нас пойдут в соседний дом.
А мы погасим лампу.
ГЮНТЕР АЙХ. Перевод Е. Витковского.
Гюнтер Айх (1907–1972). — По преимуществу лирик и радиодраматург, считается создателем поэтического радиотеатра. В годы войны находился во «внутренней эмиграции». В творчестве Айха буржуазно-гуманистические устремления сочетаются с постоянными сомнениями в силах и возможностях человека. Автор книг стихов: «Заброшенные хутора» (1948), «Метро» (1949), «Депеши дождя» (1955), «Избранное» (1960) и др. Стихи Айха в русском переводе печатались с 1960 года.
МГНОВЕНИЕ.
Постоянно перед глазами
Тополя на Леополъдштрассе,
Но всегда стоит осень,
Всегда и все заткано пряжей туманного солнца
Или же сеткой дождя.
Где ты, даже если ты рядом со мной?
Это вечно: пряжа далеких времен,
Прошедших и будущих,
Жизнь в аду,
Вековечное троглодитово время,
Грусть перед колоннами Гелиогабала[70]
И приютом святого Морица.
Серые трущобы и бараки —
Начало счастья,
Блеклого счастья.
Ответ: пожатье твоей руки,
Архипелаг, цепь островов, наконец — песчаная отмель,
Обрывок суши, где можно помечтать
О счастье слиянья.
(Но мы одной крови:
На камнях, возле зарослей сада,
Возле стариков на парковых скамьях,
Там, где звенит трамвай номер шесть,
Где анемоны — в этот миг собирая
Воедино
Властность слез и влажность губ…)
И это всё
Пряжа, что нас сопрягает,
Минувшее настоящее,
Несостоявшаяся любовь,
Редкая листва тополей,
Осень в сточных канавах,
Предписанная городской управой,
И заполненный вопросник о счастье.
ДНИ СОЕК.
Сойка не бросила мне
Голубого пера.
Катятся в утреннем сумраке,
Словно желуди, крики сойки.
Горькие зерна —
Пища на целый день.
В красной листве целый день
Долбит она клювом
Темную ночь
Из веток и диких плодов —
Пестрый покров надо мной.
Ее полет — как биение сердца.
Но где она спит
И что ей снится?
Незамеченное, лежит в темноте
Возле моего ботинка
Голубое перо.
КУСТЫ МАЛИНЫ.
Мысли на фоне леса:
На каждой из них — дождевые капли,
На каждой — осень.
Ах, кусты малины твердят о своем,
Тебе на ухо шепчут ягоды —
Красные — падая в мох.
Твой слух не внимает им.
Мои уста не шепчутся с ними.
Слова не мешают им падать.
Рука об руку с тайными мыслями.
В чаще теряется след.
Луна закрывает глаза — желтая,
Вечная.
ОСТАНОВИ МГНОВЕНЬЕ.
Останови мгновенье,
Где были навалены канаты и доски,
Носильщики у хозяина играют в карты,
В доме скорби снова огонь,
И первый смех послышится скоро.
КАРЛ КРОЛОВ.
Карл Кролов (род. в 1915 г.). — Известный поэт и переводчик. Наибольшей выразительности добивается в антифашистских и антивоенных стихах, собранных в книги: «Обыск» (1948), «Знаки земли» (1952) и др. В позднем творчестве преобладает пейзажная и философская лирика с элементами социальной критики: «Пейзажи по мне» (1966), «Ничто иное, как жизнь» (1970). При нацизме оставался в Германии.
МУЖИ. Перевод В. Топорова.
Они идут обнажая в здоровом хохоте
Белые глыбы клыков и сполоснутых десен красное мясо
С пружинистыми мышцами с чреслами полными похота
Забывчиво замолчав о зверье полуночного часа
О верных гиенах всплывающих в венах и в жилах
Чьи жадные всхлипы слышны в разоренных могилах
Доверчиво глядя идут исполинские дяди
Глаз угли а фиг ли то черны то кари то сини
Пока не раздуты Проходят при полном параде
Висит автомат на плече Век-иуда висит на осине[71]
Уныло качаясь и чуть не кончаясь от скуки
Под солнцем любви при змее колыбельной науки
Мир без красоты руготня под стеною казармы
Беспамятный дрых по ночам в меблированных дотах
Где звезды внизу а вверху полевые жандармы
В вине и в дерьме в мертвецах и в курях в анекдотах
Желанья гнездятся Не в силах от них оторваться
Жрут пьют убивают и прут богатырские братцы
Под каждой травинкой весны под босыми ступнями пастушек
Гефест-хромоножка Ахиллу который спешит[72]
Кует украшает затейливой росписью пушек
Щит к битве последней Мир драной резинкой лежит
Война враскорячку любая войнишка и с каждой
Дешевой войнючкой поделятся славой и жаждой
Как птицы под их сапогами облитые кровью глубины
Никто не подскажет что смерть непотребна на вкус
Что лемехом смерти на две половины полынный
Пласт жизни разрезан и время пошло под откос
На предохранителе сердце в стволе не осталось
Тревоги топочут как боги на призрачной нашей дороге
Топочут грохочут то смуглые то белокурые
И волосы веют дыханьем чумы на ветру
На мытаре-ветре готовом принять и натурою
И глазки подслепые черными лапами трут
Красавцы мерзавцы мужчины в соку И пропорот
От уха до уха их гогот сжигающий ниву и город
СЧАСТЬЯ ДОВОЛЬНО МНОГО. Перевод В. Куприянова.
Счастья довольно много
Тогда бывает,
Когда тело вдруг невесомо
Парит на ветру,
Плечи, грудь и колени,
И вдруг так воздушно
Встречает другое тело,
В таком же
Легком полете.
Из них творит атмосфера
Одну сплоченную душу.
В кроны растений незримо
Вплетено их очарованье.
Целую вечность можно
Слушать, словно их шепот,
И то, как они друг другу
Дарят взаимно
Свою невесомость.
Счастья всегда прибывает
Чуть-чуть над нашей землей.
Но никому не доводится этого видеть.
ЦИКЛОН. Перевод Г. Ратгауза.
Сегодня еще мне можно
Услать тебя спать спокойно.
А пока я на улице вечерней
Посмотрю с соседями рядом,
Как всходит месяц.
Медленно будет месяц
На наших глазах меняться,
Потому что циклон уже близко.
Если бы только можно
Не слышать псов озверелых,
Которые близко где-то
Пируют над первым мертвым…
В их голосе слышен хриплый
Металл, который и в наших голосах прозвучит
Завтра,
Когда из окон, как флаги,
Сожженные выглянут лица,
Когда синие строчки воды
Распадутся на красные буквы.
РОБИНЗОН. Перевод В. Топорова.
Мои руки сами
Тянутся за кораблем
Цепкими пальцами
Я пытаюсь зацепить парус на горизонте
Сперва мне удавалось
Ловить таким образом некоторые
Самодвижущиеся предметы
Например форелей
Но муссон безжалостно
Топил мою эскадру
Сводил судорогой руки
Или же что-нибудь у меня ломалось
Компас
Руль
С кораблями нужно обращаться нежно
Поэтому я окликал их по имени
Каждый раз
По моему собственному
Теперь я с этим покончил и довольствуюсь
Обществом нескольких чудищ
Нескольких слов
СОН. Перевод Н. Гребельной.
Пока я сплю,
Пропадает новизна игрушки
В руках ребенка,
Тускнеет ее раскраска,
И — она уже непривлекательна.
Не успеешь и глазом моргнуть.
В дверном косяке
Торчит без дела нож,
Недавно нацеленный мне в грудь.
Да и теперь, поглядывая на него,
Убийцы мечтают о своем.
Спокойное время. Время спячки!
Слышно пульс тех,
Кто надеется остаться невидимками.
Теперь в почете мудрость
Умалчивания.
Теперь растения цветут
Осторожно.
И нет здесь глаз,
Которым все это было бы в диковинку.
ЛЕТНИЙ ПОЛДЕНЬ. Перевод Н. Гребельной.
Подорожная пыльная грива,
Как помол корицы, рыжа.
Языки лопухов лениво
Свисают в полдневный жар
И судачат, что в час покоя
Слышу я барабанный треск.
Порвалась субстанция зноя,
Только эха донесся всплеск.
Ветерка зеленая плетка
(Тишина да ореховый прут),
Знай, тебя приласкает кротко
(Словно эльфы кружатся тут),
Как предчувствие близкой прохлады,
Остужающей в чаще зной.
Это в душную дрему сада
Я врываюсь — ветер сквозной.
РЕКВИЕМ. Перевод С. Залина.
Ты нежный лик, из облаков сквозящий,
Когда дневные трубы множат страх,
Блаженный лик, в ночной глуши горящий,
Бесчувственный, похолодевший прах,
Ты тяжесть хрупких плеч, к моим прижатых,
Уста, что шепчут наши имена…
Все сгублено дыханием проклятых,
Очнувшихся от рокового сна,
Все кануло, распалось в темных звуках,
В отравленном круговращенье тел.
Для адских мук — забыть о сладких муках,
На горший променять благой удел?
Сосуд скудельный, скудный сгусток боли!
Ты исцелилась от минувших лет —
И только здесь, в мятущейся юдоли,
Нет исцеленья и забвенья нет!..
Над нами где-то та же, но иная,
Не мучая, не раня, не кляня,
О прошлом и о будущем мечтая,
Ты ожидаешь одного меня!
ГАНС МАГНУС ЭНЦЕНСБЕРГЕР. Перевод Л. Гинзбурга.
Ганс Магнус Энценсбергер (род. в 1929 г.). — Острая критика фашизма, милитаризма, буржуазной реакции особенно сильно прозвучала в ранних сборниках поэта («Защита волков», 1957, «Язык страны», 1932, «Азбука для незрячих», 1964). Творчество Энценсбергера знакомо советскому читателю по переводам Л. Гинзбурга.
ЗАЧИНЩИК.
Нужно нечто такое,
За что можно держаться:
Например, колючая проволока.
Нечто святое, высокое —
Пускай на ходулях.
Все мы нуждаемся в прочности.
У кого найдутся подпорки?
Или хотя бы — в мозгу з
Доровый, незыблемый мир:
Скажем, три фунта цемента.
Я признаюсь откровенно:
Под моей шевелюрой
Мозг никак не твердеет.
Скрыт под шерстью
Мой конспиративный аппарат —
Ненавистник всего,
Что вы объявили святым.
И — точка!
Миллионы нервных клеток —
Это ли не государственная измена?
Мне нечего сказать
В свое оправдание.
ЗАЩИТА ВОЛКОВ ОТ ОВЕЦ.
Что: прикажете коршуну жрать незабудки?
Шакалу сделаться кроликом?
Или, по-вашему, волк
Сам себе добровольно
Выдернуть должен клыки?
Чем вам не нравятся правые?
Чем не нравятся левые?
Отчего с таким изумлением
Вы, как кретины,
Уставились в телевизионный экран!
Ах, вы узрели неправду
В очередной передаче!
Но кто же тогда нашивает
На генеральские брюки
Кровавые ленты лампасов?
Кто преподносит барышнику
Жертвенного каплуна?
Кто, заходясь от гордости,
Украшает свое урчащее брюхо,
Уютно урчащий пупок
Крестом с дубовыми листьями?
Кто берет чаевые —
Извечные тридцать сребреников
(По курсу западной марки)
За сокрытье злодейства?!
В нынешнем мире
Воров меньше, чем обворованных.
Кто рукоплещет взломщикам?
Кто возводит убийц в почетные граждане?
Кто исступленно жаждет,
Чтобы его околпачили
И обобрали, как следует?
Вот вам зеркало: гляньте,
Узнайте самих себя,
Робких,
Страшащихся грубой суровости правды,
Неумолимости знанья,
Передоверивших право на бессмертную мысль
Стае волков!
Вденьте в ноздрю кольцо —
Вот для вас лучшее украшенье!
Нет такой глупости,
Которую вы бы не слопали,
Самый дешевый обман
Способен вас тут же утешить,
Самое мерзкое рабство
Примете вы за свободу.
Жабоподобные овцы,
Как вы друг с другом грызетесь,
Как вы друг друга морочите!
Братство царит средь волков,
В крепко сколоченных стаях.
Слава разбойникам!
Вы же,
Когда вас хотят изнасиловать,
Лениво ложитесь
На постель послушания.
Скуля,
Вы по-прежнему лжете:
Вам нравится быть растерзанными.
Нет, вы не измените мир.
О ТРУДНОСТЯХ ПЕРЕВОСПИТАНИЯ.
Воистину великолепны
Великие замыслы:
Рай на земле,
Всеобщее братство,
Перманентная ломка…
Все это было б вполне достижимо,
Если б не люди.
Люди только мешают:
Путаются под ногами,
Вечно чего-то хотят.
От них одни неприятности.
Надо идти на штурм — освобождать
Человечество,
А они идут к парикмахеру.
Сегодня на карту поставлено
Все наше будущее,
А они говорят:
Недурно бы выпить пива!
Вместо того чтоб бороться
За правое дело,
Они ведут борьбу
С эпидемией гриппа,
Со спазмами,
С корью!
В час, когда решаются всемирные судьбы,
Им нужен почтовый ящик
Или постель для любви.
В канун золотого века
Они стирают пеленки,
Варят суп…
Чем они только не заняты?
Бренчат на гитарах,
Режутся в скат,
Гладят кошек,
Нянчат детей.
Ну, скажите,
Можно ли с ними построить
Могучее государство?
Все рассыпается в прах!
Обыватели,
Ходячие пережитки прошлого,
Скопище жалких посредственностей,
Лишенное мысли!
Как с ними поступить?
Ведь нельзя же их всех уничтожить!
Нельзя же их уговаривать целыми днями!
Если бы не они,
Если б не люди,
Какая настала бы жизнь!
Если бы не они,
Как бы нам было легко,
Как бы все было просто!..
Если бы не было их,
О, тогда бы,
Тогда…
Тогда бы и я не мешал вам своими стихами!
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА.
Изношенная, в старой кожаной шкуре,
Книжка.
Стершиеся следы…
Роберто Моретти, Сант-Яго…
Телефоны, которые давно уже не откликаются
Или отвечает химчистка…
Клодина Авиллон из Клермон-Феррана…
Исчезнувшие минуты,
Имена, записанные наспех в вестибюлях отелей,
На вокзальных перронах, на конгрессах.
Ольга Диц, Гюнценхаузен…
Адресаты, выбывшие неизвестно куда.
Абоненты, отключенные от коммутаторов.
Разве я бывал когда-нибудь в Клермон-Ферране?
Кто это — Ольга, Роберто, Клодина?
Любовь, хлеб, разговор,
Ночь, обещание,
Которое никто не сдержал.
Случай, со своими причудами,
Со своими мертвыми ликами
И слепыми именами.
Так и мое имя,
Мой полустершийся след,
Останется в чьих-то других книжках.
Кто это?
Я,
Вычеркивающий свое имя
Из ваших книжек.
ГРЕЦИЯ.
КОСТИС ПАЛАМАС.
Костис Паламас (1859–1943). — Родился в городе Патры; воспитывался в доме своего дяди в Месолонги. В 1886 г. выходит в свет первый сборник его стихотворений — «Песни моей родины». В атмосфере общественного подъема конца XIX — начала XX в. романтическая лирика Паламаса проникнута патриотическими настроениями и мотивами национального возрождения, которое поэт связывает как с продолжением культурных традиций античности, так и с демократическим обновлением общества. В этот период творческого расцвета Паламас издает серию поэтических сборников («Ямбы и анапесты», 1897; «Горести лагуны», 1912; «Алтари», 1915, и др.), а также монументальные лиро-эпические поэмы «Двенадцать песен Цыгана» (1907) и «Свирель Короля» (1910). В 1926 г. он был избран членом созданной тогда Афинской академии, а в 1930 г. стал ее президентом.
Поздняя лирика Паламаса исполнена философских раздумий о жизни я поэзии. Умер поэт во время итало-германской оккупации Греции. Его похороны 28 февраля 1943 г. вылились в яркую демонстрацию антифашистского Сопротивления.
Стихотворения К. Паламаса печатаются по изданию: Костис Паламас. Избранное. М. «Художественная литература», 1970.
«Еще феаки там живут Гомеровы…». Перевод Новеллы Матвеевой.
Еще феаки там живут Гомеровы…[73]
Восток в объятье с Западом сливается,
И, темный, близ оливкового дерева,
Там кипарис к лазури прорывается.
Там сердце жаждет снова жить и веровать,
Там земли Пирра взору открываются;
Гармония ключами изливается,
Стремится грезы древние навеивать.
Там слышен мудрый голос новогреческий, —
Слепец бессмертный ловит песни новые
И вздохи роз разносятся пунцовые;
Тень Соломоса[74] дышит их цветением,
И Демодок, объятый вдохновением[75],
Прекрасный Крит и край поет отеческий.
* * *
«И я, такой как есть, с таким непрочным сердцем…». Перевод Новеллы Матвеевой.
И я, такой как есть, с таким непрочным сердцем,
В груди большой дрожащим, подобно птице пленной,
Среди сильнейших и могущественных мира
Всех ближе к свету я и к истине священной.
И потому кипит в душе моей глубоко, —
Хотя тоску в себе и слабость я несу, —
Ко всем сильнейшим и могущественным мира
Презрение. И мне оно к лицу.
* * *
«Богиня Слова ты, о материнский…». Перевод Новеллы Матвеевой.
Богиня Слова ты, о материнский,
Родной язык, души язык достойный!
Глубокое прозренье исчертило
Чело твое и стан согнуло стройный.
Но распрямись! Из будущего мира
Победы весть я для тебя похитил,
Как ту звезду, что светит через время.
О греческий язык! О смерти победитель!
* * *
«На дне отцовских книг вы сном священным спите…». Перевод Новеллы Матвеевой.
На дне отцовских книг вы сном священным спите,
О древние слова, под мертвой пеленою.
И вы, испуганные вороны, молчите:
Живая жизнь встает передо мною.
Чем жестче я веду с судьбою старый спор
И чем уверенней гоню коня мышленья,
С тем большей жаждою вдыхаю воздух гор,
Тем легче говорю на языке селенья.
* * *
«Певец! Поверь, в ней нет ни капли лжи…». Перевод Н. Горской.
Певец! Поверь, в ней нет ни капли лжи:
В ней — плоть твоя, в ней — красной крови гром!
Фантазия — в тебе, но рубежи
Фантазии — до звезд, и в небе — дом.
Ее поток всегда бурлил и жил
И, все сметая, несся напролом;
Ты — в нем, как луч, зажегший витражи
И вдруг переиначенный стеклом.
В раю, обители цветов живых,
Возьми росток, в своем саду взрасти,
И рай придет в твой сад — и в сад любой.
Дробясь в мечтах, как в каплях дождевых,
Ты держишь целый мир в своей горсти,
Но цепью скован навсегда с собой.
* * *
«О Город мой! До звездного предела…». Перевод Н. Горской.
О Город мой! До звездного предела
Ты эту весть великую вознес;
Она — лавровой веткой, пухом гнезд,
Колоколами в небеса взлетела.
О Город мой, одень цветами тело —
Пусть буря умиляется до слез,
Пускай в свечах блаженно плачет воск!
Как светел МИР! И как шагает смело
На темный Запад, на пустой Восток,
Народам обещая, что из тлена
Пробьется новой лилии росток.
Вот так же некогда прошла Елена
По тронам шатким, по клочкам порфир
И безмятежно прошептала — Мир…
* * *
«Не мановением руки господней…». Перевод Н. Горской.
Не мановением руки господней
Нам души отравил военный яд —
То Цезари на бойню шлют солдат,
Призвав на помощь силы преисподней.
От Рейна до Афин пожар сегодня;
Горгоны и Валькирии вопят:
«Распни!» — и вот уже народ распят,
А венценосцам дышится свободней:
Они с ухмылкой в крест вбивают гвозди.
Но где-то созревают гнева грозди,
Народ провозгласит: «Да будет так!» —
И вот, рожденный яростью, обидой,
Из пепла воскрешенный Немезидой[76],
В дворцы войдет карающий Спартак.
* * *
«Та ночь… О, как мучительно знакомо…». Перевод Н. Горской.
Та ночь… О, как мучительно знакомо
Лицо бессонницы, исчадья зла…
Но ты пришла, спасительница-дрема,
Ты, долгожданная, ко мне пришла,
Пришла, как тень, как сладкая истома,
Болезненным ознобом обожгла,
И сон ко мне спустился невесомо.
Огонь твоих волос вокруг чела,
Как царский золотой венец, пылал, —
Скажи, не Фидий ли тебя ваял?..
Я доброту прочел в глазах-светилах,
И на меня пролился тихий свет.
Я ног твоих коснулся легкокрылых
И в рай вознесся за тобой вослед.
КОНСТАНТИНОС КАВАФИС. Перевод С. Ильинской.
Константинос Кавафис (1863–1933). — Родился, жил и умер в Александрии. Происходил из знатной, разорившейся семьи; до преклонных лет был служащим.
От своих ранних романтических стихотворений Кавафис отрекся. Канонизированный свод его сочинений составляют стихи периода творческой зрелости (с конца 90-х годов XIX в.). Наиболее характерны «античные маски» — стихотворения, в которых описание «древних дней» высвечивает через вечные ситуации волнующую поэта современность. Стихи Кавафиса живыми символами вошли в сознание греческих читателей. Нравственный идеал поэта — Фермопилы, которые нужно защищать несмотря ни на что, даже тогда, когда победа зла немпнуема, — возвышается в поэзии Кавафиса символом высокой гражданской морали.
Стихотворение «Покидает Дионис Антония» переведено впервые.
ФЕРМОПИЛЫ[77].
[77].
Честь вечная и память тем, кто в буднях жизня
Воздвиг и охраняет Фермопилы,
Кто, долга никогда не забывая,
Во всех своих поступках справедлив,
Однако милосердию не чужд,
Кто щедр в богатстве,
Но и в бедности не скуп
И руку помощи всегда протянет,
Кто, ненавидя ложь, лишь правду говорит,
Но на солгавших зла в душе не держит.
Тем большая им честь, когда предвидят
(А многие предвидят), что в конце
Появится коварный Эфиальт
И что мидяне все-таки прорвутся[78].
ОЖИДАЯ ВАРВАРОВ.
Зачем на площади сошлись сегодня горожане?
Сегодня варвары сюда прибудут.
Так что ж бездействует сенат, закрыто заседанье,
Сенаторы безмолвствуют, не издают законов?
Ведь варвары сегодня прибывают.
Зачем законы издавать сенаторам?
Прибудут варвары, чтобы издать законы.
Зачем наш император встал чуть свет
И почему у городских ворот
На троне и в короне восседает?
Ведь варвары сегодня прибывают.
Наш император ждет, он хочет встретить
Их предводителя. Давно уж заготовлен
Пергамент дарственный. Там титулы высокие,
Которые пожалует ему наш император.
Зачем же наши консулы и преторы
В расшитых красных тогах появились,
Зачем браслеты с аметистами надели,
Зачем на пальцах кольца с изумрудами?
Их жезлы серебром, эмалью изукрашены.
Зачем у них сегодня эти жезлы?
Ведь варвары сегодня прибывают,
Обычно роскошь ослепляет варваров.
Что риторов достойных не видать нигде?
Как непривычно их речей не слышать.
Ведь варвары сегодня прибывают,
А речи им как будто не по нраву.
Однако что за беспокойство в городе?
Что опустели улицы и площади?
И почему, охваченный волнением,
Спешит народ укрыться по домам?
Спустилась ночь, а варвары не прибыли.
А с государственных границ нам донесли,
Что их и вовсе нет уже в природе.
И что же делать нам теперь без варваров?
Ведь это был бы хоть какой-то выход.
САТРАПИЯ[79].
[79].
Как горек твой удел, когда тебе,
Взращенному для дел великих и прекрасных,
Судьба злосчастная отказывает вечно
В поддержке и заслуженном успехе,
Когда стеною на пути встают
Тупая мелочность и равнодушье.
И как ужасен день, когда ты сломлен,
Тот день, когда, поддавшись искушенью,
Уходишь ты в далекий город Сузы[80]
К всесильному монарху Артаксерксу[81],
В его дворце ты принят благосклонно,
Тебе дарят сатрапии и прочее.
И ты, отчаявшись, покорно принимаешь
Дары, что сердцу вовсе не желанны.
Другого жаждет сердце, о другом тоскует:
О похвале общины и софистов,
О дорогом, бесценном слове «Эвге!»[82],
О шумной Агоре[83], Театре и Венках.
Нет, Артаксеркс такого не подарит,
В сатрапии такого не найдешь,
А что за жизнь без этого на свете.
ПОКИДАЕТ ДИОНИС АНТОНИЯ[84].
[84].
Когда внезапно в час глубокой ночи
Услышишь за окном оркестр незримый
(Божественную музыку и голоса) —
Судьбу, которая к тебе переменилась,
Дела, которые не удались, мечты,
Которые обманом обернулись,
Оплакивать не вздумай понапрасну.
Давно готовый ко всему, отважный,
Прощайся с Александрией, она уходит.
И главное — не обманись, не убеди
Себя, что это сон, ошибка слуха,
К пустым надеждам зря не снисходи.
Давно готовый ко всему, отважный,
Ты, удостоившийся города такого,
К окну уверенно и твердо подойди
И вслушайся с волнением, однако
Без жалоб и без мелочных обид
В волшебную мелодию оркестра,
Внемли и наслаждайся каждым звуком,
Прощаясь с Александрией, которую теряешь.
АЛЕКСАНДРИЙСКИЕ МОНАРХИ.
Сошлись александрийцы посмотреть
На отпрысков прекрасной Клеопатры,
На старшего Цезариона и на младших,
На Александра и на Птолемея,
Что выступят в Гимнасии впервые,
Где их царями ныне назовут
Перед блестящим воинским парадом.
Армении и Парфии владыкой
Всесильным Александра нарекли.
Сирийским, киликийским, финикийским
Владыкою был назван Птолемей.
Однако первым был Цезарион —
В одеждах нежно-розового шелка,
Украшенных букетом гиацинтов,
С двойным узором аметистов и сапфиров
На поясе слепящей красоты
И с крупным жемчугом на белых лентах,
Увивших ноги стройные его.
Он вознесен был выше младших братьев,
Провозглашен Царем среди Царей.
Разумные александрийцы знали,
Что это было только представленье.
Но день был теплым и дышал поэзией,
Лазурью ясной небеса сияли,
Гимнасии Александрии по праву
Венцом искусства вдохновенного считался,
Цезарион был так красив и так изящен
(Сын Клеопатры, Лага славного потомок).
И торопились, и к Гимнасию сбегались,
И криками восторга одобряли
(На греческом, арабском и еврейском)
Блестящий тот парад александрийцы,
А знали ведь, что ничего не стоят,
Что звук пустой — цари и царства эти.
СРОК НЕРОНА.
Дельфийское пророчество услышав,
Далек от беспокойства был Нерон:
«Страшись семидесяти трех годов…»
Немало временн, чтоб жизнью насладиться.
Ему лишь тридцать. Срок немалый бог
Отвел Нерону, чтобы упредить,
Предотвратить далекие угрозы.
Сейчас он в Рим вернется, утомленный
Прекрасным путешествием своим,
Но как приятно это утомленье
От удовольствий, что вкусил Нерон
В гимнасиях, театрах и садах…
О, вечера ахейских городов!..
О, сладострастье обнаженных тел…
Так думает Нерон. В Испании же войско
В глубокой тайне собирает Гальба,
Старик семидесяти трех годов.
АНГЕЛОС СИКЕЛЬЯНОС. Перевод Н. Горской.
Ангелос Сикельянос (1884–1951). — Родился на острове Левкада в семье учителя. Первая книга стихов поэта, «Ясновидящий», вышла свет в 1909 г. За ней последовали «Пролог к жизни» (1915), «Матерь божия» (1917), «Пасха греков» (1918), «Дельфийское слово» (1927). Автор ряда нескольких лиро-эпических трагедий.
Искрящееся жизнелюбие, возвышенный лиризм, сплав элементов неоклассицизма и неоромантизма определяют ту стилевую манеру, которую Сикельянос сохраняет на протяжении всего творчества. В 20-е годы он выдвигает «дельфийскую идею» — план создания в Дельфах всемирного культурного центра, организует театральные представления в древнем дельфийском театре. В годы второй мировой войны Сикельянос участвовал в Сопротивлении, возглавлял «Общество греческих писателей».
Стихотворения «Ахелой», «Анадиомена» и «Лишь потому…» взяты из икла «Лирика» (1912–1927), стихотворение «Клятва Стикса» — из сборника «Просфора» 1943). На русском языке публикуются впервые.
АХЕЛОЙ[85]. (Сон).
[85].
И был Ахелой переполнен, кипели и мчались валы,
И, в этом кипении стоя,
Я ноги столбам уподобил, и сам стал подобьем скалы,
Как бог, ожидающий боя.
Но жажда меня одолела, и рот приоткрыл я слегка,
Склонившись над влагою пенной,
И только собрался напиться, как мощным потоком река
Мне хлынула в горло мгновенно.
И бодрость, и дивную свежесть вливал в меня каждый глоток,
И легкость былая воскресла;
И — как ветерок на рассвете — я медленно пил тот поток,
Что раньше хлестал мои чресла.
Река обмелела, пропала, как пена в прибрежных камнях,
И дно предо мною открыла;
И стал наконец я свободным, и тяжесть исчезла в ступнях,
И я воспарил легкокрыло.
Наполнилось сердце отвагой, неведомой мне до сих пор,
И чувствовал я, вдохновенный,
В груди, что дышала привольно, и гордое мужество гор,
И юную радость вселенной.
Как ярко мое сновиденье! Как сила моя велика!
Затмил я того полубога,
Который схватил Ахелоя, принявшего образ быка,
За оба изогнутых рога,
И в шею уперся коленом, и пальцы так крепко сомкнул,
Что рог захрустел и сломался,
И, бешеной болью пронзенный, поток закружился, скакнул
И к морю со стоном помчался.
АНАДИОМЕНА[86].
[86].
Вот она — я — восхожу в сладостно-розовом свете зари,
Ввысь простирая длани,
И божественный моря покой выйти меня призывает,
В лазурный простор меня манит.
Но внезапно врываются в грудь, потрясая мое естество,
Рассветной земли дуновенья.
О Зевс, меня держит волна, и волосы топят меня,
Тяжкие, словно каменья!
О нереиды, — о Кимофоя и Главка! — бегите сюда
И поддержите богиню. Я
Не ждала, что откроет объятья мне Гелиос[87] вдруг
В этой сверкающей сини…
ЛИШЬ ПОТОМУ…
Лишь потому, что землю славил в глубине души,
И разум свой укоренил в терпенье молчаливом
И, крылья тайные сдержав, умчаться не спешил, —
Испить воды родник мне разрешил,
Родник живой, танцующий родник, родник счастливый.
Лишь потому, что не желал все ведать наперед,
А думой неотступно погружался в час летучий,
Как будто в нем сокрыт всей мудрости оплот, —
Во мне — голубизна вокруг иль тучи —
Мгновенье, круглое, как плод, блестит звездой падучей,
И благодатный ливень вновь идет, и зреет плод!..
Лишь потому, что знал: конец — начало всех начал,
И утверждал: «Коль день дождлив, заря бывает алой,
И укрепляет камни мирозданья даже шквал,
И кровь живой земли стучит сильнее после шквала…», —
Невзгоды вес так эфемерно мал,
И дева Смерть моей сестрою стала!..
КЛЯТВА СТИКСА[88].
[88].
И если некогда я был сродни стремительным орлам,
Которые весной короткой,
Не уставая, могут облететь Египет, Индию, Элладу,
И если некогда моя походка
Пружинистой была, как поступь моряка, избороздившего моря
И не забывшего, как пляшут под ногами волны,
И если вдруг — как будто темный ворон Ахерона
Уже забил крылами надо мной —
В себе замкнулся я,
Готовый устремиться
За грань неведомых, сокрытых ритмов мира,
Чтоб выйти к свету из земной темницы, —
Так почему я медлил до сих пор?
Но вот теперь, когда вы мне открыли путь,
Пройдя сквозь мрак легко и плавно — словно в танце,
Бессмертные мои бойцы,
Я к вам пришел и вижу, что над вами
Не смерть стоит, а мощный дуб
С тенистыми ветвями,
О Греции мы говорим, о Греции, что вам открылась,
Когда закат коснулся ваших глаз,
И, рассыпаясь на осколки, мир погас,
Чтоб родина из вашей крови возродилась,
Я с вами говорю,
Бойцы почившие мои, питомцы гор, долин и моря,
О всходах новой жизни, озаренных светом
Великой вашей жертвы, братья!
И если некогда я был сродни стремительным орлам,
Которые весной короткой,
Не уставая, могут облететь Египет, Индию, Элладу,
И если некогда моя походка
Пружинистой была, как поступь моряка, избороздившего моря
И ие забывшего, как пляшут под ногами волны,
И если вдруг —
Как будто темный ворон Ахерона
Уже забил крылами надо мной —
Все силы я собрал,
Готовый устремиться
За грань неведомых, сокрытых ритмов мира,
Чтоб выйти к свету из земной темницы, —
То уж теперь от вас я не уйду,
Я с вами каждое мгновенье,
Из сердца сделал я гумно,
Чтоб вы на нем сплясали, други,
И я, прикрыв глаза, смотрю на вас —
Как вы скользите, за руки держась,
По кругу в тайной пляске смерти,
И я смотрю, смотрю, не размыкая глаз,
Смотрю и наглядеться не могу,
Как вы, бессмертные бойцы, в одном кругу
Прекрасный танец клефтов[89]
На сердце пляшете моем!
От вас я не уйду, —
Какой бы ни была моя судьба,
Написанная звездами на небе, —
Я сердце отдал вам
Для пляски тайной,
Пускай пылает жертвенный костер,
Пусть высятся в саду могильные холмы,
А вы в глубинах сердца моего танцуйте танец клефтов,
Пока не упадут оковы тьмы,
И вы, восторженны, крылаты,
В порыве вдохновенном,
Станцуете наш древний танец по-иному —
Станцуете бессмертие Эллады!
КОСТАС ВАРНАЛИС. Перевод Е. Смагиной.
Костас Варналис (1884–1974). — Родился в городе Бургас (Болгария), в семье сапожника. Окончил филологический факультет Афинского университета, был учителем, а потом директором школы. В 1905 г. выпустил в свет первый сборник — «Соты», анакреонтические стихотворения, близкие по своей манере к французской школе парнасцев.
В 1919 г. для продолжения образования поэт уезжает в Париж, здесь же воспринимает социалистические идеи, осознает значение Октябрьской революции в оссии. По возвращении на родину занялся журналистикой. Начинается самый плодотворный период его творчества, выходят книга стихов и прозы «Пламенеющий свет» (1922), сатирическая повесть «Народ скопцов» (1923), трактат «Соломос без метафизики» (1925), поэма «Осажденные рабы» (1927), повесть-памфлет «Дневник Пенелопы» (1946), сборник исторических портретов «Диктаторы» (1954).
Обличительный пафос, бичевание уродств буржуазного мира сочетаются в произведениях Варналиса с гуманностью, светлым и добрым видением природы, человека, будущего.
В 1934 г. Варналис принял участие в Первом съезде советских писателей. В 1959 г. он был удостоен Международной Ленинской премии мира. В 1975 г. в Афинах посмертно вышел сборник Варналиса «Гнев народа» — стихотворения, написанные поэтом в период военной диктатуры 1967–1974 гг.
На русском языке издан том «Избранное» Костаса Варналиса («Художественная литература», 1959).
Стихи, публикуемые в настоящем томе, на русский язык переводятся впервые.
ОБРЕЧЕННЫЕ.
Вчера в подвальном кабаке,
В дыму табачном, в перебранке,
Под вопли уличной шарманки
Мы пили, сидя в уголке.
Вчера — и раньше: вечер каждый
Сжигает нас хмельною жаждой.
Кто к полной кружке тянет руки,
Кто на пол сплюнет иногда.
О, в мире нет страшнее муки,
Чем жизни прожитой года!
Как ни копайся в прошлом сорном,
Не вспомнишь дня, чтоб не был черным.
О солнце и морские воды,
О небо, щедрое стократ!
Шафранные шелка восхода,
Гвоздикой рдеющий закат!
Сияньем вашим мир украшен,
Но нет вам места в сердце нашем!
У одного отец недужен —
В параличе десятый год;
А у того жене все хуже —
В чахотке тает, кашель бьет;
Сынок в тюрьме, дочь на панели, —
Чтоб дети даром хлеб не ели.
— Кто виноват? Судьба дрянная!
— Кто виноват? Господень суд!
— Кто виноват? Башка дурная!
— Вино всему виною тут! —
Кто виноват? Кто мрак осветит?
Никто не знает, не ответит.
Так в темном чреве кабака
Мы пьем, трусливы и убоги.
Найдем, как черви на дороге,
Смерть под ударом каблука.
Нет избавленья ниоткуда.
Чего мы ждем? Должно быть, чуда.
«НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ».
Учителя, вы долго добивались,
Чтоб думать и желать я разучился,
Вранью внимал, ложь повторял за вами,
Враньем кормился и во лжи скончался.
Но я был тверд — и срок ученья минул,
Ни душу мне не поломав, ни спину.
Беда, коль обречен ты смерти скорой,
Но хуже смерти — стать продажной шкурой.
* * *
«Быть первым хорошо! С тебя отныне…».
Быть первым хорошо! С тебя отныне
Великое Искусство начинается.
Ты так считаешь — значит, это правда.
День ото дня расти ты будешь больше,
И станет родина тесна. И все же,
Когда тебя обнимет мать-Земля,
Она тебе ни пяди не подарит
Сверх роста твоего. Но что с того?
Ты много лет ее шагами мерил!
А есть другой — он учится всего лишь
Не быть ничтожным в собственных глазах,
Не насмехаться и не быть осмеянным,
Не украшать, но обнажать. И все же,
Когда его обнимет мать-Земля,
Всем станет ясно, как велик он.
УГРЫЗЕНИЯ СОВЕСТИ.
— Бегучая вода, седые кроны,
Цветов дыханье, птичьи перезвоны!
Печали, гнев и страсть свою остудишь,
Наедине с самим собой побудешь!
— Пришел я в сад — под вековою сенью
От самого себя ищу спасенья.
Сам за собой лечу — погоней злою,
Сам у себя в груди — тупой иглою.
О, где ты, выдуманный Ад? Явись,
Дай мне упасть в огонь твой и спастись!
КОСТАС КАРИОТАКИС. Перевод Юнны Мориц.
Костас Кариотакис (1896–1928). — Родился в городе Триполи, получил юридическое образование, работал служащим. В 1919 г. вышел в свет его первый сборник стихов — «Боль людей и вещей», в 1921 г. — сборник «Нипенти» и в 1927 г. — «Элегии и сатиры». В 1928 г. Кариотакис покончил жизнь самоубийством. Лирика Кариотакиса исполнена трагического мироощущения, скорби о невозможности счастья, о несбыточности надежд. После поражения Греции в войне с Турцией (1919–1922 гг.), в период крушения националистических иллюзий о возрождении великой Греции в былых пределах Византийской империи, эти настроения преобладали и в общественной жизни, и в поэзии. Отвращение к жалкой действительности выливается у Кариотакиса в негодование и сарказм, в острую непримиримость к лицемерию буржуазной морали.
Стихотворения Кариотакиса взяты из сборника «Элегии и сатиры», на русский язык переводятся впервые.
О, КАКИМИ ЖЕ МЫ МОЛОДЫМИ ОЧУТИЛИСЬ НА ОСТРОВЕ ГОЛОМ…
О, какими же мы молодыми очутились на острове голом,
На диком краю вселенной, вдали от мечты и земли!
Когда мачта последней надежды исчезла за облачным долом,
Мы, влача свою вечную рану, медленно шли — и пришли.
Наши глаза опустели, походкой живого увечья
Каждый бредет в одиночку, но все — по дороге одной,
Тело наше от боли — тяжесть нечеловечья,
Голос наш слышен издали — не голос, а вой сплошной.
А жизнь уплывает сиреной над белой морскою пеной.
Лишь смертью, казенной смертью и желчью, сосущей мрак,
Нас балует жизнь — о, сколько бы ни улыбался в плену вселенной
Луч солнца! А мы так молоды, а мы так молоды, так
Молоды, и однажды жуткой порой ночною
Сюда нас бросило судно — сейчас оно в сердце тьмы
Теряется, а мы спрашиваем: что с нами? и что со мною?
За что мы здесь угасаем так быстро, почти детьми!
ЧИНОВНИКИ.
Все чиновники тают — сколько их ни питают,
Тают (как батарейки) по двое в кабинете.
(Государство и Смерть — вечно электрики эти
Питают чиновников, которые тают.)
Сутуло, за спинкой стула, марают, перо вперяют
В невинность белой бумаги, отпетым служа прохиндеям.
«Настоящим письмом имеем честь (или честь имеем)», —
Они заверяют и заверяют.
Им только честь остается, когда сквозь сумерки бледные
В восемь часов вечера поднимаются их колонны
Вверх по улице — как заводные, железные или медные.
И покупают каштаны, и обсуждают законы,
А также валюту, цены и всевозможные страны,
Пожимая плечами, чиновники бедные.
НЕСЧАСТЬЕ.
Пришли последние первыми, предав идеалы, святыни.
Покупается честь у кого она есть: Деньги у нас — на вершине.
Если некогда в мыслях, в глазах был ответный порыв,
То отныне жизнь похожа на мрачный миф, — неизвестность, горечь, унынье,
На губах — настойка полыни.
Ночь глубока-глубока. К черту — проклятую койку!
Врываюсь в пустые покои, вижу паучьи снасти.
Надежды нет никакой. Домой, окончив попойку,
Идет полуночника тень. И, душой разрываясь на части,
Я пронзительно крикнул: «Несчастье!»
И это жуткое слово в небе вспыхнуло огненной строчкой,
И деревья перстами водили под ним, и звезды к нему присохли,
И оно пылало на ваших домах — на гробах под кирпичною оболочкой,
И собаки почуяли жуткую суть, и залаяли, и заохали.
Разве люди совсем оглохли?
ИДЕАЛЬНЫЕ САМОУБИЙЦЫ.
Дверь заперта на ключ, собранье писем
Читается бесстрастно, в неком трансе,
Затем — влачась к своим предсмертным высям,
В последний раз шаги звучат в пространстве.
Да, говорят, вся жизнь была кошмаром.
О, смех людей, достойный отвращенья,
Их слезы, пот, тоска по небу, — нет, недаром
Цепная пустота сомкнула звенья!
Стоят и смотрят в окна мертвецами —
На скверы, на детей, чья жизнь беспечна,
На мраморщиков, бьющих в твердь резцами,
На солнце — ведь закатится навечно.
Конец. Вот краткая записка на прощанье,
Глубокая, без вычур — все, как надо,
В ней — безразличье к жизни и прощенье
Тому, кто будет плакать до упада.
Взгляд в зеркало, на стрелки часовые,
Вопрос: не зря ли? а здоров ли разум?
И шепот: кончено! сейчас! — и, как впервые,
В душе уверенность, что — следующим разом…
ГЕОРГОС СЕФЕРИС.
Георгос Сеферис (наст. фамилия — Сефериадис; 1900–1971). — Родился в Измире. В 1914 г. переехал в Афины. Получил юридическое образование. С 1926 г. начинается его дипломатическая карьера, закончившаяся в 1962 г. В 1963 г. удостоен Нобелевской премии. Автор поэтических книг «Поворот» (1931), «Водоем» (1932), «Роман» (1935), «Судовой журнал I» (1940), «Судовой журнал II» (1944), «Дрозд» (1947), «Судовой журнал III» (1955).
Лирика первых поэтических книг Сефериса передает ощущение тупика, в который завело Грецию поражение в греко-турецкой войне 1919–1922 гг., горькие раздумья над трагической эволюцией многовековой греческой истории. Обратившись к структуре верлибра, Сеферис явился одним из первопроходцев «новой поэтической традиции» в Греции.
В годы второй мировой войны поэзия Сефериса сближается с поэзией Сопротивления, проникается гражданским, патриотическим чувством. Опыт атифашистской войны сказывается и позднее, в создании «Судового журнала III» (1955), написанного под впечатлением борьбы кипрского народа за свою независимость, и в антидиктаторской позиции, которую поэт занял после военного переворота 1967 г. Стихотворения «Рассказ» и «По шипам колючего дрока…» переведены впервые.
АРГОНАВТЫ. Перевод Л. Лихачевой.
И душа,
Если она хочет познать себя,
В душу другую должна заглянуть —
Чтобы там увидеть, как в зеркале,
Чужестранца или врага.
Спутники мои
Были славные парни,
Не жаловались
На усталость, жажду и стужу.
Были похожи они на деревья и волны,
Что встречают ветер и дождь,
Встречают солнце и ночь,
Не меняясь в окружающем их измененье.
Славные парни! Целыми днями
Трудились они на веслах, не поднимая глаз,
Ритмично дыша,
И краснела от напряженья покорная кожа.
Иногда они пели, не поднимая глаз.
А между тем мы плыли на запад
Мимо пустынного острова, поросшего дикой смоковницей,
Того, что за мысом, где яростно лают громадные псы.
Душа,
Если она хочет познать себя, — говорили они, —
В душу другую должна заглянуть, — говорили они, —
И веслами били по закатному золоту моря.
Миновали мы множество мысов,
Множество островов,
Видели море, что сливается с морем другим,
Тюленей и чаек,
Слышали, как рыдают
Матери над убитыми сыновьями,
Проклиная Александра Великого
И славу, загубленную в глубинах Азии.
Мы якорь бросали у берегов,
Полных ночных ароматов и пения птиц,
Берегов, где струится вода,
От которой на руках остается
Память о счастье.
И не было странствиям нашим конца.
Души друзей моих слились
С уключинами и веслами,
С неумолимым ликом, высеченным на носу корабля,
С кругом руля, солеными брызгами.
Один за другим покидали меня мои спутники,
Не поднимая, глаз. Веслами
Отмечены на берегу места, где они спят.
Никто их не помнит.
Справедливость.
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ. Перевод Л. Лихачевой.
День стоял сумрачный. Никто ничего не решал.
Дул ветерок. «Это не грегос, это — сирокко», — кто-то промолвил.
Торчали воткнутые в склоны тонкие кипарисы, за ними
Серое море с озерами света там, вдали.
Брызнул дождь, и солдаты взяли ружья на караул.
«Это не грегос, это — сирокко», — единственное решение,
Которое можно было услышать.
Но все мы знали —
На новой заре у нас ничего не останется,
Ничего — ни женщины, пьющей сон рядом с нами,
Ни воспоминанья о том, что когда-то мы были мужчинами, —
Ничего не останется на новой заре.
«Этот ветер напоминает весну, — глядя вдаль, сказала
Подруга, шагавшая рядом, —
Весну, которая вдруг средь зимы налетела на берег залива так неожиданно.
Помнишь? Столько лет пронеслось. Как-то теперь умирать доведется?»
Марш похоронный блуждал под мелким дождем.
Как умирает мужчина? Странно, никто не думал об этом.
А если думал, то вспоминал давние, давние времена,
Крестоносцев походы или битву при Саламине.
Но смерть, вот та, что приходит сейчас? Как умирает мужчина?
Своя достается каждому смерть,
Своя собственная и ничья другая.
И эта игра есть жизнь.
Свет угасал над сумрачным днем.
Никто ничего не решил.
На новой заре у нас ничего не останется, все будет предано —
Даже наши руки.
И жены наши в чужие дома будут воду носить из горных ключей,
И дети наши погибнут
В каменоломнях.
Подруга моя, шагая рядом, напевала обрывки песни:
«Ах, той ли весною… летом… Райя ты моя, райя…»[90]
Кто-то вспомнил о старцах-учителях, оставивших нас.
Мимо прошла пара, беседуя:
«Надоели они, эти сумерки. Пойдем-ка домой.
Пойдем-ка домой и зажжем свет».
РАССКАЗ. Перевод Э. Ананиашвили.
Заливаясь слезами, идет по улице человек.
О чем он плачет? Никому не известно!
Иные думают — об утраченной любви,
Об угасших страстях, что владеют нами
С такою силой в летнюю пору,
На пляже, под музыку граммофонов.
У других — житейские заботы,
Незавершенные дела, недописанные бумаги,
Дети — как они быстро растут!
И женщины — как они трудно старятся!
А у него глаза — как пылающие маки,
Два мака с зеленого весеннего поля,
А под веками — два маленьких родничка.
Он бродит и бродит, он никогда не спит,
Он шагает по мостовой, по лицу земли,
Покрытому узором из маленьких квадратов:
Живая машина, беспредельное страданье —
О, в конце концов оно теряет значенье
И со временем становится неважным…
Люди слышали: он разговаривал на ходу
Сам с собой, ни к кому не обращаясь,
О зеркалах, расколотых давным-давно,
О лицах, разбившихся в глубине зеркал,
Об осколках, которых уже не склеить.
Другие слышали, как он горевал о снах,
Об ужасных видениях на пороге сна,
О лицах, полных невыразимой нежности…
Мы привыкли к нему. Он спокоен и корректен.
Он только ходит и плачет, не переставая,
Как плакучие ивы на берегу ручья,
Что уносятся вдаль, мелькнув за окном вагона,
Хмурым утром, в тоскливый час пробужденья.
Мы привыкли к нему — он ничего не значит,
Как все, что пригляделось и вошло в привычку.
И я рассказываю о нем лишь потому,
Что не знаю ничего, ничего на свете,
Непривычного для вас.
Мое почтенье!
ЛИК СУДЬБЫ. Перевод Л. Лихачевой.
Лик судьбы, склоненный над колыбелью ребенка,
Ветер, и звезд круги, и февральская темная ночь,
Мудрые старицы-повитухи, ступеньки скрипучие,
И сухие, голые плети виноградной лозы во дворе.
Над колыбелью ребенка — лик судьбы
В черном, повязанном низко платке.
Улыбка неизъяснимая, опущенные ресницы, грудь,
Белая, как молоко.
Открывается дверь, и исхлестанный морем рыбак,
Войдя, утомленно бросает
На сундук вымокшую фуражку.
Эти лица и эти картины были с тобой,
Когда свою сеть ты плел на морском берегу
Или когда уходил от встречного ветра,
Глядя в провалы черные волн;
На всех морях, всех заливах были они с тобой —
Тяготы жизни твоей и счастье твое.
А дальше я не могу читать —
Тебя связали цепями,
Подгоняют штыком,
В лесу, среди ночи оторвали от женщины,
Корда она, счастливая, смотрела тебе в глаза,
Не в силах вымолвить слова,
Лишили тебя
Света, и моря, и хлеба.
Как могли мы упасть, товарищ, в эту смрадную яму страха?
Разве такая судьба у тебя,
И мне разве это писано на роду?
Кто это смеет командовать и убивать за нашей спиной?
Не спрашивай. На току
Кружатся, кружатся три красные лошади с завязанными глазами,
Топчут и топчут они человечьи кости.
Не спрашивай. Время придет —
Эта кровь, эта кровь
Поднимется, как Георгий, всадник святой,
И копьем пригвоздит к земле кровавого змея.
Октябрь 1941 Г.
КОШКИ СВ. НИКОЛАЯ. Перевод С. Ильинской.
Почему же радость отдается.
Песнею безлирною эриний[91]?
Почему в слезах душа моя?
Безнадежная тоска.
Страх и боль родит в груди.
Эсхил. Агамемнон[92].
«А вот и Каво Гата[93], — молвил капитан
И показал на низкий голый берег,
Едва видневшийся за пеленой тумана. —
Сегодня рождество. Вон там, вдали,
В порывах веста из морской волны
Явилась Афродита. Камнем Грека
Зовется это место. Лево
Руля!» Мне помнится, глазами Саломеи
Смотрела кошка, год спустя ее не стало,
А Рамазан, как он смотрел на смерть
В снегах Востока, день за днем
Под леденящим солнцем,
Малютка-бог, хранитель очага.
Не медли, путник… «Лево
Руля», — ответил рулевой.
…Сейчас, быть может, друг мой
Один и взаперти, среди картин,
За рамами напрасно ищет окна.
Ударил корабельный колокол, как будто
Упала гулко древняя монета
Давно исчезнувшего государства,
Будя воспоминанья и преданья.
«Как странно, — оборвал молчанье капитан, —
Но этот колокол сегодня, в рождество,
Напомнил мне о колоколе монастырском.
Историю о нем мне рассказал монах,
Чудак, мечтатель и немножко не в себе.
Так вот, когда-то страшное несчастье
Постигло этот край. За сорок с лишним лет —
Ни одного дождя, и остров разорился,
И гибли люди, и рождались змеи.
Мильоны змей покрыли этот мыс,
Большие, толще человеческой ноги, и ядовитые.
И бедные монахи монастыря святого Николая
Ни в поле не осмеливались выйти,
Ни к пастбищам стада свои погнать.
От верной гибели спасли их кошки,
Взращенные и вскормленные ими.
Лишь колокол ударит на заре,
Как кошки выходили за ворота
Монастыря и устремлялись в бой.
Весь день они сражались и на отдых
Недолгий возвращались лишь тогда,
Когда к вечерне колокол сзывал,
А ночью снова начиналась битва.
Рассказывают, это было чудо:
Калеки — кто без носа, кто без уха,
Хромые, одноглазые, худые,
Шерсть клочьями, и все же неустанно
По зову колокола шли они сражаться.
Так пролетали месяцы и годы.
С упорством диким, несмотря на раны,
В конце концов они убили змей,
Однако вскоре умерли и сами,
Не выдержав смертельной дозы яда.
Исчезли, как корабль в морской пучине,
Бесследно… Так держать!
…Могло ли быть иначе,
Коль день и ночь им приходилось пить
Пропитанную ядом кровь врага.
Из поколенья в поколенье яд…»
«…Держать!» — откликнулся, как эхо, рулевой.
«ПО ШИПАМ КОЛЮЧЕГО ДРОКА…»[94]. (Государство, 616). Перевод С. Ильинской.
[94].
Был восхитителен Суний[95] в этот день благовещенья
С новым приходом весны.
Редкая зелень вокруг заржавевших камней,
Красное тело земли и колючий кустарник:
Дрок — цветки желтоватые и большие шипы наготове.
Поодаль — колонны, звучащие струны арфы…
Покой.
Так что же напомнило мне о том Ардиее? Пожалуй,
Словечко одно из Платона, застрявшее в складках памяти,
Желтый кустарник — с тех самых далеких времен
Название не изменилось.
Вечером я отыскал это место:
«Связали его по рукам и ногам, — говорит Платон, —
Наземь его повалили и кожу содрали,
И поволокли по земле, по шипам
Колючего дрока, и после
Бросили в Тартар его, как тряпку».
Так на том свете платил за свои злодеяния
Ардией из Памфилии, жалкий тиран.
ЯННИС РИЦОС.
Яннис Рицос (род. в 1909 г.). — Родился в городе Монемвасия, в семье разорившегося землевладельца. Начал публиковать свои стихи в начале 30-х годов, в 1934 г. вышел в свет его первый поэтический c6орник «Тракторы», затем появились сборник «Пирамиды» (1935) и поэма «Эпитафии» (1936) — произведения новаторской, революционной образности, исполненные социального оптимизма и гражданственности. В годы второй мировой войны поэт принял участие в движении Сопротивления, а во второй половине 40-х годов, разделяя участь многих борцов Сопротивления, подвергся преследованиям и прошел через концлагеря Макронисос и Ай-Стратис. После военного переворота 1967 г. был вновь арестован, заключен в концлагерь на острове Лерос, а затем сослан на остров Самос. Паденне военной диктатуры в 1974 г. принесло свободу и поэту, и его книгам.
Рицос выпустил в свет более пятидесяти поэтических книг, среди которых «Песнь моей сестре» (1937), «Испытание» (1943), «Лунная соната» (1956), «Свидетельства», том I (1963) и том II (1966), «Филоктет» (1965), «Орест» 1966), «Камни. Повторения. Решетка» (1972), «Четвертое измерение» (1972), «Из бумаги» (1974) и др. Перевел на греческий язык поэму А. Блока «Двенадцать» и стихотворения В. Маяковского.
В жанровом многообразии поэзии Рицоса — от афористически чеканных миниатюр до философских поэм-монологов — широчайший диапазон художественного познания и поэтического освоения эпохи.
ОТСУТСТВУЮЩИЕ. Перевод Юнны Мориц.
За них говорили другие, решали другие. Они,
Как будто их не было рядом, как будто они вне закона
(И так оно есть, вне закона),
Слушали из репродукторов свои имена, обвинения судей
И текст приговоров,
Видели груды табличек — груды болтливых угроз и запретов —
Металлических серых табличек, не читанных ими. Далеко, далеко,
Изгнанники, чужие в своем отечестве, отчужденные от себя,
Ко всему безразличные, —
Это они, те, кто некогда верил в силы своей ответственности
И вообще в ответственность граждан,
Они, средоточцы огромных знаний (заученных в древности),
Такие прекрасные, такие доверчивые.
А теперь — нет ни единого храма Амфиарая[96], и на холмике, маленьком,
Каменистом, асфоделью поросшем,
Нет барана черного цвета, чтобы жертву богам принести,
Чтобы после прилечь
На теплую шкуру животного и прободрствовать долгую ночь, ожидая
Хотя бы в галлюцинациях увидеть искру спасения, выход,
Целебную травку,
Которая будет одна панацеей для этой отчизны и целого мира
(Как говорили в те времена),
И бросить потом золотые большие монеты в родник, —
В благодарность за чудо. Но, впрочем, всегда, насколько мы помним,
Служители Амфиарая находили в своем роднике
Только медную мелочь.
И нет ничего удивительного — люди забывчивы, а золото
Было им нужно всегда.
ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ. Перевод Юнны Мориц.
Когда афинское войско потерпело поражение
При Эгоспотамах[97] и чуть погодя,
Когда мы потерпели окончательное свое поражение, —
Прекратились наши вольные речи, блеск Перикла,
Расцвет античных искусств, гимнастические уроки,
Собеседы пирующих мудрецов. Сегодня
На Агоре — гнетущая тишь, и угрюмство, и произвол Тридцати.
Все, и в том числе самое сокровенное, происходит
В наше отсутствие, без нашего спроса,
И это не подлежит никогда никакому обжалованию,
И обвиняемый беззащитен —
Ни адвокатов, нп скромного права даже на мелочь:
На формальный протест.
В огонь — наши рукописи и книги,
И честь омраченной родины — в грязь. И если
Когда-нибудь, предположим,
Нам разрешили бы как свидетеля привести с собою
Старого друга, он отказался бы только из страха:
Как бы ему самому не пришлось нахлебаться наших несчастий, —
И был бы он прав. Поэтому здесь
Нам хорошо — вполне вероятно, что мы набрели
На какой-то новый контакт с природой,
Из-за колючейпроволоки разглядывая кусочек моря, траву и камни
Или случайное облако на закате, лиловое, мрачное,
Неспокойное. И между тем, вполне вероятно,
Что еще возникнет когда-нибудь дух Кимона[98],
Управляемый тайно все тем же орлом,
И вместе они откопают и обнаружат железное острие,
Которое некогда было нашим копьем, —
Оно тоже стало тупым и ржавым,
И вполне вероятно, что его принесут однажды в Афины
В триумфальном и траурном шествии, при венках
И торжественной музыке.
И ПОВЕСТВУЯ ОБ ЭТОМ…[99]. Перевод Юнны Мориц.
[99].
Люди, идеи, слова измельчали настолько,
Что нас теперь не волнует нисколько
Ни старая слава, ни новая, ни благородная биография Аристида;
И если кто-нибудь иногда
Пытается вспомнить доблести Трехсот или Двухсот[100],
Другие немедленно
Его обрывают с презрением или в лучшем случае
С иронией и скептицизмом.
Но порой, как сейчас, например,
Когда погода светла и прозрачна — в день воскресный
На стуле под эвкалиптами
Среди этой безжалостной ясности на нас нападает
Сокровенная скорбь и тоска
О блеске, испытанном прежде, хотя сегодня
Мы называем его дешевым. Шествие трогалось на заре —
Трубач впереди, а за ним — повозки с венками
И грудами веток душистого мирта,
За ними вышагивал аспидный бык, а следом — юноши шли
И кувшины несли с молоком и вином
Для возлияния мертвым; в благовонных фиалах
Качались масла и ароматные смеси.
Но всего ослепительней — в самом конце процессии
Шел архонт, одетый в пурпурное,
Архонт, которому целый год не позволяли касаться железа
И надевать на себя хоть что-нибудь, кроме белого, —
Теперь он — в пурпурном
И с длинным мечом на поясе величественно пересекает город,
Держа прекрасную вазу, извлеченную из общественной утвари,
И направляясь к могилам героев. И когда —
После того как бывали омыты надгробные стелы
И роскошные жертвоприношения завершены, —
Он поднимал свою чашу с вином и, выливая его на могилы,
Провозглашал:
«Я подношу эту чашу самым доблестным, тем, кто пал
За свободу греков», —
Пробирала великая дрожь все окрестные лавровые рощи,
Дрожь, которая даже теперь пробирает эту листву эвкалиптов
И эти залатанные пестрые тряпки, после стирки
Развешанные на этой веревке.
ГЕРАКЛ И МЫ. Перевод Юнны Мориц.
Тебе говорят: он — большой и великий, сын бога,
И кроме того, знаменит кучей блистательных
Учителей, —
Старец Лин, просвещенный сын Аполлона, обучил его грамоте,
Ловкий Эврит преподал
Уроки искусной стрельбы из лука; Эвмолп,
Вдохновенный сын Филаммона,
Развил его склонности к песне и лире; но главное —
Сын Гермеса, Автолик,
Чьи густые, дремучие, страшные брови затмевали собой
Половину лба,
Обучил его славно искусству аргоссцев — подножке:
Отменное средство,
Надежнее нет ничего, чтобы вырвать победу в борьбе,
В кулачном бою и, как признано, даже в науке.
Но мы, дети смертных, без ведома учителей обладая
Всего лишь собственной волей,
Упорством, а также системой селекции и пыток,
Стали такими, какими смогли.
Мы нисколько себя не чувствуем низшими, нам не стыдно
Смотреть любому в глаза.
Наши титулы на сегодняшний день — в трех словах:
Макронисос, Юра и Лерос[101].
И как только наши стихи вам покажутся аляповатыми —
Сразу вспомните, что они написаны
Под конвоем, под носом охранников, под ножом,
Приставленным к ребрам.
И тогда нет нужды в оправданиях; принимайте стихи
Такими, как есть, и не требуйте того, чего у них нет, —
Вам больше скажет сухой Фукидид, чем изощренный в письме
Ксенофонт.
ЗОЛОТОЕ РУНО[102]. Перевод Юнны Мориц.
[102].
Зачем добивались мы золотого руна? Еще одно испытание —
Возможно, самое страшное;
Симплегады, убийства; в Мизии отставший Геракл,
И его ослепительный мальчик — Гилас, потонувший в источнике;
Кормовое весло слома лось, и другого не будет, и не будет отдыха.
Колхида, Эет, Медея. Медный бык.
Приворотное зелье и бесполезность борьбы.
И Апсирт — его по кусочкам отец подбирает из моря.
И это руно —
Уже достигнута цель, и — свежайший страх:
Как бы смертные или боги у тебя не украли добычу;
Если держишь руно в руке, его золотая шерсть освещает ночи твои,
Если держишь руно на плече, его золотая шерсть освещает тебя целиком,
Ты — мишень и для тех и для этих: никакой возможности
Спрятаться в тень,
Чтоб остаться в своем ничтожном углу, обнажиться,
И быть, и существовать.
Но чем же была бы наша бедная жизнь без этой золотой
(Как мы все говорим) пытки?
ИЗ БУМАГИ. (Фрагменты). Перевод С. Ильинской.
* * *
Из бумаги, да, из бумаги.
Передай основную линию,
Чтобы, обрушившись, крыша
Не разбила стакан,
Не ударила мертвую.
* * *
Правда? Пришло письмо?
Разорви.
Потом мы его соберем
По клочку,
Склеим
И прочитаем.
Ты слышишь выстрелы?
* * *
На той фотографии
Был старик с бородой.
Фотографию сняли.
Стерлась бечевка, — сказали, —
Упала бы,
Стекло бы разбилось.
Теперь за баулом
Старая фотография
Смотрит в стену.
Там не бечевка.
Там проволока.
* * *
То, что пропало,
Что не пришло,
Не нужно оплакивать.
То, что имел,
Но утаил,
Стоит оплакать.
* * *
Задобрил злую собаку?
Бросил ей хлеб?
(И сахар?)
Съест и тебя.
* * *
Дом был стеклянный,
Пустой,
Виднелась внутри
Пустота
И медное кольцо
В потолке.
В подвале —
Ржавая мышеловка
И зеленый сапог
Лесничего.
Я принес их судье —
Единственные улики.
* * *
Как он намучился, сооружая
Из этой газеты
Большую бумажную птицу.
(И спрятал в нее
Настоящую птицу.)
Летит, — сказали, —
Смотрите, газета летит,
Да как уверенно, ровно.
Конечно, летит.
А ходить по земле не может.
* * *
Что ты хотел сказать?
Я забыл.
Всё-то меня прерывают,
Всё-то я забываю о главном,
Наверное, не случайно.
На рассвете
Сон застал меня в кресле.
По векам моим
Мизинчиком провела
Далекая благодарность.
Может быть, это мне и хотелось сказать.
Об этом я и забыл.
* * *
Я накрыла его тарелку,
Ушла.
Он поест еще теплое.
Поймет, что накрыла я.
Поймет ли, что нет меня?
НИКИФОРОС ВРЕТТАКОС. Перевод С. Ильинской.
Никифорос Вреттакос (род. в 1912 г.). — Родился в деревне Крокес под Спартой. Активный участник Сопротивления. Из поэтических книг Вреттакоса можно назвать «Под тенями и светом» (1929), «Гримасы человека» (1935), «Послание Лебедя» (1937), «Героическая симфония» и «33 дня» (1945), «Время и река» (1957), «Глубина мира» (1961), «Ода к Солнцу» (1974).
Антивоенная тема — одна из основных в творчестве Вреттакоса. Нести людям солнце, «сгружать в души людей небо», раскрывать для них красоту мира и их собственную красоту — в этом видит Вреттакос назначение поэзии.
В 1957 г. Вреттакос посетил Советский Союз, впечатления от этой поездки вылились в книгу «Один из двух миров».
Стихотворения «На перекрестке улиц Эола и Виссы» и «Рождение» печатаются по тексту публикации журнала «Иностранная литература», № 3 за 1965 г. Стихотворения «Речь рук» и «Дело поэтов» переведены впервые.
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ УЛИЦ ЭОЛА И ВИССЫ.
Человек на тротуаре словно меряет взглядом
Время, расстояние, яркость света.
Куда идти? Туда? Сюда? Он, видно, не знает.
Он подносит ко лбу холодную ладонь и вглядывается пристальнее.
Солнце нашего века светит не очень ярко.
(Было время, он шагал,
Он прыгал и танцевал. Было время, когда восходило солнце,
И, поднимая голову, он видел его.
Он помнит девушку в красном, парк,
Море, сад.)
А война
Снова грозит прийти.
И сжечь его память и его деревянную ногу.
РОЖДЕНИЕ.
Что за буря, боже мой! Как ты промокла!
Как спутались волосы твои, Мария!
Что же ты встала в дверях? Проходи.
Погрейся у моего огонька. Я сварю тебе чай.
(Заработок у меня мизерный, а у наших друзей
Нет и этого. Таков уж наш круг.) Вот тебе шаль.
В доме беспорядок. Ты оглядываешь его с любопытством.
Входи же.
Незадолго до твоего прихода
В этих яслях родилось стихотворение.
Незадолго до тебя пришла и здесь родила
Печаль мира.
РЕЧЬ РУК.
Чуть ли не час говорили со мной твои руки,
Мне доводилось слышать песни рек и лесов,
Но эту песню я слышал впервые —
Ее исполнили руки твои.
Кузнечик
На сосне приумолк. А там, где пылал закат,
Вертикали лучей почудились мне следами, —
Их оставили крылья слетевших на землю богов.
В сумерках,
Окутавших мир, только они и звучали,
Только они и слышались — руки твои.
Десять сверчков на десяти твоих пальцах,
Глядя в далекое небо, в экстазе
Пели — и тут мне опять показалось,
Почудилось, будто следы от крыльев
Сложились в пять нотных линеек.
ДЕЛО ПОЭТОВ.
Поэты живут вне страха.
Подобные солнцу, что прямо лучи свои направляет,
Прямо они говорят. Нет ладони, способной
Рот им закрыть, заковать вдохновение. Знают они
Цену династий и тронов; не свод королевских законов
Высший закон они чтут.
И правду запретную, как тюремный сигнал,
Повторяют…
Поэт —
Это дух земли, он над нею встает,
Когда опускается мгла, и сверху сияет,
Как кусочек молнии, на большой
Высоте, в ночи.
ОДИССЕАС ЭЛИТИС. Перевод Юнны Мориц.
Одиссеас Элитис (наст. фамилия — Алепуделис). — Родился в 1912 г. на Крите. Свои первые стихотворения опубликовал в 1935 г., в 1940 г. выпустил сборник «Ориентации». Один из основателей «новой поэтической традиции» верлибра в Греции. Прозрачные и радостные стихи раннего Элитиса проникнуты чистотой восприятия, доверием и любовью к жизни, к природе. В 1940 г. Элитис принял участие в греко-итальянской войне. Картины страданий и смерти, разрушившие в сознании поэта светлый миф о безграничной радости, запечатлены им в поэме «Песнь героическая и скорбная о младшем лейтенанте, погибшем в Албании» (1945).
В поэме «Достойно есть» (1960) поэт приходит к философскому осмыслению радости как награды за борьбу со злом, за веру в конечную победу добра.
Стихи Элитиса на русский язык переведены впервые.
ГРАНАТОВОЕ СУМАСШЕДШЕЕ ДЕРЕВЦЕ.
Не в этих ли белых дворах, где южный ветер пылит
И в каменных арках скулит — скажите, не здесь ли
Гранатовое сумасшедшее деревце,
Которое так на свету трепещет и рассыпает свой смех плодоносный…
С капризами ветра и лепетом ветра, — скажите, не здесь ли
Гранатовое сумасшедшее деревце,
Которое искры зари рассыпает над свежей листвой,
Разжигая вселенские краски с ликующей дрожью?
Не на равнинах ли этих, где просыпаются девочек голые стайки
И золотистыми пальцами клевер срывают малиновый, —
Не здесь ли оно, блуждающее в пространстве младенческих
Снов, — скажите, не здесь ли
Гранатовое сумасшедшее деревце,
Которое беззаботно бросает свой свет в их сырые корзины,
Рассыпает журчанье их детских имен, — скажите, —
Не здесь ли гранатовое сумасшедшее деревце,
Которое борется с пасмурной бездной мира?
В сердце дня, который от бешеной ревности распускает семь видов крыльев,
Заграждая вечное солнце тысячью толстых призм,
Ослепительных, жгучих призм, — скажите, не здесь ли
Гранатовое сумасшедшее деревце,
Ухватившее гриву, сто раз подстегнутую на диком лету,
И не хнычущее, не унывающее, — скажите, не здесь ли
Гранатовое сумасшедшее деревце,
Которое криком гранатовым возвещает восход надежды?
Окажите, не здесь ли гранатовое сумасшедшее деревце,
Которое вдаль посылает приветы,
Помахивая платочками листьев из свежего пламени,
Море, способное миру родить тысячу два корабля,
Волны, способные совершить тысячу две попытки,
Чтобы льнуть к берегам, неведомо пахнущим, — скажите, не здесь ли
Гранатовое сумасшедшее деревце,
Которое снасти трещать заставляет в прозрачном утреннем воздухе?
Высоко, с голубою гроздью, загорающейся для праздника,
С гроздью, полной опасности, гордости, — скажите, не здесь ли
Гранатовое сумасшедшее деревце,
Которое светом своим в ненастье пронзает злого, черного духа,
И шафранный воротник молодого дня простирает из края в край,
Воротник, обильно расшитый песнями, — скажите, не здесь ли
Гранатовое сумасшедшее деревце,
Которое так торопливо расстегивает золотые шелка ароматного дня?
В нижней юбке первоапрелья и в цикадах зрелого августа, —
Скажите мне, та, что злится, резвится и сводит с ума,
Стряхивая с угрозы черные брызги гнева,
И запуская за пазуху солнцу всех поющих, пьянящих птиц, —
Скажите мне, та, что перья на вещей груди раздвигает,
На вещей груди сновидений наших глубоких, — не она ли
Гранатовое сумасшедшее деревце?
ЕЛЕНА.
И было первой каплей дождевой убито наше золотое лето
Намокли все слова чье лоно прежде само рождало звездный блеск
Все те слова намокли у которых была единственная цель — Твоя душа!
Куда теперь мы будем руки простирать когда пренебрегает
Нами время
На чем теперь мы остановим взор когда туманные изгибы дальних
Линий попали в катастрофу среди туч
Теперь когда
На всех пейзажах наших закрылись навсегда
Твои ресницы
И мы — как будто нас туман заполнил —
Живем в своем пронзительном сиротстве и в окружении
Твоих портретов мертвых.
Прильнув челом к туманному стеклу нет мы не умираем
В новой скорби
И нас не смерть убьет — ведь ты не тлен ты существуешь
Вечно и во всем
Ведь существует вечно ветер свежий который сам в тебя вдыхает
Жизнь тебя вблизи он одевает точно так же
Как наша вечная надежда одевает тебя издалека
Ведь существует где-то
Зеленая равнина что простерлась — от смеха твоего
До солнца в небе
До солнца — и ему твой смех вверяет тайну что мы с Тобою
Встретимся опять
Нет нет не смерть повисла перед нами
А лишь малюсенькая капелька дождя
Осеннего дождя — всего и только
Лишь чувство смутное
Сырой земли дыханье в наших душах которые уходят вечно вдаль
И если не в моей твоя рука
И если кровь моя течет не в жилах твоей мечты —
Свет в чистом небе
И музыка незримая поет в нас О! печальная
Союзница всего что держит нас еще в угрюмой жизни мира
Да! влажный ветер осень час разлуки
Горчайший способ опереться локтем о светлое воспоминанье
Которое всплывает в час когда стремится полночь нас от света отлучить
За тем окном квадратным и глядящим лишь в сторону
Одной великой скорби
За тем окном — оно не видит ничего
Поскольку стали музыкою пламя незримое в камине и удар
Больших часов на каменной стене
И вот уже стихотвореньем стали одна строка с
Другой и звук перекликающийся с каплей
Осеннего дождя и со слезами и со словами
И со словами не такими как другие а с теми у которых есть одна
Единственная цель — Твоя душа!
МЫ ШЛИ…
Мы шли и шли целый день по земле все вместе
С нашими женщинами нашими солнцами нашими псами
Играли пели воды попили
Свежайшей бьющей сквозь недра минувших столетий.
На одну минуту присели после обеда
И друг другу в глаза глубоко-глубоко взглянули.
Из груди на волю вспорхнула крылатая бабочка
Она оказалась белее
Нашей маленькой белой ветви на самом краю мечты.
Мы знали что ей не дано угаснуть
И что белая-белая она совершенно не помнит сколько гусениц тащит.
Мы огонь разожгли когда стало смеркаться
И запели
Огонь прекрасный огонь не жалей иссохших ветвей
Огонь прекрасный огонь не дойди до пепла
Огонь прекрасный огонь жгись
Говори нам о жизни сжигая.
Мы всю жизнь говорим о жизни мы руками берем ее за руки
Мы смотрим ей прямо в глаза которые смотрят на нас
И если то что нас вечно пьянит — магнит и это мы знаем
И если то что нас болью казнит — зло и это мы испытали
И мы говорим о жизни мы идем лицом к ее птицам
И без тени упрека приветствуем птиц ее улетающих
Мы воистину из хорошего поколения.
ТЕЛО ЛЕТА.
Очень давно были пролиты последние капли дождя.
Над муравьем и рептилией — небо сгорает.
Фрукты красят свой рот, сочные губы свои.
Поры земли отворяются медленно,
И рядом с водою, медленно каплющей по слогам,
Огромное смотрит растение — прямо солнцу в глаза.
Кто это навзничь лежит на раскаленном песке,
Листья олив серебристых мглою окуривая?
Это в его ушах кузнечики греются,
И на его груди муравьи надрываются,
И рептилии пресмыкаются в его растительности подмышек,
И над водорослями ног так легко вздыхает волна,
Посланная сиреной, которая спела вселенной:
«О, голое тело лета, голое, загорелое,
Промасленное, просоленное,
Голое тело скалы и дрожь молодого сердца,
Колыхание ивовых свежих волос,
Базилика дыхание над кудрявым лобком,
Где ракушек полно и сосновых иголок, —
Голое тело, глубокий корабль искрометного дня!»
Тихие ливни журчат, сильные грады стучат,
Мчатся над сушей чеканной в когтях урагана,
Который чернеет в бездонной дикости океана.
В белизну облаков тугогрудых ныряют холмы.
Но над зверством стихий ты всегда улыбаешься так беззаботно,
Находя невредимым бессмертье свое, —
Ровно так же, как солнце всегда находит тебя на песке,
Ровно так же, как небо всегда находит здоровое, голое тело твое.
ДАНИЯ.
ЛЮДВИГ ХОЛЬСТЕЙН. Перевод И. Бочкаревой.
Людвиг Хольстейн (1864–1943). — Один из создателей датской поэзии XX в. Стоит несколько в стороне от своих современников-символистов; близок по духу к Гете и датскому поэту XIX в. Эленшлегеру. Ему присущ пантеизм мировоззрения, любование красотой природы, воспевание женщины, любви, материнства, неприхотливой жизни простого человека.
Основные сборники стихов: «Стихи» (1895), «Лист» (1915), «Время яблок» (1920), «Гимны в песнях» (1922). Поэт составил также антологию «Природа Дании в стихах и песнях» (1929). На русский язык стихи Хольстейна переводятся впервые.
В НАШЕЙ КОМНАТУШКЕ.
В нашей комнатушке
Белоснежно ложе,
На оконце шторы
Белоснежны тоже.
Два лимонно-желтых
Ириса в стакане —
Милая нашла их
На сырой поляне.
Глянь: в лучах заката
Все, что было бело,
Розами расцветясь,
Тонко заалело.
Кудри моей милой
Золотыми стали,
И румянцем счастья
Щеки запылали.
Все спокойно. Ветры
Все угомонились.
За ограду сада
Тени зазмеились.
Высоко над полем —
Жаворонка пенье.
В мире все спокойно —
Лишь в душе смятенье.
СЕНТЯБРЬ.
Красно-зеленые яблоки женщина с веток рвет.
Она в просторной, без пояса, ярко-зеленой одежде,
Спадающей с грудей высоких на чуть округленный живот.
Затяжелела она, но красива, как прежде.
Яблочный запах втянула крупным и свежим ртом,
За сочной мякотью губ полоски зубов засверкали.
Глаза ее синие схожи с горным прозрачным льдом,
Она крупная, светловолосая, кудри до бедер упали.
Стоя по голые щиколотки в траве сырой,
Крепкие ветки она трясет налитыми руками.
И рушатся с дерева, как проливень грозовой,
Душистые яблоки, траву прибивая боками.
Яблоки прыгают, катятся, как глянцевитый поток.
Светловолосая женщина стан располневший склоняет
И подбирает плоды, лежащие прямо у ног.
На щеках ее теплый румянец расцвел.
Влажные яблоки мокрой рукой опускает в подол
И в корзину плетеную свой урожай высыпает.
ОТТО ГЕЛЬСТЕД. Перевод Г. Плисецкого.
Отто Гельстед (1888–1968). — Поэт, прозаик, переводчик, критик. Поэт ярко выраженной идеологической направленности — марксист, антифашист. Издал книги стихов «Вечные вещи» (1920), «Дорога к Астрид» (1927), «В непогоду» (1934), «Эмигрантские стихи» (1945) и др., а также роман о жизни датских эмигрантов во время войны («Беженцы в Хюсабю»). Перевел на датский язык «Илиаду», «Одиссею», трагедию Еврипида «Ипполит», стихи Агриппы д’Обинье, Пабло Неруды, Назыма Хикмета. Автор ряда литературоведческих и искусствоведческих работ.
В СССР изданы два сборника стихов Гельстеда («Стихи», оба в 1958 г.).
МОЛОТ ГОСПОДЕНЬ.
Дух твой пылает в господнем горниле,
Дабы его, как булат, закалили.
Каждая искра, что прочь отлетает,
Звездным цветком в темноте расцветает.
Пусть же звенит заготовка, пылая,
Яркие астры вокруг рассыпая!
Пусть от восторга кузнец рассмеется,
Пусть он почувствует: труд удается!
Плющит железо кузнец, не жалея,
Бьет раз за разом все тяжелее.
Ухает молот! Не жалуйся даром —
Будь благодарен тяжелым ударам.
Станешь ты крепок и в дело пригоден,
Станешь ты твердым, как молот господень.
СТАРАЯ ПРЯХА.
Ты смотришь на меня пытливым взглядом, пряха:
«Что ты извлек из пролетевших лет?
Распутался клубок. Все, что построил, прахом
Рассыпалось…» Что мне сказать в ответ?
От жизни взял я жизнь — загадку без ответа,
Мечту и дружбу, небеса и твердь,
Немного красоты, немного света, —
Пока меня не ослепила смерть.
Как будто полный ковш мне подали однажды,
И горечь в нем, и сладость меда есть.
Сожгла мне кровь, но беспокойной жажды
Не утолила дьявольская смесь.
О чем жалеть? Хотел бы я подольше
Побыть в кругу товарищей моих.
Но их теперь уже гораздо больше
Среди умерших, чем среди живых.
Я был в Небытии в эпоху Рима,
Но срок настал — и появился я.
Мелькнула жизнь, как миг неповторимый, —
Я вновь уйду во мрак Небытия.
Меня не испугают своды склепа,
Небытие — давнишний мой приют.
Ребенок старый я, и сон мой крепок,
И смерть качает колыбель мою.
Умру, но поколенье молодое
Возьмет мой факел, понесет вперед.
А вечно жить, страдать, не знать покоя —
Такая мысль с ума меня сведет.
ТОМ КРИСТЕНСЕН. Перевод Пат. Булгаковой.
Том Кристенсен (1893–1974). — Поэт, прозаик, критик, журналист. Воплощение «потерянного поколения» в датской литературе, он первым заговорил об отчаянье и моральном банкротстве общества в период между двумя мировыми войнами. Важнейшие поэтические сборники Кристенсена: «Мечты пирата» (1920), «Павлинье перо» (1922), «Земные песни» (1927).
ТРАВА.
Как высока надо мной трава,
Когда, к луговине припав,
Я с удивленьем вижу миры
В сумерках солнечных трав.
Стрельчатых окон зеленый свет.
Радуг не сосчитать.
Медлю войти в душистую мглу!
Медлю в травинках блуждать!
Голос высокий послышался, словно
Голос, зовущий в сонное лоно:
«Я жду, приходи, приходи, приходи,
Жду, приходи, приходи…
Иди…»
И звонко,
Тонко,
Чистым мальчишеским альтом в ответ:
«Нет еще, нет! Нет, еще нет!»
Но вот безумье мое растает,
И о величье мечты растают,
А я… я снова маленьким стану.
Тогда приду я, приду.
DIMINUENDO[103].
[103].
И, утомленный твоими объятьями,
Чувствуя сонные губы твои,
Я, погружаясь в дыханье дремотное,
Поцелуем минуты любви.
И, утомленный тобой, в ослеплении
Буду я бедра и груди ласкать.
Буду из мрака рукою уверенной
Вазу, как светлое тело, ваять.
И, утомленный лаской стихающей,
Вижу смягченную линию форм.
Вижу лицо на подушках и водоросли
Пряди волос твоих выбросил шторм.
И, утомленный, тобой не замеченный,
Тихо уйду из постели твоей.
Буду бродить по каморке темнеющей,
Словно слепой, среди душных вещей.
Анна Мария, какая ты жаркая.
Анна Мария, во мне ты одна.
Анна Мария, дай мне прохлады.
Анна Мария, здесь у окна.
НИС ПЕТЕРСЕН. Перевод Г. Плисецкого.
Нис Петерсен (1897–1943). — Поэт и прозаик. В молодости бродяжничал, биография его полна темных мест. Жизнь среди изгоев и отщепенцев наложила своеобразный отпечаток на все творчество Петерсена.
Издал сборники стихов: «Ночные трубы» (1926), «Порывистые стихи» (1933), «К королеве» (1935), прозаические книги: «Улица сандалыциков» (1931), «Пролитое молоко» (1934) и др.
ПРИВЕТ ЛЮДЯМ ДОРОГИ!
Начинается с первого шага
И уводит в чужие края
Твоя дорога, бродяга,
Дорога твоя и моя.
Будет сниться перед концом
Дорога с белым лицом,
Подковавшая ноги свинцом, —
Привет идущим по ней!
Тюфяк. Бутылка. Корыто.
Нового — ничего.
То, что было в тебе сокрыто
До рождения твоего.
Мучительнейшая из дорог,
Любовница наших ног,
Ты ее ненавидеть мог?
Привет идущим по ней!
Проклятье дороги дальней:
Всю жизнь, усталый, спеши!
Проклятый оскал банальный
Вместо улыбки души!
Мы сбились. Дороги нет.
Проклятый туманный свет!
Будь проклята! Но привет,
Привет идущим по ней!
ИГРА.
Мильоны смертных этой ночью вечной
Дрожат во тьме — им эта мгла чужда.
Умершие колонной бесконечной
Уходят по дороге в никуда.
И только плач в ночи вовек пребудет,
Да жуткий смех разносится окрест,
И всё во тьме — что было, есть и будет —
Сокрытое великолепьем звезд.
Дитя, ты слышишь гром костей игральных?
Подсчет очков идет в глухой ночи.
Как мы малы среди огней астральных!
Спи на моем плече, любимая, молчи…
ПОЛЬ ЛЯ КУР. Перевод О. Чухонцева.
Поль ля Кур (1902–1956). — Поэт, прозаик, переводчик, критик. Путь ля Кура весьма сложен: начав с эстетизма, он пришел через пантеистическое любование природой к острому ощущению ответственности перед будущими поколениями за минувшую мировую войну и за войну, грозящую в будущем, пришел к действенному гуманизму, что и стало главным идейным содержанием зрелой лирики поэта.
Издал поэтические сборники: «Утро Аркадии» (1924), «Дождь над миром» (1933), «Всего я требую» (1938), «Живая вода» (1946) и др., ряд романов, сборников новелл, монографий о датских художниках.
ВОДА ПОД ТРАВОЙ.
Под тощей землей, в глубинах — у нас говорят старики
Толкается в тесном русле могучий напор реки.
Им слышимся чуткой ночью, как он бормочет вдали,
Звенит, пульсирует, дышит весною в груди земли.
Они из своих постелей прислушиваются к тому,
Как пульс под травою бьется и дальше стучит во тьму.
Есть смех родниковый, жила, вибрирующая впотьмах,
Живительный ключ, который таится во всех вещах.
Когда струна в половицах невидимая поет,
Им кажется приключеньем их старость — и нет забот.
Живут они, им сдается, в пещере, где странен свет,
И этому сновиденью ни имени нет, ни лет.
ХУДОЖНИК.
Хотел собрать он все слова и звуки
И жить в себе, пока они внутри
Не сложатся в какую-то картину,
Не скажут: это ты и есть — смотри!
И легкие виденья заставлял он
Нести, бунтуя, незнакомый гнет
Его тяжелой крови — в тесных стенах,
В пределах непосильных им забот.
И каждый день он замечал, что чахнет,
Он сознавал в бессилии своем,
Что каждый звук — тюремная решетка
И он повязан пагубным родством.
Когда ж, собравшись с силами, связал он
Слова и звуки, мыслям форму дал,
Когда они вздохнули облегченно,
Он вышел из работы — и пропал.
Нерукотворное, его созданье,
Освободясь от временных оков,
Само влачило собственную ношу,
А мастер отошел — и был таков.
ИРЛАНДИЯ.
УИЛЬЯМ БАТЛЕР ЙЕЙТС.
Уильям Батлер Йейтс (1865–1939). — Виднейший ирландский поэт и драматург; родился в семье художника в Дублине; учился в Дублине и Оксфорде. Был одним из инициаторов «Ирландского возрождения» — литературно-художественного движения 1890-х гг., целью которого было возрождение гэльского языка и создание произведений, опирающихся преимущественно на традиции народного поэтического творчества и мифологии. В 1899 г. был основан Ирландский литературный театр, в 1904 г. преобразованный в Театр аббатства. Йейтс был его директором до 1938 г. «Этот странный, мечтательный, одинокий поэт… — писал Шон О’Кейси, — несмотря на свои „потусторонние“ мечты и свое заигрывание с символикой… в глубине сердца знал, что в жизни много несправедливости, и жаждал, чтобы жизнь стала светлей для всех людей». Первая кнпга стихов У.-Б. Йейтса вышла в свет в 1889 г. — «Странствия Ойзина», за ней последовали «Ветер в тростнике» (1899), «Ответственность» (1914), «Полнолуние в марте» (1935), «Новые стихи» (1938) и многие другие, а также пьесы, рассказы, эссе о поэзии и театре и т. д. Поэзия У.-Б. Йейтса, ее мифотворческая основа оказали огромное влияние на англоязычную поэзию XX века.
Политическая пьеса У.-Б. Йейтса «Кэтлин, дочь Холиэна» (символическое название Ирландии), действие которой происходит в 1798 г., во время восстания против англичан, стала манифестом в борьбе ирландских республиканцев за национальную независимость.
В 1923 г. У.-Б. Йейтс получил Нобелевскую премию по литературе. На русском языке стихи У.-Б. Йейтса печатались в переводах С. Маршака, С. Map, Б. Томашевского.
ОСТРОВ ИННИСФРИ[104]. Перевод А. Сергеева.
[104].
Встану я, и пойду[105], и направлюсь на Иннисфри,
И дом построю из веток, и стены обмажу глиной;
Бобы посажу на лужайке, грядку, две или три,
И в улье рой поселю пчелиный.
И там я найду покой, ибо медленно, как туман,
Сходит покой к сверчкам утренней росной пылью;
Там полночь ярко искриста, полдень жарко багрян,
А вечер — сплошные вьюрковые крылья.
Встану я и пойду, ибо в час дневной и ночной[106]
Слышу, как шепчется берег с тихой озерной волною;
И хотя я стою на сером булыжнике мостовой,
Этот шепот со мною.
ГОРЕ ЛЮБВИ[107]. Перевод Г. Симановича.
[107].
В полнеба звезд и полная луна,
И по карнизам гомон воробьиный,
И громкой песней листьев сметена
Печаль земли — ее мотив старинный.
Но вот пришла ты с мукой на устах,
С тобой все слезы от времен Голгофы,
Всех кораблей пробоины в бортах
И всех тысячелетий катастрофы.
И звезды меркнут, корчится луна,
Дрожит карниз от свары воробьиной,
И песня листьев прочь отметена
Земных скорбей мелодией старинной.
РОЗА МИРА[108]. Перевод Э. Шустера.
[108].
Кто красоту назвал недолгим сном?
Для алых губ в их траурном расцвете
Все новое прошло на этом свете:
Минула Троя жертвенным огнем,
Погибли Усны дети[109].
Вторгается наш деловитый мир, —
Не замечая душ, уступчивых, как тени,
Податливых, как воды в зимней лени
Под крышей звезд, оснеживших эфир, —
В края уединений.
Архангелы, склонитесь перед ней:
Еще до вас, до нас в земной юдоли,
Еще Один на царственном престоле,
Он для нее по доброте своей
Из мира сделал поле.
ВОЛХВЫ[110]. Перевод Э. Шустера.
[110].
Как прежде, могу их видеть — одетых
В жесткое, яркое — бледных, усталых людей;
В бездонности неба они есть и нет их,
Древних, как скалы в оспинах от дождей;
Шлемы их серебрятся, паря бок о бок;
Недовольны глаза их, видящие, как наяву,
Смятенье Голгофы, и взгляд их не робок
Тайны, вершащейся неподвластно в хлеву.
ФЕРГУС И ДРУИД. Перевод А. Сергеева.
Фергус:
Весь день я за тобою шел по скалам,
А ты, как облако, менял свой облик,
Был древним вороном, на чьих крылах
Едва трепещут перья, был куницей,
На камень с камня скачущей проворно,
И вот ты принял облик человека
И стал передо мной, седой и дряхлый,
Полурастаявший в вечернем мраке.
Друид:
Чего тебе, король из Алой Ветви?
Фергус:
Скажу тебе, мудрейший из живущих:
Я сел судить, а юный Конхобар[111]
Судил со мной, и был премудр словами,
И разрешал легко все, что казалось
Неразрешимым, и свою корону
Ему я отдал, чтоб тоску избыть.
Друид:
Чего тебе, король из Алой Ветви?
Фергус:
Досель король! И в этом скорбь моя.
Я праздную с народом на холме,
Брожу в лесу или гоню коней
По белой кромке ропщущего моря
И всюду знаю, что на мне корона.
Друид:
Чего тебе?
Фергус:
Расстаться с королевством,
Постичь твою мечтательную мудрость.
Друид:
Взгляни на седину мою и дряхлость,
На руки, коим не поднять меча,
На тело, что трепещет, как тростинка.
Меня не знала женщина, мужчина
Ко мне не обращался за подмогой.
Фергус:
Король всего лишь труженик безумный,
Он тратит кровь, чтоб стать чужой мечтой.
Раз ты решил, возьми суму с мечтами;
Развяжешь — и они тебя обступят.
Фергус:
Я вижу, бытие мое струится
Рекой от перемены к перемене;
Я многим был — зеленой каплей моря,
Лучом на стали, елью на холме,
Рабом, вращающим тяжелый ворот,
И королем на золотом престоле —
Все это было дивным и великим;
Теперь же, все познав, я стал ничем.
Друид, друид! Какие сети скорби
Таятся в пыльной маленькой суме!
ТОТ, КТО МЕЧТАЛ О ВОЛШЕБНОЙ СТРАНЕ. Перевод А. Сергеева.
Он медлил на базаре в Дромахере[112],
Считал себя в чужой толпе родным,
Мечтал любить, пока земля за ним
Не запахнула каменные двери;
Но кто-то груду рыб невдалеке,
Как серебро, рассыпал на прилавке,
И те, задрав холодные головки,
Запели о нездешнем островке[113],
Где люди над расшитою волною
Под тканой сенью неподвижных крон
Любовью укрощают бег времен.
И он лишился счастья и покоя.
Он долго брел песками в Лиссаделле
И в грезах видел, как он заживет,
Добыв себе богатство и почет,
Пока в могиле кости не истлели;
Но из случайной лужицы червяк
Пропел ему болотной серой глоткой,
Что где-то вдалеке на воле сладкой
От звонкого веселья пляшет всяк
Под золотом и серебром небесным[114];
Когда же вдруг настанет тишина,
В плодах лучатся солнце и луна.
Он понял, что мечтал о бесполезном.
Он думал у колодца в Сканавине,
Что ярость сердца на глумливый свет
Войдет в молву окрест на много лет,
Когда потонет плоть в земной пучине;
Но тут сорняк пропел ему о том,
Что станет с избранным его народом
Над ветхою волной, под небосводом,
Где золото разъято серебром,
И тьма окутывает мир победно;
Пропел ему о том, какая ночь
Влюбленным может навсегда помочь.
И гнев его рассеялся бесследно.
Он спал под дымной кручей в Лугнаголле[115];
Казалось бы, теперь, в юдоли сна,
Когда земля взяла свое сполна,
Он мог забыть о бесприютной доле.
Но разве черви перестанут выть,
Вокруг костей его сплетая кольца,
Что бог на небо возлагает пальцы,
Чтоб ласковым дыханием обвить
Танцоров над бездумною волною?
К чему мечты, пока господен пыл
Счастливую любовь не опалил?
Он и в могиле не обрел покоя.
ПЕСНЬ РЫЖЕГО ХАНРАХАНА ОБ ИРЛАНДИИ. Перевод А. Сергеева.
Черный ветер на Куммен врывается с левой руки[116],
Боярышнику на взгорье обламывая суки;
На черном ветру решимость готова оставить нас,
Но мы в сердцах затаили пламя твоих глаз,
Кэтлин, дочь Холиэна[117].
Вечер проносит тучи над кручею Нокнарей[118],
Швыряет грома, тревожа покой могильных камней;
Ярость, как бурная туча, переполняет грудь,
Но мы к стопам твоим тихим жаждем нежно прильнуть,
Кэтлин, дочь Холиэна.
Клотнабарские воды выходят из берегов[119],
Слыша в звенящем небе влажного ветра зов;
Словно полые воды, отяжелела кровь,
Но чище свечи пред распятьем наша к тебе любовь,
Кэтлин, дочь Холиэна.
РЫБОЛОВ[120]. Перевод А. Сергеева.
[120].
Передо мной, как прежде,
Веснушчатый человек
В простой коннемарской одежде;
Я вижу, как он чуть свет
Идет закидывать мух
В ручей на склоне холма, —
И чту его бодрый дух
И мудрую трезвость ума.
Зову его образ, чтобы
В спокойных чертах прочесть
То, что настать могло бы,
И то, что сегодня здесь, —
Когда процветает враг
И умер любимый друг[121],
Окружен почетом пошляк,
И правит страною трус,
И ни одного негодяя
К ответу не призовут,
И, пьяный сброд забавляя,
Кудахчет мудрец, как шут,
Когда возводит лакей
Постыдную клевету
На самых лучших людей,
На Разум и Красоту.
Может быть, целый год,
Несмотря на безумный век,
Передо мной предстает
Веснушчатый человек,
И его коннемарское платье,
И пена среди камней,
И быс рый изгиб запястья
При падении мухи в ручей.
Пришел ко мне, как ответ,
И весь день со мной неспроста
Человек, которого нет,
Человек, который мечта;
И я написать ему должен,
Покуда хватает сил,
Стихи, где живут, быть может,
Зари прохлада и пыл.
ЛЕТЧИК-ИРЛАНДЕЦ ПРЕДВИДИТ СВОЮ ГИБЕЛЬ[122]. Перевод А. Сергеева.
[122].
Я знаю, что с судьбою вдруг
Я встречусь где-то в облаках,
Защитник тех, кому не друг,
Противник тех, кому не враг.
Ничья победа на войне
Не разорит и не спасет
В нагой Килтартанскои стране
Босой килтартанский народ.
Не долг, не родины призыв,
Не исступленной черни рев —
Минутной вольности порыв
Бросает в бой меж облаков.
Я взвесил все и рассудил,
Что мне отныне не суметь
Бесцельно жить, как прежде жил,
Какая жизнь — такая смерть.
ПАСХА 1916 ГОДА[123]. Перевод А. Сергеева.
[123].
Я видел на склоне дня
Напряженный и яркий взор
У шагающих на меня
Из банков, школ и контор.
Я кивал им и проходил,
Роняя пустые слова,
Или медлил и говорил
Те же пустые слова
И лениво думал о том,
Как вздорный мой анекдот
В клубе перед огнем
Приятеля развлечет,
Ибо мнил, что выхода нет,
И приходится корчить шута.
Но уже рождалась на свет
Угрожающая красота.
Эта женщина[124] днем была
Служанкой благой тщеты,
А ночью, забыв дела,
Спорила до хрипоты —
А как ее песни лились,
Когда, блистая красой,
По полю на травле лис
Скакала она с борзой!
А этот был педагог[125],
Отдававший стихам досуг.
И, наверно, славно бы мог
Его помощник и друг[126]
На нашем крылатом коне
Мир облетать верхом.
Четвертый казался мне[127]
Бездельником и крикуном.
Забыть ли его вину
Перед тою, кто сердцу мил?
Но все ж я его помяну:
Он тоже по мере сил
Отверг повседневный бред
И снял шутовские цвета,
Когда рождалась на свет
Угрожающая красота.
Удел одержимых одной
Целью сердец жесток:
Став камнем, в стужу и зной
Преграждать бытия поток.
Конь, человек на коне,
Рассеянный птичий клик
В пушистой голубизне
Меняются с мига на миг.
Облака тень на реке
Меняется с мига на миг;
Копыта вязнут в песке,
Конь к водопою приник;
Утки ныряют, ждут,
Чтоб селезень прилетел;
Живые живым живут —
Камень всему предел.
Отвергших себя сердец
Участь, увы, каменеть.
Будет ли жертвам конец?
Нам остается впредь
Шептать, шептать имена,
Как шепчет над сыном мать:
Он пропадал допоздна
И усталый улегся спать.
Что это, как не ночь?
Нет, это не ночь, а смерть,
И нельзя ничему помочь.
Англия может теперь
Посул положить под сукно.
Они умели мечтать —
А вдруг им было дано
И смерти не замечать?
И я наношу на лист:
Мак Донах и Мак Брайд,
Коннолли[128], и Пирс
Преобразили край,
Чтущий зеленый цвет,
И память о них чиста:
Уже родилась на свет
Угрожающая красота.
ЛЕБЕДЬ И ЛЕДА[129]. Перевод А. Ларина.
[129].
Внезапный шквал: громадные крыла
Пугают деву, грудь исходит в плаче,
На гибком теле ноша тяжела,
И гладят лоно лапы лягушачьи.
Как могут пальцы слабые изгнать
Из чресел оперенную зарницу?
Как может тело всуе проклинать
Несущуюся ввысь, как облак, птицу?
Во чреве зыблемом порождены
Троянский конь, всеобщее вдовство
И мертвый Агамемнон.
В ослепленье
От кровожадных ласк и вышины
Постичь она могла ли божество,
Пока к земле не началось паденье?
ПЛАВАНИЕ В ВИЗАНТИЮ[130]. Перевод А. Эппеля.
[130].
Тут старых нет. Здесь молодость живет
В объятиях друг друга. Птичья трель —
Песнь поколений, их в века исход,
В протоках лосось и в морях макрель —
Всё славит лето: рыба, птица, скот,
Зачатье, зарожденье, колыбель.
Всяк в любострастном гимне пренебрег
Всем, что бессмертный интеллект сберег.
Как ветошь, пережившая свой срок,
Стареющий ничтожен. Спой же он,
Душой рукоплеща, — свой каждый клок
Уступит песне смертный балахон.
Но нет уроков пенья — есть урок
Наследия блистательных времен.
А посему моря я переплыл
И в Византию вещую ступил.
Покинь, мудрец, божественный огонь,
Как на златой мозаике[131] стены,
Покинь святой огонь и струны тронь,
С душой моею сладив дрожь струны,
В стареющем животном урезонь
Боль сердца, в коем страсти вмещены.
Оно себя не знает. Посему
Мне вечность подари — но не ему.
Природой созданный — я не искал
Себя в ее подобьях воплотить, —
Пусть эллин бы искусный отковал[132],
Измыслив золото с эмалью слить,
Дабы сонливый государь не спал,
И с ветки золотой напевы длить
Для византийских барынь и господ
О том, что было, есть и что грядет.
ПУСТЫННИК РИБХ О НЕДОСТАТОЧНОСТИ ХРИСТИАНСКОЙ ЛЮБВИ. Перевод А. Сергеева.
Зачем любовь, господню благодать,
Кощунственно на части разнимать?
Я ненавистью занят не на шутку[133]:
Понятен мне порыв стихии злой —
Он выметает из души метлой
Все то, что чуждо чувству и рассудку.
О ненависть, души ревнивой свет,
Ты — людям и событьям мой ответ.
Оставив слабым ложь и опасенья,
Я прозреваю, чем душа жила,
И что она в грядущем бы нашла,
Не зная тленья и восстав от тленья.
Освободясь, я втаптываю в прах
Все, что о Боге люди мнят в веках;
В душе их мысли вызывают злобу.
Душа — невеста, ей ли не позор
Мишурных мыслей нищенский убор!
Кто ненавидит Бога — ближе к Богу.
С ударом полночи[134] душа стряхнет
Покров телесно-умственных забот.
Что взять ей, кроме божьего даянья?
Что, кроме дел господних, увидать?
Что знать, пока он не велел ей знать?
Чем жить, пока в ней нет его дыханья?
СТАТУИ[135]. Перевод Э. Шустера.
[135].
Их Пифагор считал. В чем их секрет?
Конечно, числа в мраморе живее,
Но одухотворенности в них нет;
И лишь для тех, кто, от любви немея,
Распознавал их потаенный свет,
Теплели статуи и, смутно мрея,
Влекли припасть украдкою к ланитам,
Единой мерой и числом отлитым.
Да, все-таки влюбленные мудрей:
Ведь Пифагора точные расчеты
Ваяли плоть и плоть, забыв за ней,
Что есть не только Саламина флоты
На пьедестале из живых людей,
Но и Востока смутные дремоты.
Лишь Фидий[136], женам сотворив зерцала,
Их примирил со скорбью пьедестала.
Европа спит, а в тропиках, вдали,
Негамлетоподобного титана
Века средневековья возвели,
И видели глазницы истукана,
Что все, явившееся из земли, —
Зеркальный мир зеркального обмана.
Скликая к Будде, гонг ударит звонко,
И к пустоте приникнет старушонка.
Когда был Пирсом призван Кухулин[137],
Чем был Почтамт[138] наполнен — размышленьем,
Числом, расчетом, сопряженьем длин?
Нас тоже мир не обошел гниеньем,
Но мы, придя из вековых глубин
И захлебнувшись новым просвещеньем,
Спешим назад, к чертам почти забытым,
Единой мерой и числом отлитым.
ПРИВИДЕНИЯ. Перевод А. Сергеева.
В иронии хоть чему оправдание,
И я рассказывал о привидении,
К правдоподобию не стремился
И не тревожил здравого смысла:
Мой собеседник не может вынести
Народной мудрости или хитрости.
— Пятнадцать призраков я видал,
И худший — пальто на вешалке.
Теперь полмира отдать захочется,
За половинное одиночество
За полночь с долгожданным другом,
Который не станет казнить упреком
И силы найдет не выказать чувств,
Когда я, по мненью его, заврусь.
— Пятнадцать призраков я видал,
И худший — пальто на вешалке.
Чем человек становится старше,
Тем в его сердце больше и больше
Полноты бытия и радости —
А силы приходятся кстати в старости,
Ибо кругом сгущаются тени,
И в них мерещатся привидения.
— Пятнадцать призраков я видал,
И худший — пальто на вешалке.
ДЖЕЙМС ДЖОЙС.
Джеймс Джойс (1882–1941). — Родился в Дублине, учился в Дублинском университете, преподавал языки в Триесте и Цюрихе. Долго жил в Париже; в 1940 г., после оккупации Франции гитлеровцами, уехал в Швейцарию. Первой книгой Д. Джойса был стихотворный сборник «Камерная музыка» (1907). Изысканные и мелодичные, напоминающие лирику елизаветинцев, стихи этой книги были положены на музыку. Вторая поэтическая книга Д. Джойса — «Яблоки — по пенни штука» (1927) — отличается большей конкретностью образов, более свободным ритмом и более резким тоном стиха. Здесь Джойс близок имажистам и отчасти утонченному символизму Йейтса. Первые переводы стихов Д. Джойса на русский язык (Ю. Анисимова) относятся к середине 30-х годов.
Всемирную известность Д. Джойс получил как прозаик, автор «Дублинцев» (1914), «Портрета художника в юности» (1916), «Улисса» (1914–1921), «Поминок по Финнегану» (1922–1939); наряду с Марселем Прустом и Францем Кафкой, Д. Джойс считается «отцом» модернистского романа. Ненависть к буржуазному обществу, отчуждение от общества вообще, неверие в поступательное движение истории, новаторство в области художественной формы— таковы основные черты джойсовской прозы.
ТИЛЛИ[139]. Перевод Ю. Анисимова.
[139].
Он идет следом за зимним солнцем,
Погоняя скотину по холодной бурой дороге,
Покрикивая на понятном им языке,
Он гонит стадо над Каброй.
Его голос говорит про домашнее тепло,
Они мычат и выбивают копытами дикую музыку,
Он погоняет их цветущею ветвью,
Пар оперяет их лбы.
Пастух — средоточие стада,
Растянись во всю длину у огня.
Я истекаю кровью у черного ручья
За мою сломанную ветвь.
БАЛЛАДА О ХУХО О’ВЬОРТТККЕ[140]. (Злословие Хости по поводу грехопадения Хамфри Ирвикера). Перевод А. Сергеева.
[140].
Ты слыхал про Шалтай-Болтая,
Как сидел он ногами болтая,
Сидел на стене и попал к сатане —
Коленом под зад, отправляйся в ад,
(Припев) Получай, негодяй,
Нагоняй!
Он когда-то у нас-коро-королевствовал,
А теперь — пинай его, как трухлявую репу, без жалости!
Пусть его по приказу Их Милости Заса-садят в тюрьму Маунтджой!
(Припев) В тюрьму Маунтджой
Вожжой!
Он был па-па-па-паша всех пакостных умыслов
С контроверзными контрацептивами (в пользу бедных),
Он сулил рыбий мех и летошний снег,
Он болтал о любви в шалаше и реформе!
(Припев) Церковной реформе
В оранжевой форме!
Аррах, отчего же он сверзился?
Я клянусь тебе, возчик-молочник мой,
Ты — как бешеный бык из Кессидис,
Вся бодливость сидит в рогах!
(Припев) Бодливость в рогах,
В его врагах!
(Дважды) Да здравствуй, Хости, не хвастай, Хости, рубаху пора сменить,
Подхлестывай песню, Всем-Песням-Песню!
Балбаччо, балбуччо!
Мы жевали шинкованный шницель, жасминную жвачку, желтуху,
Железо и желтый шкаф —
Так кормил мягкостелющий бизнесмен.
И не диво, что Всехобману! — наши парни прозвали его,
Когда он сыпал бисер в конторе —
(Припев) В которой
Играют воры.
Мы покончим с непременными апартаментами,
Мы сожжем на костре его дрянь, дребедень и дрязги,
И Кленси-шериф прикрывает контору халтуры,
Прокурор барабанит в дверь.
(Припев) Барабанит в дверь —
Пограбь нас теперь!
Злое счастье прибило к нашему острову
Пососудину вороватого викинга.
Будь проклят тот час, в который у нас
Появился его черно-бурый бот,
(Припев) Черно-бурый бот
У самых ворот.
— Откуда? — спросил Пулбег. — На полпенни хлебелого,
Donnez-moi[141] добычу, деньгу, гибель-голоду,
Фингал Мак-Оскар Онизип Баржарс Бонифас —
Вот мой старый норвежливый прозвище,
И я сам при норважный треска!
(Припев) Норвежский верблюд
Из тресковых блюд!
Дальше, Хости, дальше же, черт тебя! Поносную Песню-Всем —
Песням пой!
И, как говорят, оросив кустарники,
Или — как пишет «Роддом Трибьюн» — побывав в обезьяннике,
Наш хваленый хапуга Хамфари
У горничной взял ее.
(Припев) Он взял её
Девственное!
И не стыдно, безмозглый философер,
Бросаться на даму, как дикий зверь?
Даже в нашем зверинце допотопноем
Другого такого найти нелегко:
(Припев) Ирвикер и Ко
Стар, как Ноев ко…
Он подпрыгивал у памятника Веллингтотону,
Наш скакуннейший гиппопотамумунс,
А потом сел в организменный омнибунс
И расстрелян был по суду:
(Припев) Дыра на заду,
Шесть лет в аду!
Ах, как жаль его бебе-дных сиротушек
И фра-фрау его достозаконную,
Все вокруг нее полнится слухами —
Слуховертки свисают с дерев,
(Припев) Хуховертки с дерев
Вопят, озверев:
Аноним! Моисей! Псевдодант! Шайкеспауэр!
Мы устроим концерт контрабандных ирландцев и массовый митинг,
Отпоем пан-ехидно борца скандикнашего,
Похороним его скандебобером
Вместе с глухонемыми датчанами,
(Припев) С чертями, с датчанками
И их останками.
И вся королевская конница
Шарлатая-Болтая сторонится —
Пока не ослепли ни в Эйре, ни в пекле,
Чтоб Каина воскрешать!
ЧТОБ КАИНА ВОСКРЕШАТЬ!
ОСТИН КЛАРК. Перевод Л. Володарской.
Остин Кларк (1896–1974). — Родился в Дублине. Первая его книга стихов, «Месть Фионна», вышла в свет в 1917 г. и была воспринята с большим энтузиазмом. Тематика его творчества охватывает все сферы ирландской жизни. Ярко выраженная социальная, сатирическая направленность произведений О. Кларка ставит его в первый ряд ирландских поэтов XX в. По своей форме многие его стихи восходят к национальной народной поэзии.
Остин Кларк опубликовал три романа, мемуары, критические работы и около двадцати стихотворных пьес. Он был одним из организаторов «Компании лирического театра». В 1932 г. О. Кларк был избран членом Ирландской Академии литературы и в 1952–1953 гг. был ее президентом. Собрание стихов О. Кларка на английском языке вышло в свет после его смерти, в 1974 г.
На русском языке стихи О. Кларка печатались в периодических изданиях.
ДОЧЬ ПОСЕЛЕНЦА.
Когда ночь зарождалась на море
И огонь звал согреться в дому,
Говорят, что ее красота
Опаляла, как музыка, глотку,
Но немногие в свете свечей
Горделивой усмешки боялись,
Ибо дом поселенца
Узнают по деревьям[142].
И когда появлялась она,
Напивались молча мужчины,
И когда появлялась она,
Говорили без умолку женщины —
Колокольным ли звоном,
Таинственным шепотом.
О, была среди будней она —
Воскресеньем.
НОЧЬ И УТРО.
Я знаю боль высоких снов,
Казнь у позорного столба,
Гнев кесаря и стон рабов,
Все беды, что внесла судьба
В историю — всю скорбь веков.
Священной веры лишена,
Любая мысль — глуха, слепа,
Душа отчаянья полна,
И в никуда ведет тропа.
Сверкает грозною свечой
Собор на утренней заре.
Стихии господа рукой
Начертаны на алтаре.
Священник к нам стоит спиной,
Весь в золоте и серебре,
И каждый мученик святой
Оставил след в календаре.
Но и доныне на костре
Пылает мысль, судьбу кляня,
Своей молитвою простой
Все размышления гоня,
Считает споры суетой
Монах, колени преклоня.
Писаний, проповедей цель —
Так, аргументами круша,
Развить обычные умы,
Чтоб стала вольною душа
Забытая, как те, чья кровь
Воскресла в языке родном.
О, были дни! — Какой простор!
Мужей ученых гневный спор
Умел Европу потрясти.
Земли и неба разговор
Дерзала логика вести.
В святой борьбе еще раз бог
Стал человеком во плоти.
СМЕРТНАЯ ГОРДОСТЬ.
Когда едина мысль из мыслей всех
Страдальца разум затмевает, знает
Создатель лишь отчаяние тех,
Кто душу суетно теряет.
Еще не скрылась истина во мраке,
Но в смертной гордости искал тогда,
Безумный, я лишь радостей земных
И ангела не ведал я стыда.
О боже, так ли юная жена
В блаженстве мужа счастье обретает
И в сладостных руках любви она
Законы страсти постигает,
Им подчиняясь? Душу ей сомненье
В его священной клятве не томит.
Но мысль быстрее времени теченья:
Нежданная, она уже уходит.
ПАТРИК КАВАНАХ.
Патрик Каванах (1905–1967). — Поэт и прозаик. В возрасте тридцати лет приехал в Дублин, работал в различных газетах. Как и Остин Кларк, является одним из ведущих поэтов социальной темы в Ирландии первой половины XX в. В 1936 г. была издана его первая книга — «Пахарь и другие стихотворения». Собрание стихов П. Каванаха вышло в свет в 1964 г.
ИНТИМНЫЙ ПАРНАС. Перевод А. Ибрагимова.
Дела людей — их собственное дело.
Пускай хвалы возносят к небесам
Иль шлют проклятья, боги безучастны, —
Ни радости, ни гнева. Равнодушно
Взирают обитатели Парнаса
На суету внизу и без улыбки
Встречают сопричисленных к их сонму.
Что происходит в мелких городишках —
Любви и ненависти сцены —
Не их забота. Ты, поэт, бедняк;
Живешь с петлей, затянутой на шее;
И всей своею сутью ты — земной.
В чужих сердцах смятенье поселяя,
Ты на себя гоненья навлекаешь;
Твое же сердце служит препаратом
Для точного анализа, все чувства
Исследуешь ты, словно посторонний.
В горах тепло, и смертных женщин осыпь
Подобна грудам наливных плодов.
Мужчины же взбираются по сучьям
Торгового и банковского дела,
Знакомятся, завзятые театралы,
С актерами, себя стараясь выдать
За знатоков искусства.
Поэт, ты состраданья не лишен,
Пересчитай же их, красивых, сытых, —
И сразу позабудь.
Ведь цель твоя — быть в стороне от всех,
Но ничего
Не упускать из виду.
ЛЮБОВЬ. Перевод Э. Шустера.
Осенним днем на Раглан-роуд мне встретилась она,
Взглянула раз, и в омут глаз внесла меня волна;
Я знал, что прокляну тот день, но был сильнее рок:
Прогнав печаль в сырую даль, я шел, не чуя ног.
Настал ноябрь. На Графтон-стрит разверзнулся провал,
Но не венец для двух сердец моим глазам предстал —
Пустая связь, сплошная грязь — безрадостный итог!
И тут же, вслух, восславить дух я дал себе зарок.
Я разум свой принес ей в дар, открыл ей тайный знак,
Каким поэт привносит свет и в камень и во мрак;
Окрасил мир, и свой кумир лелеял, как цветок,
В стихах воспел, но одолел, увы, не я — порок.
Промозглый день. Былого тень мелькнула в тьме глухой,
И мысль, проста, как красота, пронзила разум мой:
Не зря господь живую плоть не пустит на порог,
Моей судьбы и ангел бы не избежал — не смог.
СЕЯТЕЛЮ. Перевод Э. Шустера.
Теперь пора приладить стремя,
Зане в апрельский черный день[143]
Тобою высеяно семя,
Как в вечный мрак — звезды кремень.
Ведь неохватность кругозора
В себе всеведенье таит;
Под своды божьего призора
Направься, словно ты — левит[144].
Забудь о пенье служек Брэди[145],
Об их ничтожной болтовне;
Затем, чтобы прийти к победе,
Передоверься бороне.
Земное кинь в земном же лоне:
Сейчас во мгле душа твоя,
Но там твои ступают кони,
Где зреет Книга Бытия.
МОНАХАН. Перевод Э. Шустера.
На землях твоих, Монахан,
Зачахла любовь моя;
Смешливых ангелов счастья
Не терпят эти края!
В надежде найти Аполлона
И слов искрометных фиал
Бродил я в твоих равнинах,
А рядом плуг скрежетал.
И ты мне вещал, что плугом
Вычерчен жизни круг;
В полях моего надбровья
Твой затупился плуг.
Сказитель навозной кучи,
Воспел ты плебейский род;
Костюм мой пропах тобою,
А хлеб твой не лез мне в рот.
Что юность моя лицезрела?
Корыто! Корыто свиньи!
Монахан, любовь и нежность
Украли свиньи твои.
Знаю: любить — это счастье,
Но мне достанет ли сил
Снять с тебя злые чары
И вытравить желчь из чернил?!
Всегда ты со мной, Монахан;
Прислушайся, коль не лень,
С каким твержу упоеньем
Названья твоих деревень —
Драммерил, Муллахинса, Санко.
О, дай мне, Монахан, вновь
Ушедшую нежность и с нею
Во мне воскреси любовь!
ИСЛАНДИЯ. Перевод В. Тихомирова.
ЭЙНАР БЕНЕДИХТССОН.
Эйнар Бенедихтссон (1864–1940). — Эйнар Бенедихтссон — человеческое и поэтическое воплощение того порыва к новой жизни, который охватил Исландию на рубеже двух веков и выразился прежде всего в начавшейся борьбе за национальную независимость. Своим творчеством в этот период поэт стремился помочь народу обрести веру в себя, пробудить и развить национальное самосознание. Важнейшие сборники стихов Бенедихтссона — «Рассказы и стихи» (1897), «Моря» (1921), «Рощи» (1930). На русский язык стихи переводятся впервые.
ПОЭТЫ ИСЛАНДИИ.
Пели они, услаждая слух
Фулы[146] звоном созвучий.
Покуда песен могучий дух
Стремился в подзвездный купол небес,
Искусство — феникс певучий —
Текло, как воды, росло, как лес,
Орлом взлетало наперерез
Тучам над горной кручей.
Всходили к солнцу на горную высь,
Но пели о людях долинных.
В их строфах бегучих навек слились
Звук жизни живой и беззвучный крик
Событий из хроник старинных.
И мудрость свою, и звонкий язык
Искали, как ищут в скалах родник,
В веках неразрывно единых.
Искусство граничило с царством души,
Сливалось с немотностыо божьей,
И песни сердец — лишь они хороши! —
Горели огнем уходящего дня
И тлели, сгорев, в придорожье.
Так, времени душу в созвучьях храня,
Учили они, что мертвит суетня,
Что жить нужно чище и строже.
Их рифмы — богатство, ритмы — венец,
В котором горят каменья.
Их слово нас вводит в царский дворец,
Где властвует мысль, отделяя слова
От мертвой породы сомненья.
Поэзия, Одина дар[147], в них жива,
Строка их как мед и полна волшебства —
Пьешь вечно, и нет пресыщенья.
Зимою, в метели, ночь напролет
Их правнуки, сидя у горна,
Кто сети латает, кто парус шьет —
Работают дружно под голос чтеца,
И движутся руки проворно.
И дети готовы сидеть без конца,
И чары стихов проникают в сердца,
И зреют поэзии зерна.
Вовеки да здравствуют те мастера,
Кто кротко и вместе сурово
Народ свой учил искусству пера!
О молодость, слушай родных лебедей,
Поэтов края родного!
Нет и не будет среди людей
Звания выше, достойней, знатней,
Чем звание мастера слова.
СТЕФАУН ФРА ХВИТАДАЛЬ.
Стефаун фра Хвитадаль (1887–1933). — Поэт, всю свою жизнь занимавшийся крестьянским трудом. Простота, ясность, богатство и непосредственность чувств, присущие Стефауну фра Хвитадалю, делают его стихи необычными и новыми для поэзии Исландии XX в.
Издал сборники стихов: «Песни странника» (1918), «Песни одинокого пахаря» (1921), «Святая церковь» (1924) и «Гуси» (1927).
ОНА МЕНЯ ПОЦЕЛОВАЛА.
Вновь я слышу любви
Песнопламенный лад,
Вновь я вспомнил твои
Чары, чудо-закат,
И осенних лесов
Краснобархатный зал,
Где с улыбкою день,
Как святой, угасал.
Был я слаб и убог,
Я в отчаянье жил,
Был я сир, одинок,
Я о смерти молил:
«Где ж ты, чудище, где,
Смерть, бесчестный игрок?»
Но предстал предо мной
Светлой радости бог!
Прочь вы, призраки зла!
Прочь, ночная напасть!
Смерть во тьму отползла,
Смехом выщерив пасть.
Я люблю и любим!
Мне и смерть нипочем!
Улыбается май
Под сентябрьским лучом.
Улыбаешься ты.
Я — смеюсь и пою.
Снизошла с высоты
Песня в душу мою.
Был я в лес принесен,
Как на крыльях огня.
Ты, царица, пришла,
Ты целуешь меня.
Я зарей осиян
И одет, как в парчу.
Я от радости пьян,
И вот-вот я взлечу.
Я — и солнце весны.
Я — и счастья волна.
Я — и клятвы любви.
Я — и рядом она.
Поцелуи твои —
Драгоценнейший дар,
И в словах о любви —
Песнопламенный жар.
С той поры я живу,
И пылаю в огне
С той поры, как пришла
Ты, царица, ко мне.
Счастье в сердце моем,
Я мечтою богат.
Полыхает огнем
Чародейный закат.
Вся земля предо мной.
Как дитя, я пою.
Ты соткала, любовь,
Жизнь и радость мою.
ДАВИД СТЕФАУНССОН.
Давид Стефаунссон (1895–1964). — Поэт и прозаик. Внес в исландскую поэзию новый тип личности — образ лирического героя с изменчивыми настроениями, душевным разладом, культом свободной любви. Чувства поэта выражаются смело и естественно, его язык раскован и будничен. У Давида Стефаунссона часто встречаются стихи о простых людях Исландии, нередки в его творчестве фольклорные мотивы.
ДАЙТЕ ТРУЖЕНИКУ ОТДОХНУТЬ.
Эй, гуляки, пойте да пляшите,
Но рабочего лачугу как-нибудь
Стороною, что ли, обойдите,
Дайте труженику отдохнуть.
Он, добытчик вашего богатства,
Сам по гроб на бедность обречен,
И над ним смеяться — святотатство,
Святотатство — нарушать недолгий сон.
Только ночью счастлив бедолага,
Лишь во сне. И кто же смеет тут
Отнимать единственное благо
У того, чья доля — тяжкий труд.
Вы попробуйте-ка сами попляшите
У нужды в неволе! Как-нибудь,
Уж пожалуйста, сторонкой обойдите,
Дайте труженику отдохнуть.
ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ РАЗЖИГАЕТ МОЙ ОЧАГ.
Я вижу свет на кухне
Сквозь сон и полумрак,
И слышу чей-то шаг,
И знаю — это служанка
Пришла топить очаг,
Чтобы тепло сберечь,
Чтобы гудела печь,
Золу выгребает прочь,
Огонь разжигает и молча
Опять уходит в ночь.
Я вижу, как печально
Молчит она всегда
О том, что прошли года,
Что руки по локоть в саже
И голова седа.
Она же без лишних слов,
Наш согревая кров,
Нас, как родных сынов,
Любит — и пишет на пепле
Слова прекрасных строф.
Я знаю, нет у старой
Ни денег, ни друзей,
И достается ей
Вместе с хлебом насущным
Ругань чужих детей.
Но часто бывает так:
Всеми презрен бедняк,
А сам он и добр и благ —
Ибо огонь озаряет
Лишь тех, кто разжег очаг!
ЙОУХАННЕС УР КЕТЛУМ.
Йоуханнес ур Кетлум (род. в 1899 г.). — Поэт, журналист. Йоуханнес ур Кетлум — коммунист и антифашист, один из основателей ежегодника «Красные перья», вокруг которого группировались передовые исландские писатели (создан в 1935 г.). С Йоуханнесом ур Кетлумом в поэзию Исландии пришла новая тематика, новый взгляд на жизнь и новое понимание назначения искусства, которое существует для народа и черпает в ней свои силы.
Поэт издал сборники стихов: «Баюшки-баю» (1926), «Поют лебеди» (1929), «Я притворяюсь спящим» (1932), «И все же я проснусь» (1935) и др., а также два романа.
ТОСКА ПО ДОМУ.
Одинок! Одинок!
Сердце едва живет,
Жизни иссяк родник,
Кровь, загустев, жжет.
Где же ты, где, весна?
Или настал мой срок —
Здесь мне смерть суждена,
Здесь умру, одинок.
Он далек! Он далек!
Там, за синью морей,
Милый дол, отчий дом,
Дом в отчизне моей.
В ясное небо дня
Мне бы взглянуть разок!
Отнеси-ка меня
За моря, ветерок.
Песнь моя! Песнь моя
Там, где ива растет,
Где смеется весна
И где вереск цветет,
Там, где прадед мой жил,
Где жила моя мать, —
Средь цветущих могил
Я хочу задремать.
ТОМАС ГУДМУНДССОН.
Томас Гудмундссон (род. в 1901 г.). — Принес в исландскую поэзию умение тонко и лично чувствовать и выражать красоту. Вместе с тем он автор многих патриотических и антифашистских стихотворений.
Сборники стихов Томаса Гудмундссона: «У синего залива» (1925), «Прекрасный мир» (1933), «Весенние звезды» (1940). На русский язык стихи переводятся впервые.
ЯПОНСКАЯ ПЕСНЬ.
Японская цветет заря, узоря
Залива синь близ отмели лагунной.
И, челн столкнув с песков, ныряльщик юный,
За жемчугом ныряет в бездну моря.
А в сумерки — вечерняя прохлада,
И весь залив, облитый лунным блеском,
Любовной песне вторит легким плеском
Над купами кораллового сада.
На берегу среди кустов цветущих
Влюбленные плетут венки из лилий,
И рыбки златоперые приплыли
Искать своих подруг в подводных кущах.
Любовь и счастье длятся до заутра
Среди кораллов в блеске перламутра.
ОСЕННЯЯ НОЧЬ.
Луна посеребрила залив сапфиро-синий.
Полночный близок час.
На море струи — струны, и бег волнистых липий|
И в бездне над пустыней
Горит звезды алмазно-ясный глаз.
Но розу белой пены всколышут ветра вздохи,
И загремит прибой.
Взметнется грива моря в ночном переполохе,
И расцветят сполохи
Небесный свод жемчужно-голубой.
И долго, долго будет спокойно, одиноко
Сквозь туч бегущих тень,
Из темной бездны глядя, недремлющее око
Следить, как там, далеко,
В пучине ночи зреет новый день.
ГУДМУНДУР БЭДВАРССОН.
Гудмундур Бэдварссон (род. в 1904 г.). — Не получил никакого образования, никогда не выезжал за пределы родного края и всю жизнь крестьянствовал. Большинство стихов его — гимны природе; в то же время поэт не ограничивается в своем творчестве крестьянской тематикой, его интересуют события, происходящие в мире, и современность, пропущенная через восприятие крестьянина, составляет содержание многих его стихов.
Поэт издал сборники стихов: «Солнце поцеловало меня» (1936), «Белые корабли» (1939), «Вечерние эльфы» (1941), «Под полуночным небом» (1944) и др.
СОЛНЫШКО МЕНЯ ПОЦЕЛОВАЛО.
Ты, солнышко, меня целуя,
Спросила: «Я ли не светла?
Забудь же, мой милый, зимние стыни,
Забудь, и не помни зла —
Ведь мне восемнадцать ныне!»
Но песня осенней арфы
Гремела в моих ушах.
И я ответил: «Забуду ли гневный
Зов смерти и темный страх
Всеночный и ежедневный?»
Ведь ждет листопада в страхе
Даже листва берез,
И в городе зимнем, веснянка, без солнца
Сколько прольешь ты слез,
В замерзшее глядя оконце!
Она ж надо мной смеялась
И гладила по волосам:
«Коль можешь, мой милый, в глаза погляди мне
Увидишь и скажешь сам:
— О, сколько в них стужи зимней!»
С тех пор в моем сердце звучала
Песня всегда одна:
Весенние волны и вешние сини,
И всюду со мною, со мною она —
Но ей восемнадцать и ныне!
СНОРРИ ХЬЯРТАРСОН.
Снорри Хьяртарсон (род. в 1906 г.). — Поэт; главный библиотекарь Государственной библиотеки в Рейкьявике. Снорри Хьяртарсон внес много нового в искусство стихосложения Исландии, хотя не порвал до конца о традициями. Стихотворение «Волчья долина» — одна из жемчужин исландской поэзии по языку, построению и содержанию — написано в 1944 г., когда была провозглашена независимая Исландская республика; в поэтической форме передает ликование и подъем сил поэта и всего народа.
Снорри Хьяртарсон написал также роман «Ворон летает высоко»(1934, па норвежском языке).
ВОЛЧЬЯ ДОЛИНА.
В кущах дремучих,
В дебрях весны,
Над музой моей
Уснувшей —
На солнцевосходе
Кружился рой
Снов животворно певучих.
На ветках медяных
Заря из росы
Дурманных цветов
Наткала,
В глаза мне по капле
Стекали сны
Из чашечек их
Медвяных.
И птичьи хоры,
И клич лебедей
Гимном взлетали
К солнцу,
И в радостном блеске
Открылись мне
Вешней земли
Просторы.
Распахнуты дали —
Восстань! Иди!
Но там я едва ли
Встречу
Тех, кого ждал
И кого любил,
И тех, что меня
Не ждали.
Мое песнопенье
В вешнем лесу
Звучало для всех,
Кто слушал:
Парил я в горенье
Лебяжих крыл
И спал в океанской
Пене.
Но стан лебединый
На полночь свернул —
И снова в лесу
Помрачневшем
Мерцают глаза,
И волки поют,
И узел клубится
Змеиный.
Ползут по полянам
Тени и тьма,
Вздымается мгла
Над цветами.
И торные тропы
В росистой траве
Ночным зарастают
Туманом.
И снова мне тесен
Крылатый наряд,
И сердце в тенетах
Бьется,
Но скоро, скоро
Взлетит оно
На пламенных крыльях
Песен.
И муза проснется
В кущах весны,
И вспыхнет душа
Стихами,
Когда из тумана
Солнце взойдет
И стан лебединый
Взовьется.
ИСПАНИЯ.
МИГЕЛЬ ДЕ УНАМУНО.
Мигель де Унамуно (1864–1936). — Философ, романист, новеллист, драматург, поэт, филолог, общественный деятель. Автор десяти поэтических сборников. Первый из них («Стихи», 1907) увидел свет, когда Унамуно уже достиг европейской известности как прозаик и философ. Позднее были опубликованы «Четки сонетов» (1911), «Рифмы души» (1923), «Романсеро изгнания» (1928), «Кансьонеро» (1953, посмертное издание) и др. Основную часть стихотворного наследия Унамуно составляет философская и патриотическая лирика. В 1924 г. за ряд статей и памфлетов, направленных против Альфонса XIII и военной диктатуры Примо де Риверы, Унамуно был сослан на Канарские острова и провел семь лет в изгнании. Умер в Саламанке, захваченной франкистскими мятежниками.
МОЛИТВА АТЕИСТА. Перевод А. Косо.
Господь несуществующий! Услышь
В своем небытии мои моленья,
Ведь ты всегда подаришь утешенья
И кроткой ложью рану исцелишь.
Когда нисходит в мир ночная тишь
И мысль вступает с вымыслом в боренье,
Надеждою изгонишь ты сомненье,
Свое величье сказкой подтвердишь.
Ты так велик, что миру, не вместить
Величья, твоего — ты лишь идея,
А я за это мукою моею,
Моим страданьем обречен платить.
Бог выдуман. Будь ты реален, боже,
Тогда б и сам я был реален тоже.
* * *
«Доктор Примо де Ривера!..». Перевод С. Гончаренко.
Доктор Примо де Ривера!
Генералам генерал!
Потерял давно ты совесть,
Нынче — маску потерял!
Из монаршего сортира
Вышла партия твоя.
Как тебе без роялистов,
Королю — без холуя?
В блоке с сельскими червями
Из навозных жирных куч,
С тараканами столицы —
Как могуч ты и вонюч!
Перед столь почтенным сбродом
Только сморщишь ты чело —
Как в восторге подвывалы
Рукоплещут… И пошло!
«Что за ум!», «Какие речи!»,
«Ай да вкус», «Вот это да!»,
«Рыцарь мысли!», «Бесподобно!»,
«Гениально, господа!».
«Мать-Испания!» — кричишь ты..
Как же это понимать?
Ведь известно, что бутылка —
Для тебя родная мать.
Подавай тебе «Власть власти»,
Королевский попугай…
Знаешь, чем ты бесподобен?
Ну-ка, Примо, отгадай!
Тем, что ты свой генеральский
Абсолют-идиотизм
Нагло рядишь под пикантный
Конституционализм.
Ах ты, доктор-самоучка
Розго-палочных наук!
Свист бича да посвист плетки —
Для тебя сладчайший звук.
«Без доктрины дисциплины?
Как же можно, господа!»
Эх, водить тебе б овечьи
Вдрызг лояльные стада!
А с людьми — куда сложнее!
Не помогут хлыст и кнут.
Вон свои — и те наглеют
И, того гляди, лягнут.
«ЧЕМ ТЫ ЖИВА, ДУША?». Перевод А. Косс.
Чем ты жива, душа? Что обретешь в труде?
Дождь по воде.
Чем ты жива, душа? Что тебя в путь влечет?
Ветер с высот.
Что тебе силу даст, чтоб возродилась ты?
Тьма пустоты.
Дождь по воде.
Ветер с высот.
Тьма пустоты.
Дождь — это слезы, что небо льет,
И стонет ветер, что мир — тюрьма,
Тьма — безнадежности вечный гнет,
Жизнь — это дождь, и ветер, и тьма.
РАМОН ДЕЛЬ ВАЛЬЕ-ИНКЛАН.
Рамон дель Валье-Инклан (1866–1936). — Выдающийся прозаик, поэт, драматург, общественный деятель. Видный представитель литературного «поколения 98 года», отразившего духовный кризис испанского общества на рубеже двух веков. Первая книга прозы, «Женские лики», опубликована в 1895 г., а первый сборник стихов, проникнутый мотивами галисийского фольклора («Ароматы легенды»), — в 1907 г. Славу виртуозного мастера стиля составили ему «Сонаты» («Воспоминания маркиза де Брадомина», 1901–1905), которые по праву называют поэмами в прозе. В области драматургии Валье-Инклан выступил как создатель жанра эсперпенто (небольшая гротескная пьеса). Его перу принадлежат также поэтические сборники «Трубка гашиша» (1919) и «Странник» (1920). Все три книги стихов, включая «Ароматы легенды», были собраны в томе «Лирические ключи» (1930).
В 30-е годы Валье-Инклан стал одним из лидеров антифашистской интеллигенции. В 1932 г. представлял Испанию в инициативном комитете Международного антивоенного конгресса, в 1935 г. был избран в президиум Первого конгресса писателей в защиту культуры.
ГЕОРГИКИ[148]. Перевод В. Дубина.
[148].
Колокола в лазури, блеснув росой студеной,
Ударили с зарею над деревушкой сонной,
И двинулись крестьяне за утренней звездою,
И семена ложатся озимой бороздою.
Луна уже заходит, бледна как привиденье,
И жаворонок прянул из придорожной тени.
Ворчит потешный жернов, стучит уток веселый,
Ведя псалом во славу холстины и помола,
И, серебром сверкая на обомшелом шлюзе,
Ручей молитвы шепчет в пожухлой кукурузе,
И шаткие колеса, скрипя под водостоком,
Горюют, как старушки, о времени далеком.
Снует челнок проворный, снует не уставая,
Чтоб полнилась холстами укладка вековая;
Ворота мукомольни под виноградом спелым
По божьему завету кровь обручают с телом,
И ныне и вовеки благословляет небо,
Как таинство святое, союз Лозы и Хлеба.
С покосов дальних тянет прохладой и тимьяном;
Чернеет зябь, готова к посевам долгожданным,
И бродят по лощине среди былья сырого
Чумазые подпаски и рыжие коровы,
А по-над деревушкой, лазурью осененной,
Несутся отголоски заутреннего звона.
Белая голубка
Все вилась над розой
И монаху в клюве
Приносила просо.
КОНЕЦ КАРНАВАЛА. Перевод Ю. Петрова.
День зимний. Поста начало.
Веселой гульбе конец.
Отходную карнавалу
Дождь бормочет, как чтец.
Не совпадая в ритмах,
Рыдают, вопят сообща
Фигуры в бумажных митрах
И в простынях, как в плащах.
Латинян столпотворенье —
Рыданий, теней, колпаков;
Рельсов трамвайных струенье
По лужам, в огнях кабаков.
Ура Коломбине! Лохмотья
Благоухают на ней —
Духами и потной плотью
Разит за версту. Эгей!
Белилами мазана маска
Суетящегося Пьеро.
А рядом — оскал: Тараска,
Раскрашенная пестро.
Торгаш плутоватый шали
Раскинул у фонаря,
Чтобы девиц искушали,
Радугами горя.
Как плавно плывет красотка!
Как шелк ее шали тяжел!
Из лепета сплетниц соткан
Над локонами ореол!
Пьянчуга носатый храбро
Размахивает метлой. —
Носище картонный! Швабра!
Чумазый! Горшок с золой!..
Ханыга из сточной канавы
Вопит, непотребен, как черт;
Грязная нищенка травы
В ступке своей толчет.
Как смерчами, свалены в груды
Бидоны, кастрюли, котлы,
И свет на горы посуды
Косо глядит из мглы.
Глянь-ка — Маркизом помятым
Назначено под фонарем
Свиданье с бравым Солдатом —
Саженным богатырем!
Обнюхиваясь во мраке,
Рыча и дыша тяжело,
Жалуются собаки
На человечье зло.
Следом за вечером — сонно,
Как бы издалека,
Приходит аккордеона
Плачущего тоска.
Цветных фонариков стая
Под ветром сбилась с пути
И мечется, осыпая
В лужи цветы конфетти.
Муки лицо открыто.
Вечер бессмыслен, зол.
Тянет свои копыта
К митре Приора Козел.
Сутемь. Скулит под сурдинку
Ветер — хмурый певец.
Похороны Сардинки.
Карнавала конец.
ОБЛЕТЕВШАЯ РОЗА. Перевод М. Самаева.
Купол неба строгий,
Тихая листва,
Месяц златорогий,
Колокол, сова…
Краткой и торопкой
Жизни — «почему?..» —
Кануть вместе с тропкой
Следу моему.
Сгинули в тумане
И года и сны.
Разочарований
Доводы верны.
И под звуки глорий
Дни глотает мгла.
Все, что помню, вскоре
Запушит зола.
От былого пыла
Ничего не стало,
Даже пепел стылый
Ветром разметало.
Бриз в листве маиса,
Лягушачьи кваки,
Тихи кипарисы
И огни во мраке.
Путь во тьму размотан,
Мертвый свет ночной
На распятьях — вот он,
День последний мой.
Купол неба строгий,
Тихая листва,
Месяц златорогий,
Колокол, сова…
МАНУЭЛЬ МАЧАДО.
Мануэль Мачадо (1874–1947). — Поэт, драматург, литературный критик. Брат великого испанского поэта Антонио Мачадо (1875–1939), совместно с которым написал ряд пьес в стихах. Один из наиболее близких к модернизму представителей «поколения 98 года», Мануэль Мачадо-и-Руис, по выражению испанского критика Сайпса де Роблеса, был «певцом мимолетного и эфемерного». Блестящий, но несколько холодный версификатор, он виртуозно имитировал песенную поэзию испанского фольклора, а о знаменитом его стихотворении «Кастилия» Унамуно заметил, что оно одно может обессмертить имя поэта. Основные книги: «Душа» (1905), «Трофеи» (1913), «Севилья и другие стихи» (1918) и др.
РОСАРИО. Перевод М. Самаева.
«Мужчина есть мужчина. А в жизни все бывает…»
В смиренье этой мысли под вечер вышивает
Росарио, печально склоняясь к рукоделью
Красивой головою, где две гвоздики рдели.
Подумает о доме… Как стеклышко блестит он,
Ее очарованьем, ее теплом пропитан.
Она не знает мира, что за окном маячит…
Хуан пришел — смеется, а запоздал — поплачет.
Он любит, хоть об этом молчит. Чтоб жить под тенью
Любви, он возвратится к ней раньше или позже.
И ждет она, и сердцем гнездо обогревает,
Где нежность распустилась, как тихое растенье.
И эту ночь, наверно, ей быть одной. Ну что же…
«Мужчина есть мужчина. А в жизни все бывает…»
СЕВИЛЬЯНА. Перевод М. Самаева.
У сегирийи цыганской
Чувственный голос ночи
Мусульманской.
Это — взгляда проклятая власть,
Гиблая пропасть, где пенится
Жизни и смерти пучина.
Это — сердцем поющая пленница
Черной судьбы и кручины,
В вопль исходящая страсть.
И в то же время это —
Дождь андалузского света,
Крылья, полет и весна…
В шалой, задорно-веселой,
В ней смеется и шутит Севилья,
В ней сегидилья
Взметает подолы,
Солнца и соли полна.
СОЛЕАРЕС[149]. Перевод В. Столбова.
[149].
Твои волосы в плен меня взяли,
Твои очи меня осудили,
А уста приговор отменили.
* * *
Ни румяна ты, ни бледна,
Ни красива ты, ни дурна,
Полюбилась ты мне потому, что ты мне полюбилась.
КАСТИЛИЯ[150]. Перевод М. Самаева.
[150].
Слепое солнце раскаленным светом
О шлемы и наспинники дробится,
И вспыхивают копий острия,
Как огненные птицы.
Слепое солнце, жажда и усталость…
Сквозь ад степей кастильских раскаленных —
Железо, пыль и пот, — верхами едут
Изгнанник Сид и с ним двенадцать конных.
Двор постоялый, сложенный из камня,
Грязища. Есть ли здесь живые души?
Дверь поддалась напору рукоятей.
Свет. Воздух обжигающий. Удушье.
За грохотом ударов
Звук голоса услышали не сразу —
Хрустальный, робкий. Девочка выходит,
Она худа и синеглаза,
И вся — глаза, а в них, огромных — слезы.
Настороженная, глядит с порога,
На личике под светлым ореолом
Испуг, и любопытство, и тревога.
«Ступайте мимо, добрый Сид, — иначе
Погубят нас по воле государя,
Разрушат дом, засеют землю солью,
Возьмут зерно, лежащее в амбаре.
Уйдите, Сид, и да хранит вас небо.
Кой прок вам предавать нас лютой каре?»
Глядит и плачет. Детскими слезами
Дружине преграждается дорога,
И, воинов суровых понуждая,
Бесстрастный голос произносит: «Трогай!»
Слепое солнце, жажда и усталость…
Сквозь ад степей кастильских раскаленных
Железо, пыль и пот, — верхами едут
Изгнанник Сид и с ним двенадцать конных.
КАРМЕН. Перевод М. Самаева.
Вечером, когда ветер, нежный, как вздох акаций,
Зелень дворов предместных свежестью вдруг овеет, —
Черные кудри Кармен синью небес лоснятся,
В черных глазах-озерах страсть потайная зреет.
Мимо идет Антоньо, словно бы в ореоле —
Нежность красивых женщин нам ореолы дарит, —
Чувствуя долгий-долгий взгляд его, поневоле
Вспыхнет душа у Кармен, в щеки ей кровь ударит.
Смотрит, как он проходит. Может быть, обернется…
Сердцебиеньем легкий шаг его отдается.
И поливая мальвы, перебирая четки,
Так и застынет, вспомнив отзвук его походки.
И заглядится утром в зеркало и притихнет,
И в волосах смолистых ранняя роза вспыхнет.
ПЕСНИ. Перевод В. Столбова.
Пока не поет их народ,
Песни еще не песни,
А когда их поет народ,
Сочинитель уже неизвестен.
Такая судьба, без сомненья,
Всем песенникам суждена,
Остаются их сочиненья,
Забываются имена.
Ты сделай так, чтобы в людях
Хранилась песня твоя.
Пуская не твоя она будет,
А каждого и ничья.
Пусть растворится твой голос
В тысячах голосов.
Ты имя отдашь во имя
Бессмертия твоих слов.
ЛЕОН ФЕЛИПЕ.
Леон Фелипе (1884–1969). — Крупный испанский лирик, Леон Фелипе Камино дебютировал в 1920 г. сборником «Стихи и молитвы путника», в котором можно заметить влияние поэтики Унамуно и Антонио Мачадо. Переводчик Уитмена, он способствовал внедрению в испанскую поэзию свободного стиха. Много странствовал. С началом гражданской войны вернулся в Испанию и деятельно сотрудничал с лагерем республиканцев. После поражения, которое было воспринято им как непоправимая трагедия его народа, эмигрировал в Латинскую Америку. Умер в Мехико. Основные книги: «Стихи и молитвы путника» (1920), «Топор» (1939), «Исход и плач испанца» (1940), «Полное собрание сочинений» (1969).
СЛОВНО ТЫ… Перевод А. Гелескула.
Эта жизнь моя —
Камешек легкий,
Словно ты. Словно ты,
Перелетный,
Словно ты,
Попавший под ноги
Сирота проезжей дороги;
Словно ты,
Певучий клубочек,
Бубенец дорог и обочин;
Словно ты,
Что в день непогожий
Затихал
В грязи бездорожий,
А потом
Принимался снова
Плакать искрами
В лад подковам;
Словно ты,
Пилигрим, пылинка,
Никогда не мостивший рынка,
Никогда не венчавший замка;
Словно ты, неприметный камень,
Неприглядный для светлых залов,
Непригодный для смертных камер…
Словно ты, искатель удачи,
Вольный камешек,
Прах бродячий…
Словно ты, что рожден, быть может,
Для пращи, пастухом несомой…
Легкий камешек придорожный,
Неприкаянный,
Невесомый…
ДОЗНАНИЕ. Перевод А. Гелескула.
…И кто-то приказал мне: — Говори!
Припомни все. Припомни, что ты видел.
— Не знаю. Это было в темноте…
Толкают… Чьи-то локти и колени…
И непонятно — держат или валят…
Все происходит в темноте…
— Потом?
Рассказывай!
—…Выходим из пролома
Навстречу снам… и медленно крадемся
Притихшими задворками кошмаров…
— Ты видел их? Какими они были?
— Не знаю… словно траурные рекп
В султанах черной пены… и плюмажах.
Нет. Черные кладбищенские кони,
Бегущие, бегущие с рыданьем…
— Рыданьем ли? Рыданьем или ржаньем?
— Кто знает… И вбегающие в море…
Одно я знаю точно — все кошмары
Приводят к морю.
— К морю?
— К огромной раковине в горьких отголосках,
Где эхо выкликает имена —
И все поочередно исчезают.
И ты идешь один… из тени в сон,
От сна к рыданью,
Из рыданья — в эхо…
И остается эхо.
— Лишь оно?
— Мне показалось: мир — одно лишь эхо,
А человек — какой-то всхлип…
— И все?
И это все? Какой-то всхлип, и только?
— В конце уже я слышал только всхлип.
— Но всхлип ли это был? Откуда шел он?
Быть может, это были пузыри?
Толчок трясины? Ветер над трясиной?
— Не знаю… Все свершалось в темноте!
* * *
«Брат… С тобою твое добро…». Перевод А. Гелескула.
Брат… С тобою твое добро —
Лошадь, очаг, ружье.
Мой только древний голос земли,
Все остальное — твое.
Ты оставляешь меня нагим
Бродить по дорогам земным…
Но я оставляю тебя немым.
Ты понимаешь?.. немым!
И как ты станешь седлать коня
И в поле точить косу
И как ты будешь сидеть у огня,
Если песню я унесу?
РАССКАЖИТЕ МНЕ СОН… Перевод А. Гелескула.
В этом городе я мимоходом.
Я чужой. И прошу об одном.
Меня усыпили сказкой…
А был я разбужен сном.
Расскажите,
Разносчики сказок,
Расскажите мне просто сон,
Не мираж, не заклятье — сон,
Не прошу я волшебных марев.
Расскажите мне просто хороший соя —
Без сетей,
Без цепей…
Без кошмаров…
* * *
«Дайте мне только палку…». Перевод В. Столбова.
Дайте мне только палку.
Я вам оставлю жезл судейский,
И скипетр,
И посох,
И зонт.
Дайте мне только палку, простую палку бродяги,
И дорогу, идущую за горизонт.
ПРОЩЕНЬЯ. Перевод В. Столбова.
Я уже так стар,
Умерло столько людей, которых я обидел.
И я не могу их встретить
И попросить прощенья.
Я могу сделать только одно —
Встать на колени перед первым попавшимся нищим
И облобызать ему руку.
Нет, добрым я не был,
И мог бы я быть много лучше.
Должно быть, я слеплен из глины,
Которую плохо размяли.
У стольких людей мне бы надо прощенья просить!
Но все они умерли.
У кого же просить мне прощенья?
У этого нищего?
Неужели в Испании,
Да и во всем мире,
Не остался хотя бы один человек,
Который мог бы простить меня?
Память моя понемногу уходит.
Я забываю слова.
Я не могу их припомнить.
Я их теряю, теряю, теряю…
Но я хочу, чтоб последнее слово,
Самое нужное, самое цепкое слово,
Которое вспомнится мне перед смертью,
Было — «Простите».
КАК ПЕЧАЛЬНО. Перевод Юнны Мориц.
Как было бы грустно, печально, когда
Дорога бы длилась, и длилась, и длилась
И без конца повторялись на ней
Все те же поселки, все те же столицы,
Все те же равнины и те же стада!
Как было бы грустно, если бы жизнь эта стала длинней,
Если бы длилась, и длилась, и длилась
Тысячу лет!
Кто мог бы снести ее без труда?
Кто мог бы сделать ее терпимой?
Кто мог бы, кто мог бы, скажи мне на милость,
Кто мог бы десять веков Истории
Прочесть до последней точки, когда
Под разными датами, в разном порядке
Все тех же событий плывет череда?
Все те же войны, все те же страны,
Все те же тюрьмы, все те же тираны,
Все те же секты и шарлатаны,
Под разными датами, в разном порядке
Все тех же поэтов плывет череда!
Печально,
Как стар этот список событий,
Составленный кем-то для нас навсегда!
БИОГРАФИЯ, ПОЭЗИЯ И СУДЬБА. Перевод Юнны Мориц.
Поэт начинает с того, что говорит о своей жизни людям;
А потом, когда они засыпают, он говорит птицам;
А потом, когда они улетают, он говорит деревьям…
А потом появляется Ветер и шумит на деревьях листва.
Все это, другими словами, примерно выглядит так:
Исполнено гордости то, что я говорю людям;
Исполнено музыки то, что я говорю птицам;
Слезами наполнено то, что я говорю деревьям.
И все это вместе — песня, сложенная для Ветра,
Из которой он, самый забывчивый гений на свете,
Вспомнит едва ли несколько слов когда-нибудь на рассвете.
Но слова, которые вспомнит нечаянно Ветер,
Будут именно те, которых никогда не забудут камни.
А то, что поэт поверяет камням, полно обаяния вечности.
И это становится песней Судьбы, которую звезды запомнят навек,
Там, у себя, в бесконечности…
ДИАЛОГ МЕЖДУ ПОЭТОМ И СМЕРТЬЮ. Перевод Юнны Мориц.
О смерть! Я заметил, что ты уже здесь.
Ты смерть, но имей хоть немного терпения.
Я знаю, что три показали часы.
Мы вместе уйдем, когда звезды уйдут,
Когда петухи во дворе запоют,
И свет за горой перейдет в наступление,
И солнце раздвинет багровую щель,
Когда ему эту возможность дадут
Заснувшее небо с заснувшей землей,
Забыв друг о друге всего на мгновение.
Уйдем не тогда, когда ты позовешь,
Уйдем не тогда, когда я разрешу.
Мы вместе уйдем, когда звезды уйдут,
Мы вместе уйдем, когда я допишу
Все то, что положено мне и судьбе.
Мы вместе уйдем, когда сам по себе
Сломается почерк, само по себе
Перо упадет, и само по себе
Оно разобьется, и сам по себе
Я выпущу склянку чернил из рук,
И сам по себе фиолетовый круг
Покроет полы, и сама по себе
Откроется дверь моя настежь, и вдруг
Мы вместе уйдем. А пока не нуди…
Там вешалка есть в коридоре, найди
Свободное место и вешай косу.
И сядь в коридоре… И там подожди.
* * *
«Разберите стихи на слова…». Перевод В. Столбова.
Разберите стихи на слова.
Отбросьте бубенчики рифм,
Ритм и размер.
Даже мысли отбросьте.
Провейте слова на ветру.
Если все же останется что-то,
Это
И будет поэзия.
ХОРХЕ ГИЛЬЕН.
Хорхе Гильен (род. в 1893 г.). — Поэт и филолог. Принадлежал, вместе с Дамасо Алонсо, к группе «университетских поэтов», которые проповедовали принципы «чистой поэзии», отличающейся сложным, но в то же время вполне рациональным образотворчеством, восходящим к манере Луиса де Гонгоры. Поклонник и переводчик французской поэзии — прежде всего Поля Валери. Автор книг: «Песнопения» (1928), «Маремагнум» (1957), «Которые впадают в море» (1960). В послевоенные годы в его творчестве все отчетливее звучит тема социальной ответственности.
СОВЕРШЕНСТВО. Перевод Б. Дубина.
Дремлющее время замыкая
Сводом отвердевшего огня,
Выгнулась голубизна тугая —
И застыла: середина дня.
Солнце, закрепленное в зените,
В центре мира на незримой нити
Держит розу. Все заключено
В настоящем с полнотой такою,
Что идущий землю под ногою
Чувствует как целое одно.
КОНИ. Перевод Б. Дубина.
Нехоленые, свесивши свои
Запущенные гривы, друг на друга
Поникнув головами и упруго
Покачиваясь в полузабытьи,
Вдали темнеют кони. Ни шлеи,
Ни клади нет. И ни следа испуга:
Они уже как травы среди луга
И безмятежней, чем в кругу семьи.
Глаз не сомкнув, они уходят в сны.
Над ними небо замерло в покое,
Помноженном на эхо тишины
В ушах: нам до небес подать рукою,
Они же, к тайне их приобщены,
Стоят как боги, превзойдя людское.
САДЫ. Перевод Б. Дубина.
Где время в сокровенности? В садах.
Отстаивается. Уже бездонно.
Ты впитан глубью. О, прозрачность стольких
Закатов, пребывающих в одном!
Да, сказкой родников ты стало, детство.
ИТОГ. Перевод П. Грушко.
Когда остался втуне
Шум дня, — в ночном тумане
Ты к памяти-молчунье
Приходишь на свиданье.
Малейший вздох былого
Теперь подобен крику,
И в бездне ищешь снова
Далекую улику.
Утрачены детали,
Но память-чаровница
Еще сильней мытарит
Тем, что смогло продлиться.
Опять я нежным зельем
Разбужен в каждом слоге,
Опять дышу апрелем,
И роза — свет мой строгий.
Когда была ты рядом,
Все было — восхожденьем,
Итогом, верным ладом,
Нелживым наслажденьем.
Любовь, как башня, встала
В пустынной этой были,
Вся — трепет от подвала
До флюгера на шпиле.
Пусть на руинах вьется
Трава, но так знакомо —
Смотреть со дна колодца
На завитки подъема.
Я — пища для былого.
Хоть и под новым небом
Заговорило слово, —
Я без былого — небыль.
Не тусклая оглядка,
Не сонное занятье, —
Оно двукратно сладко
В немеркнущем объятье.
Все достается ветру.
Но я люблю. Тоскую.
Слова, несите к свету
Любовь мою живую!
СМЕРТЬ И МОЛОДОСТЬ. Перевод П. Грушко.
Жизнь молодая была —
Как бесконечная милость,
Юным бессмертьем богов
Гордо в движеньях струилась,
Просто и трудно текла,
Тропы и улицы полня,
В неомрачимую даль,
В светлые площади полдня.
Сплавил единый сюжет
Будущее с настоящим,
Чистых страниц белизна
Чудом дразнила манящим.
Но незаметно
Рука
Мрака бесплодного вяло
Вывела свой приговор.
Все прервалось и пропало,
Смерклось во мраке глухом,
В неощутимых тенетах,
В тесном безмолвье, в земле,
В самых ничейных пустотах…
Юность — соблазн для слепых
Лезвий!.. Вы скажете — дико!
Хуже, — бессмыслица, бред.
Низость от веку безлика…
СМЕРТЬ БАШМАКОВ. Перевод П. Грушко.
Скоро им конец наступит!
Словно слуги-христиане,
Верно мне они служили,
Без надежд на состраданье.
Угождали господину,
Постаревшему в дороге
И готовому покоем
Душу наградить и ноги.
Эти мудрые подошвы
Пять за пядью изучили
Путь по чавкающей топи,
По булыжнику и пыли.
Блеклая пожухла кожа.
Стало спекшеюся раной
То, что прежде было чистой
Новизною первозданной.
Все пророчит мне погибель,
И уже устали тяжи.
Вечер. В смерть меня уводят
Шаркающие миражи…
ДАМАСО АЛОНСО. Перевод П. Грушко.
Дамасо Алонсо (род. в 1898 г.). — Поэт и филолог. Автор таких известных исследований, как «Поэтический язык Гонгоры», «Очерки испанской поэзии», «Комментарий к „Одиночествам“ Луиса де Гонгоры» и др. Читал лекции по истории испанской литературы в университетах Мадрида, Берлина, Лондона, Лейпцига. С 1948 г. — член, а в настоящее время — президент Испанской Академии наук. В первый период творчества исповедовал идеалы «чистой поэзии». О принципиальном изменении его эстетической позиции свидетельствуют такие строки поэта (написано в 1969 г.): «Ныне я более всего на свете ненавижу бесплодный эстетизм… Меня теперь интересует только человеческое сердце». Основные поэтические книги: «Чистая поэзия. Городские стишки» (1921), «Темная весть» (1944), «Дети гнева» (1944), «Человек и бог» (1955).
БЕССОННИЦА.
Мадрид — это город, где громоздится чуть ли
Не миллион трупов (согласно последним данным).
Иногда по ночам я ворочаюсь в склепе, где гнию
Заживо вот уже сорок пять лет,
И долгими часами слушаю, как хрипит ураган,
Воют псы, и смотрю, как робко струится
Мерцание луны.
Долгими часами я хриплю, как ураган, вою, как
Бешеный пес, молоком струюсь из горячего
Вымени большой желтой коровы.
Долгими часами я спрашиваю бога, почему гниет
Заживо моя душа, почему гниет чуть ли не миллион трупов в городе
Мадриде,
Почему миллионы трупов гниют заживо в мире?
Господи, какой сад ты хочешь удобрить нашим
Гниением?
Боишься, что увянет большой розарий твоего дня,
Мертвенные лилии твоих печальных ночей?!
ОСЛЕПШИЙ ПОРТ.
Угнали море.
Но крайний дом еще хранит его вымпелы.
Коровы (барки на поле отмели)
Плывут на закат, рассекая
Тучную землю, — крошат
Золотые раковины, в которых завиты
Морские напевы.
Но ветру об этом неведомо.
Безлунными ночами
Он прилетает целовать хребты волн,
Которые дремлют, не разбиваясь.
Царапается о верхушки
Мачт.
Брюхатит полотнища парусов.
Потом
Трещит на иссохших сваях причала
И, как слепой, ощупывает растрескавшийся
Парапет. Высовывает длинный язык
И пядь за пядью вылизывает раскаленный песок.
Летит
(Как измочаленный равниной парус)
И чешется о скорбные дома
Поселка, — протяжный свист,
Пугающий зарю.
ЗВЕЗДОЧЕТЫ.
Клонит в сон.
А наяву —
Город,
Тихий городишко,
Двадцать лет я здесь живу.
Все как прежде в нем.
Но вот
Вижу: на балкон соседний
Вышел мальчик-звездочет.
Пробую и я считать…
Только он быстрей считает:
Раз, два, три, четыре,
Пять.
Не догнать.
Раз, два… три…
Четыре…
Пять…
ВИСЕНТЕ АЛЕЙСАНДРЕ. Перевод С. Гончаренко.
Висенте Алейсандре (род. в 1898 г.). — Поэт, значительная часть творчества которого отмечена печатью авангардизма. Первый сборник стихов, «Атмосфера», увидел свет в 1928 г. За ним последовали: «Шпаги как губы» (1932), «Тень Рая» (1944), «На смерть Мигеля Эрнандеса» (1948). В 1934 г. удостоен Национальной литературной премии. В годы гражданской войны был на стороне Республики, В 1950 г. избран действительным членом Королевской академии языка.
ЗЕМЛЯ.
И остыло
Земли горнило.
И трава на земле проступила,
Как зеленого пламени космы.
Ком земли, обживающий космос.
Что в нем было? Он плыл, не таял,
Непорочен и необитаем.
Плыл на ощупь в пространстве черном,
Озарен лучом золоченым.
ОГОНЬ.
Одинок огонь, не причастен
К обоюдному жару страсти.
Посмотрите, как плещет пламя,
Завладевшее небесами!
Как в луче вертикальном взмыли
Птицы, не опаливши крылья!
А костер человечий? Много
До него еще, слава богу,
Лет, пронизанных этим светом
И огнем невесомым этим —
Самым чистым и ясным самым…
Человек, погоди с кресалом!
ВОЗДУХ.
Еще неимовернее, чем море,
Еще сосредоточеннее — воздух.
Пустыня света в стынущем просторе,
Бессонница высот в студеных звездах.
Бессмертный воздух! Может быть, до края
Он грудь тебе собою переполнит —
Но он, бессмертный, о тебе не знает.
Но он, бессмертный, о тебе не помнит.
МОРЕ.
Разве моря кромка голубая
Льнет печально к берегу губами?
Вон как вольно рыщут волны в поле.
В небе благодать, а солнце — в море!
Что за свет, пронзающий навылет,
На трепещущую вечность вылит?
Божье сердце бьется в синем свете:
Бьется вне
И времени и смерти.
* * *
«Что за упругая кровь по излукам…».
Что за упругая кровь по излукам
Льется, точа ледяную плотину?
Хлынуло в сжатые губы лавиной
Небо, смывая оплот акведука!
Певчие струи, и смута, и мука
Ветра, всверлившего свист соловьиный
В пену, кипящую первопричиной
Кровосмешения света и звука.
Ширится полночи грузная крона,
Пряча в листве вороненой и влажной
Звездную тяжесть тугого плода;
Бриз, низвергающийся с небосклона,
Черную ветку качнул — и протяжно
Звоном ответила ветру звезда.
ЮНОСТЬ.
Окно. Звезда в зените.
Глаза, куда глядите?
Глаза глядят на стены:
Не выбраться из плена.
Кирпич, и черепица,
И пол… Кругом — граница.
Я стиснут ей до боли.
Звезда горит на воле.
Однажды день настанет —
И стен совсем не станет.
И хлынет свет. Стираясь,
Все грани сгинут. Радость!
Но я, навек ослепнув,
Глаза сомкну. Нелепо…
Свобода! Но над полем
Моя звезда — в неволе.
КОНЕЧНАЯ МГЛА.
Мутится мысль и смущена душа.
Кого сейчас мои ласкали губы?
Свет или сгусток мглы меня погубит,
Мой жар в себя вбирая не спеша?
Как билось сердце, грудь мою круша,
Как пела кровь и как трубила в трубы…
Но, верно, страсть, ослепнув, шла на убыль:
Уже мерцает дно ее ковша.
Ты здесь струилась меж моих ладоней,
Рекой упругой подо мной текла,
Вникая кровью в дрожь моих агоний.
Все кончено. Закатная зола
Не лжет рассудку. Свет потусторонний
Бесстрастно заволакивает мгла.
ДЛЯ КОГО Я ПИШУ.
Случается, репортер или литературный критик, а то и просто
Кто-нибудь из любопытствующей публики
Спрашивает меня: «Для кого ты пишешь?»
Ну, уж конечно, я пишу не для этого господина
В сюртуке щегольского покроя, и тем более не
Для его сердитых усов,
И даже не ради его указательного пальца,
Грозящего в такт похоронному маршу.
Наплевать мне также на всяческие кареты и экипажи,
Равно как и на их содержимое (видите, там,
За стеклом, ледяными молниями посверкивают лорнеты).
Пишу я, пожалуй, для тех, кто меня не читает.
Вот, например, для этой женщины,
Которая стремглав бежит по проулку, словно боится,
Что опоздает отворить двери рассвету.
Или для этого старика, который прикорнул на скамейке
И не замечает того, как закатное солнце
Любовно обхаживает его своими лучами.
Я пишу для всех своих не-читателей, которым
Нет до меня никакого дела, но которым
Я все-таки нужен, хотя они обо мне и не знают.
Для этой вот девушки, взглянувшей на меня мимоходом, —
Ведь мы с ней собратья по невероятному приключению
Под названием «жизнь».
Для этой ссутулившейся у порога старухи,
Которая сама породила столько жизней и столько
Натруженных жизнью ладоней.
Я пишу для влюбленных; пишу
Для всевозможных прохожих:
Для того, кто пронес мимо меня свои печальные
Глаза; для того, кто даже и не взглянул в мою
Сторону, для того, наконец, кто рухнул замертво,
Потому что трижды кричал нам, а мы его не услышали.
Я пишу для всех. Но прежде всего, повторяю, —
Для тех, кто меня не читает.
Я пишу для каждого в отдельности и для всех скопом.
Пишу для сердец, для губ, для ушей, которые,
Может быть, и не слышат меня, но все равно
Внимают моему слову.
ЛУИС СЕРНУДА.
Луис Сернуда (1902–1963). — Начал свой литературный путь в рядах сюрреалистов, но уже в 30-х годах убедился в «тривиальности и искусственности, в которую выродился сюрреализм, превратившийся в формулу». После победы франкистов эмигрировал из Испании. Основные книги: «Профиль ветра» (1927), «Юный моряк» (1936), «Действительность и желания» (1936), «Облака» (1943) и др.
БОЯРЫШНИК. Перевод М. Ваксмахера.
Гору одел боярышник
Зеленью свежей.
Гора в трепещущем воздухе
Стала пурпурно-снежной.
К тебе приходил боярышник
Весною каждой.
Весна всегда на свиданье является,
А ты не придешь однажды.
Пока над тобой сгуститься
Мгла не успела,
Впитывай счастье, гляди на боярышник
В красном и белом.
ОПУСКАЕТСЯ ВЕЧЕР. Перевод М. Ваксмахера.
Опускается вечер. Густеют
За окнами тихие тени.
Мальчик смотрит на ливень.
Фонари проявляют на черном фоне
Белизну дождевых линий.
Мальчик один. Теплая комната
Окутывает мальчика лаской.
И облачко занавески
Колышется и нашептывает
Мальчику сказку.
Забыты уроки и школа.
Час мечтаний бездумно смелых.
Под лампой раскрыта книга
С картинками. Время
Ускользнуло от контроля стрелок.
Он живет еще в теплом лоне
Собственной нежной силы.
Он еще не знает стремлений.
Он не знает, что за окнами время
И жизнь затаилась в засаде.
В нем — во мгле — жемчужина зреет.
РОДНАЯ ЗЕМЛЯ. Перевод М. Ваксмахера.
Свет, словно сон, невесомый,
С детства знакомая ласка света,
Прикосновение нежных красок
К чистым формам предметов.
Очарованье равнины —
Простертой к небу ладони,
И лимонное дерево над ручьем —
Тяжесть плода над водою.
Стена, где цветок повилики
Раскрывается под вечер среди веток
И куда к гнезду возвращается
Ласточка каждое лето.
Воды-кормилицы бормотанье —
В тишине беззвучная музыка,
Мечты, еще не разбитые жизнью,
И чистой страницей — будущее.
Все это, временем унесенное,
Во мне оживает безжалостно
И в сердце мое вонзает
Воспоминаний кинжалы.
Молодые корни — кому их вырвать?
Первая любовь — кто совладает с нею?
Мечты о тебе — кто их развеет?
Земля моя, чем дальше ты, тем роднее.
ПРОЗРАЧНАЯ ВОДА. Перевод М. Самаева.
Напиши это. Легкою кистью и краской,
Полной воздуха утреннего. Напиши
Воду ясную, света прозрачную ряску
И на дне погруженные в сон голыши.
Купы вязов и ветер, ласкающе свежий,
Отдающийся дрожью в их каждом листке,
Тучку, словно забытую в синем безбрежье,
Тень холма голубую на донном песке.
Той минуты, что будет последним ответом,
Ты с улыбкою ждешь. На душе тишина.
Словно кроткий пейзаж в водах дремлющих, в этом
Ожиданье вся жизнь твоя отражена.
СИРЕНЫ. Перевод М. Самаева.
Никто не знает наречья, на котором поют сирены.
И мало кому из внимавших полуночному их пенью
(Не в море, как встарь, — на земле, в сонной озерной глуши),
Поверилось, будто пред ними возник в таинственном мраке
Знобящий горестный призрак и пел ту самую песню,
Которую некогда слушал привязанный к мачте Улисс.
Вот иссякает ночь исполненных ожиданий,
И те, кто слышал сирен, возвращаются к шуму дня,
К его безобманному свету, но песня в них оседала,
Щемящим слезным настоем пропитывала их душу,
И, точно далекий отзвук, в них жило очарованье
Печальноголосого пенья состарившихся сирен.
Внимавшие так напряженно-самозабвенно, они
Уже не свыкались с прежним и новой жизни искали;
Томящий слезный осадок им кровь лихорадил ночами.
Одной-единственной песней перевернуть всю жизнь?
Пускай, лишь раз отзвучав, голоса сирен умолкали,
Но кто их слыхал, будет вдов и безутешен навек.
ПЕРЕД УХОДОМ. Перевод М. Самаева.
Мир зла, мне от тебя
Не нужно ничего —
Лишь синевы кусок
От неба твоего.
Другим — успех и власть,
Весь рай твоих сует,
А мне оставь любви
Во мне поющий свет.
1936. Перевод М. Ваксмахера.
Вспомни сам и другим напомни,
Когда им тошно от низости человечьей
И душит гнев от черствости человечьей, —
Вспомни всего лишь об одном человеке,
О его жизни, о его вере.
Вспомни сам и другим напомни.
Год шестьдесят первый, город чужой
Спустя четверть века.
Самая будничная обстановка.
Измученный встречами с читательской публикой,
Ты беседуешь с ним, с тем человеком —
Со старым солдатом
Из бригады Линкольна.
Четверть века тому назад,
Не зная твоей земли, для него далекой,
Для него совершенно чужой,
Он поехал туда, чтобы жизнь за нее отдать,
Потому что правым считал ее дело,
Потому что сражаться хотел за свою веру.
То, что дело потом проигранным оказалось, —
Это не важно.
То, что многие, кто утверждал свою веру,
Лишь себя в расчет принимали, —
Еще менее важно.
Важно другое: вера одного человека.
Вот почему сегодня снова
Это дело видится тебе высоким и благородным,
Достойным того, чтобы жизнь за него отдать.
Вера солдата пережила пораженье,
Пережила эти долгие годы,
Когда дело казалось погибшим.
И нет ничего на свете
Важней этой веры.
Спасибо тебе, товарищ.
Ты мне говоришь примером своим,
Что человек благороден.
Пусть благородными были не все — это не важно.
Достаточно одного человека —
Он станет свидетелем непреклонным
Человеческого благородства.
ИТАЛИЯ.
ГАБРИЭЛЕ Д’АННУНЦИО.
Габриэле д’Аннунцио (1863–1938). — Поэт, прозаик, драматург. Творчество д’Аннунцио отразило в себе едва ли не все особенности литературных течений на рубеже двух столетий. Изощренная по форме сенсуалистическая поэзия д’Аннунцио, еще далекая вначале от риторики будущего «сверхпоэта», отличалась смелостью эксперимента в сфере поэтического языка, во многом определив направление последующих поисков в этой области. Самыми серьезными достижениями д’Аннунцио-лирика являются «Райская поэма», с ее мотивами любви и мечтой о родной земле, и цикл «Алкион» (1904) — написанный на одном дыхании гимн лету.
Одержимый гипертрофированным самолюбием, движимый отчасти ницшеанскими идеями «сверхчеловека», отчасти жаждой популярности, д’Аннунцио проделал путь от националистических и империалистических проповедей до принятия фашизма (любопытно при этом, что в последние дни жизни он сочинил эпиграмму на Гитлера).
Основные поэтические произведения д’Аннунцио: «Весна», 1879; «Новая песнь», 1882; «Римские элегии», 1892; «Райская поэма», 1893; «Гимны», 1903–1912.
На русский язык переведена большая часть прозаических и драматургических сочинений д’Аннунцио, чего нельзя сказать о его поэзии.
О МЕСЯЦА СЕРП НЕВЫСОКИЙ. Перевод Евг. Солоновича.
О месяца серп невысокий,
В пустынных волнах отраженный,
О серп серебристый, каких сновидений
Колышется нива в сиянье твоем!
Дыхание трепетных листьев,
И вздохи цветов на полянах,
И сонное море… — ни песен, ни вскрика,
Ни звука не слышит безмолвный простор.
Усталый гурман и любовник,
Бессмертный народ засыпает…
О серп невысокий, каких сновидений
Колышется нива в сиянье твоем!
ВЕЧЕР. Перевод А. Ларина.
I.
О милости прошу — не уходите
Во тьму. Останьтесь! Неужели надо
Вам света? Нет! Останьтесь, чтобы спада
Не знал мой сон. Молю, не уходите.
Мне чудится, что нас изъест, как пламя,
Палящий свет. Как долго день тянулся,
Как долго! Я невольно содрогнулся:
Он возвратится снова. Свет — как пламя.
Он мучит нас. В полдневном свете взгляды
Мертвы в глазах усталых ваших. Тщатся,
Но словно не решаются подняться
Завесы век, и гаснут ваши взгляды.
Нет ничего, нет ничего печальней
В приходе тьмы, чем миг, когда на коже
Ресницы застывают, как на ложе,
А складки губ лежат еще печальней.
II.
Но кто найдет глаза щедрей и глубже,
Чем ваши, если солнечное око
Погаснет? И какой душе от рока
Достался в дар провал грустней и глубже?
Я ничего подобного не знаю,
Что бы лучилось столь же величаво
В вечерней мгле — бледна созвездий лава,
Бледны цветы. Подобного не знаю.
Но что уравновешивает в жизни
Моей души паденья без предела
И ужасы? Не умирает тело,
Причастное потусторонней жизни.
С причудливым и зыбким очертаньем
Слилась на небе тьмы вечерней пена,
На волосы ложится постепенно
Вся эта тьма единым очертаньем,
Одной волною и одной рекою
Таинственной, упрямо вовлекая
В свои круги и память иссекая,
Вторгаясь в разум древнею рекою.
III.
Ты, в чьих глазах огромных средоточье
Души моей и сердца трепетанье,
Плачь надо мною, плачь, сестра страданья,
Сестра заката, жизни средоточье.
Чтобы утешиться в минуту скорби,
Тебя я создал из чистейшей сути,
Нетленный призрак, но в душевной смуте
Ты не утешишь глубочайшей скорби.
ПАСТУХИ. Перевод Евг. Солоновича.
Сентябрь, пора и нам. Повсюду сборы.
Сегодня пастухи мои в Абруццах,
Открыв загоны, покидают горы,
Влекутся к Адриатике пустынной
И — словно пастбища в горах — зеленой.
Они припали, уходя, к студеной
Воде, чтоб вкус родной остался в каждой
Груди отрадою в дороге долгой
И верх как можно дольше брал над жаждой.
Сменили напоследок хворостину.
Старинная тропа ведет в долину,
Шаги трава густая заглушает,
Безмолвная, как медленные реки.
О клич того, кто первым возглашает
О том, что наконец он слышит море!
И берегом уже отара вскоре
Идет. Ни дуновенья. Ярким светом
Настолько шерсть отбелена живая,
Что стала на песок похожа цветом.
Знакомый шум звучит во мне стихами.
Зачем я не с моими пастухами?
ГВИДО ГОЦЦАНО. Перевод Евг. Солоновича.
Гвидо Гоццано (1883–1916). — Виднейший представитель так называемого «сумеречного» направления, противопоставившего пышной риторике и традиционализму XIX в. приглушенную меланхолическую тональность, подчас близкую к разговорной, и подчеркнутую разочарованность в жизни (отсюда — склонность к описаниям тихой провинции, монотонных будней, больниц, монастырей; отсюда — демонстративная тоска по прошлому, по фамильным особнякам и буржуазным салонам минувшего столетня). При всем своем холодном эстетизме, «сумеречные» поэты не чужды иронии, нередко иронизируя и над собой. Гоццано, по словам Э. Монтале, одного из самых гонких исследователей его творчества, «был единственным среди поэтов своего времени, сумевшим оставить нам в небольшой книге песен собственный завершенный портрет».
Гоццано — автор двух поэтических сборников: «В поисках прибежища», 1907, и «Беседы», 1911; отдельные стихотворения, а также незаконченный цикл «энтомологических посланий» «Бабочки» увидели свет после смертипоэта.
Перевод стихотворения «Прекраснейший на свете» опубликован в сборнике «Итальянская лирика, XX век», М., 1968; переводы двух других стихотворений выполнены для настоящего издания.
ЗИМНЕЕ.
«…Хру-у-у-у-сть»…
Внезапный скрежет —
И трещина по льду прошла узором.
«На берег!» — люди закричали хором,
Боясь, что их от берега отрежет
Случайным злом живой излом, в котором
Еще немного — и вода забрезжит.
«Останься!» — Я ответил взглядом смелым.
«Прошу!» — Я руку вырвать не пытался.
«Останься, если любишь!» — Я остался.
Над зеркалом неверным, опустелым,
Она и я парим единым целым,
Ликуя: нам одним каток достался!
Одни — что сердцу может быть угодней?
Без прошлого, в безумстве упоенном,
Мы, отраженные стеклянным лоном,
Скользили все быстрее, все свободней.
У края хруст раздался — безысходней…
У края хруст раздался — глуше тоном…
И, весь похолодев, как тот, кто рядом
Услышал Смерть — ее смешок постылый,
Я наклонился, будто над могилой, —
И два лица из мрака вырвал взглядом,
Безжизненных, чуть тронутых распадом…
У края хруст раздался — с новой силой…
И сладостную жизнь мою, несчастный,
Оплакал я, оплакал все, что бренно.
О голос страха — инстинктивный, властный!
О жажда жизни, как ты неизменна!
Конец?.. Я пальцы вызволил из плена
И выбрался на берег безопасный…
Она одна на ледяной площадке
Осталась — полновластная царица,
Но вот, в конце концов устав кружиться,
Взошла на берег — озорные прядки,
Прекрасна, словно трепетная птица,
Во взоре — дерзость, дерзость без оглядки.
Спокойно среди радостного гула,
Как будто не она его причина,
Туда, где я с приятелями чинно
Стоял, она пройти не преминула.
«Спасибо, сударь мой! — и протянула
С усмешкой руку мне. — Хорош мужчина!»
ТОТО МЕРУМЕНИ[152].
[152].
I.
Изящные балконы от глаз листва укрыла, —
Заросший сад не знает заботы человека…
В моих стихах встречалась стократ такая вилла,
Пример архитектуры семнадцатого века.
Ей бесконечно трудно мириться с долей новой,
Она грустит о частых ватагах шумных в старом
Саду, о пышных пиршествах под сводами столовой
И о балах в гостиной, уплывшей к антикварам.
Бывал здесь Дом Ансальдо, и Дом Раттацци — тоже[153],
А кто владельцев виллы сегодня навещает?
Авто, фырча, подкатит — и пассажиры в коже
Горгоной о приезде своем оповещают[154].
Залаяла собака, шаги — и дверь бесшумно
Открылась… Здесь, где тихо, как в монастырской келье,
Живет Тото Мерумени; мать не встает с постели,
На ладан тетка дышит, а дядя — слабоумный.
II.
Двадцатипятилетний Тото — раним, изнежен,
Неплохо образован, словесности любитель,
Умом не блещет… Нравственность? О! здесь Тото небрежен,
Сын времени, прогресса типичный представитель.
Он не богат, и время «сбывать слова»[155] приспело
(Его кумир, Петрарка!) — статейки нынче в моде,
Но он избрал изгнанье, милей не зная дела,
Чем о былых проказах размыслить на свободе.
Нельзя назвать недобрым его. Он деньги может
Для бедных дать, он первую пошлет клубнику другу,
Придет с вопросом школьник — он школьнику поможет,
Окажет эмигранту посильную услугу.
Свои ошибки зная, он не кусает локти.
Нельзя назвать недобрым его. Он добр, по Ницше:
«…Меня смешат ничтожества, что добротою высшей
Кичатся лишь затем, что у них тупые когти…»
Труды окончив, можно и поиграть немножко
Под вековою сенью на травке глянцевитой
С любезными друзьями — охрипшей сойкой, кошкой
И чудо-обезьянкой, чье имя Макакита…
III.
Жизнь все свои посулы давно взяла обратно.
Он звал Любовь, лелея актрис мечтою жаркой, —
Актрисы и принцессы исчезли безвозвратно,
Теперь он делит ложе с молоденькой кухаркой.
Лишь только дом затихнет, на цыпочках девица,
Свежа, как ранним утром на ветке плод нектарный,
К нему, босая, входит и на него ложится —
И он ее сжимает в объятьях, благодарный…
IV.
Истоки чувств со временем сухими оказались —
Последствия болезни неизлечимо стойкой:
С беднягой сделал то же мучительный анализ,
Что сильный ветер делает с пылающей постройкой.
Но, как на месте дома, доставшегося в пищу
Огню, родятся шпажники — пожарищ украшенье,
Сия душа, которая подобна пепелищу,
Стихи — цветочки чахлые — рождает в утешенье…
V.
Тото почти что счастлив. Он мысль перемежает
Созвучьями, — безделье простительно невежде!
Тото в себе замкнулся, Тото соображает,
Жизнь Духа постигая, не понятую прежде.
Поскольку голос небольшой — и бесконечна нива
Любимого искусства и свой всему черед,
Тото творит — наука мне! — и ждет честолюбиво.
Однажды он родился. Однажды он умрет.
ПРЕКРАСНЕЙШИЙ НА СВЕТЕ.
I.
Но нет земли прекрасней, чем остров Неоткрытый, —
Испанскому владыке от родственных щедрот
Соседнего владыки подарок знаменитый,
Скрепленный папской буллой в такой-то день и год.
В неведомое царство Инфант отчалил вскоре,
Он видел Фортунаты, он каждый островок
В Саргассовом проверил, а также в Мрачном море,
Но дара португальцев, увы, найти не смог.
Пузатые фрегаты вотще кренили снасти,
Напрасно каравеллы стремились тайне вслед:
Искали португальцы — не улыбнулось счастье,
Испанцы обыскались — нет острова и нет.
II.
Но между Тенерифе и Пальмой временами
Он возникает, дымкой таинственной повит.
«Как? Остров Неоткрытый? Да вот он, перед вами», —
Его с вершины Тейде показывает гид.
Он есть на старых картах, он был знаком корсарам…
Как? Остров Неоткрытый?.. Что? Остров-пилигрим?..
Он не стоит на месте — и моряки недаром
Заранее не знают, где ждет их встреча с ним.
И курс они меняют, завидев брег манящий.
Есть остров Неоткрытый. Конечно, это он,
Где не цветы, а диво, где сказочные чащи,
Где каучук сочится, слезится кардамон…
Себя благоуханьем, подобно даме знатной,
Он выдает. Он рядом, подаренный судьбой…
И вдруг он исчезает — прекрасный, непонятный,
Уже не отличимый от дали голубой.
АЛЬДО ПАЛАЦЦЕСКИ. Перевод Евг. Солоновича.
Альдо Палаццески (1885–1974). — Псевдоним поэта и прозаика Альдо Джурлани. В молодости Палаццески подолгу жил в Париже, ставшем на рубеже двух столетий признанным центром нового искусства. Дебютировав как поэт в 1904 г., Палаццески обратил на себя внимание в литературных кругах своей безудержной фантазией, находчивостью версификатора, озорством пародиста. «Открытый» нуждавшимся в талантах Маринетти, Палаццески примкнул к лагерю футуристов, печатался в их журналах «Поэзия» и «Лачерба» и даже написал в 1913 г. футуристический манифест с характерным названием «Антиболь»; однако яркая самобытность поэта, не укладывавшаяся в узкие «ведомственные» рамки, с самого начала сделала его причастность к футуризму чисто формальной. Создав за первые десять лет творчества лучшие свои поэтические произведения, Палаццески впоследствии посвятил себя главным образом прозе (один из его романов — «Сестры Матерасси» — переведен на русский язык).
Основные поэтические книги Палаццески: «Белые лошади», 1905; «Фонарь», 1907; «Поджигатель», 1910; «Стихотворения», 1925; «Сердце мое», 1968.
Переводы стихотворений Палаццески выполнены для настоящего издания.
ПОПУГАЙ.
На солнце его разноцветные перья,
Сверкая, меняют оттенки.
Сто лет, как, на этом окне восседая,
Он словно считает прохожих.
Не слышно, чтобы говорил или пел он.
Прохожие, шаг замедляя, дивятся
Потехе, поют и зовут попугая,
Он смотрит в молчанье.
Ему докучают,
Он смотрит в молчанье.
ДАЙТЕ МНЕ ПОРЕЗВИТЬСЯ. Канцонетта.
Кри кри кри,
Фру фру фру,
Уйи уйи уйи,
Ийу, ийу, ийу.
Поэт забавляется
Бесконечно.
Мешать ему бессердечно.
Тем паче не надо злиться,
Дайте ему порезвиться,
Бедняжке,
Ведь он и не помышляет
О большей поблажке.
Куку руру,
Руру куку,
Куккуккуруку!
Что значит сие безобразие?
Эти строфы… гм… экзотические?
Вольности, вольности,
Вольности поэтические.
Они моя слабость.
Фарафарафарафа,
Таратаратарата,
Парапарапарапа,
Ларалараларала!
Хотите, растолкую?
Да это же отходы.
Прошу без оскорблений
Не глупости — отбросы
Других стихотворений.
Бубубубу,
Фуфуфуфу.
Фриу!
Фриу!
Но на кого рассчитав
Подобный бред?
Зачем его строчит он,
Горе-поэт?
Билобилобилобилобило
Блюм!
Филофилофилофилофило
Флюм!
Билолю. Филолю.
Ю.
Нет, неправда, что это не значит…
Это значит кое-что.
Это значит…
Сейчас вам все станет ясно:
Представьте, что кто-то поет,
Не зная слов.
Но ведь это ужасно. Ужасно.
А я нахожу, что прекрасно.
Ааааа!
Эээээ!
Иииии!
Ооооо!
Ууууу!
А! Э! И! О! У!
Как вам, не знаю,
А мне за вас неловко.
Скажите честно — это не рисовка:
Мол, посудите сами,
Не так уж это трудно —
Грешить стихами?
Уиск… Уиуск…
Уишу… шушу,
Шукоку… Коку коку,
Шу
Ко
Ку.
Но, юноша, вы многого хотите
От тех, кто не знаком
С японским языком,
Аби, али, алари.
Риририри!
Ри.
А я бы не мешал ему кривляться,
Пусть корчит из себя паяца,
Он в результате прослывет ослом —
И поделом.
Лабала
Фалала
Фалала…
И еще лала…
И лалала лалалалала лалала.
Такие сочинения вчера
Еще сошли бы с рук.
Сегодня же, куда ни плюнь — вокруг
Профессора.
Ахахахахахахах!
Ахахахахахахах!
Ахахахахахахах!
Тем более я прав,
Не возражайте,
Теперь, когда любой — ума палата,
Никто пророком не считает
Поэта —
И дайте мне порезвиться!
ЯДОВИТЫЙ САД.
Его окружает забор невысокий —
От силы три пяди,
И с улицы видно, что фрукты созрели.
Тенистые ветви
Огромных деревьев
Прогнулись
Под грузом
Тяжелым.
Плоды налитые лоснятся на солнце.
Под сенью деревьев — замшелые камни
Разрушенной кладки.
Под ними — могила, могила столетней хозяйки.
Считалась бессмертной старуха,
Шаталась по саду,
Питалась плодами,
Одними плодами.
В округе со страхом о ней вспоминают.
Никто никогда не ступал за ограду,
Никто не прельщался плодами.
Лишь к вечеру сотнями совы хохочут в деревьях.
И падают, падают грузные фрукты,
Растущую гору внизу образуя,
Растущую гору
Из тысяч плодов ароматных.
ДВЕ РОЗЫ.
Бедный солдат,
Ты прижимаешь к вискам подушку,
Словно белой розы довольно,
Чтобы не так пылала
Алая
У тебя внутри.
Болью низвергнутый в ад,
Кто тебе сделал больно?
МАТЬ.
— Мать, твой сын тебе лгал.
— Он мой, как прежде.
— Мать, твой сын дурной человек.
— Он мой, как прежде.
— Мать, твой сын украл.
— Он мой, как прежде.
— Мать, твой сын убил.
— Он мой, как прежде.
— Мать, твой сын в тюрьме.
— Он мой, как прежде.
— Мать, твой сын не в своем уме.
— Он мой, как прежде.
— Мать, твой сын бежал.
— Он мой, как прежде.
— Мать, твой сын мертв.
— Он мой, как прежде.
ДИНО КАМПАНА. Перевод Евг. Солоновича.
Дино Кампана (1885–1932). — Внутренне динамичная, безыскусно красочная, шероховатая, поэзия Кампаны, с ее кажущейся иррациона-листичностью, наивной барочной образностью и глубокой наполненностью слова, в значительной степени открыла перед итальянской лирикой XX в. путь к зрелости. Творческий мир Кампаны хаотичен, как и его биография: он не раз сидел в тюрьме за бродяжничество, был матросом, фокусником, пожарным, музыкантом, побывал во многих странах, жил какое-то время, по утверждению некоторых биографов, в цыганском таборе под Одессой. Умер Кампана в психиатрической лечебнице. Единственная его квига — «Орфические песни», — вышедшая в 1914 г. и дополненная в посмертных изданиях рядом неопубликованных стихотворений.
Творчество Кампаны знакомо русскому читателю по сборнику «Итальянская лирика, XX век».
СТЕКЛО.
Удушливый летний вечер,
Отраженный стеклом наверху, месит отсветы в полутьме
И оставляет в сердце моем пылающую печать.
Но кто это (над рекой зажигается лампадка), кто
Маленькой мадонне на мосту, кто это, кто зажег лампадку?
В комнате
Пахнет гнилью,
В комнате алая гаснет рана.
Звезды — перламутровые пуговицы, вечер одевается в бархат,
И блуждающий вечер дрожит, блуждающий вечер — как тремоло,
Но в сердце,
Но в сердце у вечера вечная,
Алая гаснет рана.
ЛОДКИ У ПРИЧАЛА.
Паруса паруса паруса
Превращенные в чудо-хлопушки
Это ветер творит чудеса
Паруса паруса паруса
У причала как будто в ловушке
Волны жалобу их приглушают
С плеском треск парусины мешают
Дружно рвутся взлететь в небеса
Паруса паруса паруса
КОРАБЛЬ В ПУТИ.
Мачта мерно раскачивается в тишине.
Слабый свет, зеленый и белый, падает с мачты.
Небо на горизонте чистое — темно-зеленое и золотистое после шторма.
Белый квадрат фонаря наверху
Освещает ночную тайну.
В иллюминаторе — золотой треугольник лееров
И шар белого дыма над палубой,
Беззвучный
За мерною музыкой воды под сурдинку.
ГЕНУЭЗСКАЯ ЖЕНЩИНА.
Морской травой была ты повита,
И пахло твое бронзовое тело
Не очень щедрым на порывы ветром,
Перелетевшим издалека.
О простота
Божественная стройных форм твоих!
Нет, не любовь и даже не томленье,
А призрак, тень насущности спокойной
И неизбежной наполняет душу
Очарованием, покоем, счастьем,
И кажется, что может в бесконечность
Ее увлечь сирокко.
О, до чего же невелик и невесом в твоих ладонях мир!
БУЭНОС-АЙРЕС.
В густом тумане судно осторожно
Скользит, окутанное серым утром.
Над желтою водой речного моря
Внезапно возникает серый город.
Диковинная гавань. Эмигранты
Теряют голову, ожесточаются,
Опьянены борьбою предстоящей.
Пришедшие на пристань итальянцы,
Одетые смешно по местной моде,
Бросают апельсины в очумелых
Односельчан. Портовый беспризорник,
Дитя свободы, верное порыву,
Глядит нетерпеливо на приезжих,
В лохмотьях живописных пряча руки,
И чуть кивает в знак гостеприимства.
Но душит злость рычащих итальянцев.
* * *
«На фоне самых светлых пейзажей» [156].
[156].
На фоне самых светлых пейзажей
Поступь воспоминаний
Ваша поступь пантеры
На фоне самых светлых пейзажей
Бархатная поступь
И взгляд поруганной девы
Ваша поступь безмолвней воспоминаний
Вы подходите к парапету
И над журчаньем воды
Ваши глаза — нестерпимым свеченьем.
* * *
«Мгновение…».
Мгновение
И отцвели розы
Лепестки облетели
Отчего мне все время мерещились розы
Мы искали их вместе
Мы отыскали розы
Это были мои розы это были ее розы
Свое путешествие мы называли любовью
Из нашей крови из наших слез мы делали розы
Недолго сверкавшие на утреннем солнце
Мы их погубили на солнце среди колючих кустов
Розы которые не были нашими
Мои розы ее розы
P. S. Вот и все и забыты розы.
УМБЕРТО САБА.
Умберто Саба (1883–1957). — Псевдоним поэта Умберто Поли. В итальянской поэзии XX в. Саба — единственный из больших художников, избежавший влияния авангардистских течений конца прошлого — начала нашего столетия: лирика Сабы восходит к классической национальной традиции, от Петрарки до романтиков. Склонность поэта к самоанализу, к исповеди, повествовательный характер его реалистической лирики, внимание ко всему повседневному, прозрачный классический стих делают Сабу одним из самых читаемых итальянских поэтов XX в.
Первая книга Сабы, «Стихотворения», вышла в 1911 г. Этот сборник и два последующих поэт объединил в 1921 г. в «Книгу песен». Итоговому своду стихотворений — так называемому «второму Канцоньере» (1945), расширявшемуся от издания к изданию вплоть до окончательного (посмертного) издания 1961 г., предшествовали такие значительные сборники, как «Прелюдия и фуги», 1928, «Слова», 1934, «Последние вещи», 1944.
На русском языке поэзия Сабы наиболее полно представлена в издании: Умберто Саба. Книга песен. М., 1974.
СТАРЫЙ ГОРОД. Перевод Евг. Солоновича.
Домой нередко через старый город
Я возвращаюсь. Улицы мрачней
Одна другой. Свет редких фонарей
В непросыхающих желтеет лужах.
Здесь, где, стаканчик пропустив, домой
Идут одни, другие — в лупанары,
Здесь, где равно и люди и товары —
Отбросы порта,
Вновь неизбывность бедности людской
Передо мной.
Здесь морячок с красоткою гулящей,
И старец, все на свете поносящий,
И за окном закусочной драгун,
В казарме стосковавшийся по воле,
И пленница безумного томленья,
Чье сердце на приколе, —
Все это вечной жизни порожденья
И боли.
Немало совпадений в нашей доле.
В их обществе тем чище мысль моя,
Чем улочка грязнее,
В которую сворачиваю я.
ТРИ УЛИЦЫ. Перевод Л. Заболоцкого.
Ладзаретто Веккио в Триесте —
Улица печалей и обид.
Все дома в убогом этом месте
Сходны с богадельнями на вид.
Скучно здесь: ни шума, ни веселья,
Только море плещет вдалеке.
Загрустив, как в зеркале, досель я
Отражаюсь в этом уголке.
Магазины, вечно пустоваты,
Здесь лекарством пахнут и смолой.
Продают здесь сети и канаты
Для судов. Над лавкою одной
Виден флаг. Он — вывески замена.
За окном, куда не бросит взгляд
Ни один прохожий, неизменно
За шитьем работницы сидят.
Словно отбывая наказанье,
Узницы страданий и мытарств,
Шьют они здесь ради пропитанья
Расписные флаги государств.
Только встанет день на горизонте,
Сколько в нем я скорби узнаю!
Есть в Триесте улица дель Монте
С синагогой на одном краю
И с высоким монастырским зданьем
На другом. Меж ними лишь дома
Да часовня. Если же мы взглянем, —
Обернувшись с этого холма,
Мы увидим черный блеск природы,
Море с пароходами, и мыс, и навесы рынка,
И проходы, и народ, снующий вверх и вниз.
Есть в начале этого подъема
Кладбище старинное, и мне
С детских лет то кладбище знакомо.
Никого уж в этой стороне
Больше не хоронят. Катафалки
Здесь не появляются с тех пор,
Как себя я помню. Бедный, жалкий
Уголок у края этих гор!
После всех печалей и страданий,
И лицом и духом двойники,
Здесь лежат в покое и молчанье
И мои родные старики.
Как не чтить за памятники эти
Улицу дель Монте! Но взгляни,
Как взывает улица Россетти
О любви и счастье в эти дни!
Тихая зеленая окраина,
Превращаясь в город с каждым днем,
До сих пор она необычайна
В украшенье лиственном своем.
До сих пор в ней есть очарованье
Стародавних загородных вилл…
И любой, кто осенью с гулянья
На нее случайно заходил
В поздний час, когда все окна настежь,
А на подоконнике с шитьем
Непременно девушку застанешь, —
Помышлял, наверное, о том,
Что она, избранница, с любовью
Ждет к себе его лишь одного,
Обещая счастье и здоровье
И ему, и первенцу его.
ПОДРОСТОК С ТАЧКОЙ. Перевод Евг. Солоновича.
Найдя в себе любовь минувших дней,
Умей простить виновницу разрыва
И в глубине души самолюбиво
Обиду не лелей.
Все окна в доме настежь распахни —
И ты себя почувствуешь иначе,
Толпу увидев, моцион собачий,
Игру… А вот, взгляни,
Подросток в синем с тачкой впереди,
Дорогу звонким расчищая криком,
Несется под уклон в восторге диком, —
Попробуй не сойди
С дороги! Расступается народ
И непутевого парнишку хает.
А тот, чем громче тачка громыхает,
Тем веселей поет.
ПАОЛИНА. Перевод Л. Заболоцкого.
Паолина,
Друг мой Паолина,
Ты, как луч внезапный солнца,
Жизнь мою пронзила.
Кто же ты? Едва знакомый, я дрожу от счастья,
Лишь тебя увижу рядом. Кто же ты? Вчера лишь
Я спросил: «Скажите ваше имя, синьорина!»
Ты задумчиво взглянула,
Молвив: «Паолина».
Паолина,
Плод земли родимой,
Бестелесная и вместе —
Самая земная,
Ты родилась там, где только и могла родиться, —
В этом городе чудесном, где и я родился,
Над которым, что ни вечер, ходят в небе зори —
Свет божественный, обманный,
Испаренье моря.
Паолина,
Друг мой Паолина,
Что ты носишь в юном сердце,
Чистая душою?
О тебе мое мечтанье так же непорочно,
Словно легкий след дыханья в зеркале прозрачном.
Вся, какая есть, ты — счастье. Словно паутина
Ореол волос прекрасных. Девушка и ангел,
Друг мой Паолина!
КОНВОИРУЯ ПЛЕННОГО[157]. Перевод Евг. Солоновича.
[157].
Все в этот полдень как бы переснято
С гравюры старой. Площадь городка
Кишмя кишит мальчишками — пока
По ней веду я пленного солдата.
Вот из кафе выходит завсегдатай,
Вот булочник — на фартуке мука,
Вот нищий, но опущена рука —
Его шарманка не для супостата.
Прощаясь, пленный отдает мне честь;
Наверно, не поет он за работой,
Но в нем от Ганса Сакса что-то есть.
Он призван год назад, вооружен —
Старик сапожник, резервист, пехота,
Влекомый вихрем лист — другим вдогон.
СЛОВА. Перевод Евг. Солоновича.
Слова,
В которых человеческое сердце
Когда-то отражалось — обнаженное
И удивленное. Найти бы угол
На свете мне, оазис благодатный,
Где я бы мог слезами вас очистить
От лжи всеослепляющей. И тут же
Растаяла бы, словно снег на солнце,
Печаль, что вечно в памяти жива.
ТРИНАДЦАТЫЙ МАТЧ. Перевод Евг. Солоновича.
Разбросанные по трибунам люди
Не испугались холода.
Едва
Огромным диском за одной из крыш
Погасло солнце, тень легла на поле,
Размыла тени, предвещая ночь.
Внизу мелькали красные футболки
И белые футболки — в странном свете
Прозрачно-радужном. Холодный ветер
Мячом распоряжался. Фортуна
Натягивала на глаза повязку.
Приятно,
Приятно зябнуть с горсткой увлеченных,
Сплоченных,
Как жители последние земли —
Свидетели последних состязаний.
ТРИ ГОРОДА. Перевод Евг. Солоновича.
1. МИЛАН.
Среди туманов и камней твоих
Проходит отдых мой. Брожу по Пьяцца —
Дель-Дуомо. Вместо
Светил
Слова, едва стемнеет, зажигаются.
Ничто от жизни так не отдыхает,
Как жизнь.
2. ТУРИН.
В любимый круг холмов твоих вернусь,
На улицы протяжные, как звуки.
И сразу же в молчанье странном стану
Знакомых сторониться и друзей.
И только рядового Саламано
Найду, что самым был немногословным
И верным долгу, твой достойный сын.
Стареет он. Но ведь не он один.
3. ФЛОРЕНЦИЯ.
Я обожал когда-то этот город,
И вот я здесь, чтобы обнять поэта
Монтале (благородна грусть его).
Как сердце — каждый камень под ногами,
Как боль моя
Былая. Сожалений нет. Рождается
Созвездьем новым новая пора.
РАЗБИТОЕ СТЕКЛО. Перевод Евг. Солоновича.
Всё сразу. Непогода, свет погасший
И сотрясаемые громом стены —
Свидетели твоих былых злосчастий,
Разочарованных надежд и редких
Просветов. В том, что твой последний час
Еще не пробил, видишь ты отказ
Считаться с установленным порядком
Вещей.
И треск разбитого стекла
Звучит неоспоримым приговором.
РАБОЧИЙ КЛУБ. Перевод Евг. Солоновича.
Серпом и молотом украшен зал
И в пять лучей звездой. Но сколько боли
Во имя этих знаков на стене!
На костылях вступает на подмостки
Пролог. Взметнув приветственно кулак,
Он обращает к бедному партеру
Свой монолог, и весело подростки
И женщины его словам внимают.
Он, все еще робея, говорит
О братстве душ и речь кончает так:
«Ну, а теперь я следую примеру
Вояк немецких, то есть ретируюсь».
В антракте в погребке на дне стаканов
Вино алеет — верный друг, который
Разглаживает скорбные морщины
И раны зарубцовывает; люди,
Вернувшиеся из изгнаний страшных,
Ему, как мерзнущие — солнцу, рады.
Таков Рабочий клуб, таким поэт
В сорок четвертом этот клуб увидел,
В сентябрьский день,
Когда еще, хотя и реже, где-то
Гремела канонада и Флоренция
Молчала, погруженная в руины.
УЛИСС. Перевод Евг. Солоновича.
Я плавал в юности вдоль берегов
Далмации. Всплывали над волнами
Покрытые темно-зеленой слизью,
Прекрасные, как изумруды, рифы,
Где птица редкая подстерегала
Добычу. А когда прибой и ночь
Стирали их, тогда, вбирая ветер,
Бежали в море паруса, страхуясь
От неожиданностей. Нынче эта
Ничья земля — мои владенья. Порт
Огни готовит для других; меня же
По-прежнему в открытые просторы
Упорно гонят дух неукрощенный
И к жизни безотрадная любовь.
КАМИЛЛО СБАРБАРО. Перевод Евг. Солоновича.
Камилло Сбарбаро (1888–1967). — Экспрессионистские стихотворения первого, еще во многом подражательного сборника поэта «Смолы» (1911) фиксируют каменистый, выжженный солнцем пейзаж Лигурии, которому скоро суждено найти новое воплощение в лирике раннего Монтале. Если для Сбарбаро «Смол» характерна подчеркнутая отстраненность от внешнего мира, то в его следующей книге, «Пианиссимо» (1914), контраст между поэтом и окружающим миром значительно углубляется, отстраненность от реальности перерастает в отчуждение. «Пианиссимо», самую известную и бесспорно лучшую книгу Сбарбаро, критика называет «дневником чувств». Интонация книги импульсивна, подчас близка к трагической, эпитеты, окончательно утратив прежнюю описательность, отражают внутреннее состояние поэта. На русском языке творчество Сбарбаро представлено в сборнике «Итальянская лирика, XX век».
«Я жду тебя на каждом перекрестке…».
Я жду тебя на каждом перекрестке,
Погибель, я ищу тебя упорно
Во взгляде незнакомок…
Хожу по ярмарочным балаганам,
На женщину-змею гляжу с восторгом,
На девушку в полете…
Все ни за что отдать — какое счастье!
Какое счастье жизнь ни в грош не ставить,
Единственное наше благо в мире!
Умеющую весело смеяться,
Ту, что привычный мир молниеносно
Перевернет во мне движеньем бедер,
Молю, чтобы она мне повстречалась.
Точь-в-точь как нищий, что в сердцах швыряет
Весь капитал свой — мелкую монетку,
Я жизнь к ее ногам мечтаю бросить.
* * *
«Порой, когда иду один по солнцу…».
Порой, когда иду один по солнцу
И ласковыми светлыми глазами
Смотрю на мир, где все мне как родное
Сиянье дня, травинка, муравей, —
Внезапный холод подступает к сердцу.
Мне кажется, что я слепой, который
Над необъятною сидит рекой.
Внизу бегут стремительные воды.
Он их не видит, предаваясь солнцу
Нежаркому. И если звук воды
Ему порою внятен, он считает
Его обманом слуха.
Так, этой жалкой жизни обречен,
Я, как во сне, другую обретаю
И верю искренне, что этот сон
Неотделим от жизни.
И тут меня охватывает трепет,
Наивный страх ребенка.
Я сажусь,
Безмерно одинокий, у дороги,
Гляжу на мой убогий, жалкий мир
И глажу трепетной рукою травку.
* * *
«Ребенком, каждый раз как песня пьяных…».
Ребенком, каждый раз как песня пьяных
До слуха долетала среди ночи,
Я вскакивал, захлопывая книгу.
Я открывал окно в ночное небо —
И воздух ночи в комнату врывался,
Я свешивался из окна — и песню
Пил, как вино, забористое, злое.
Я оборачивался, и казалось
Мне бесконечно странным,
Что в доме ни одной зажженной лампы.
Не раз, бывало, на холодный шифер,
Под ветром, завладевшим волосами,
Под дождиком, секущим лоб и щеки,
Я проливал бессмысленные слезы.
Сейчас, когда упали эти чары, —
Теперь я знаю, как пересыхает
Поющий рот, наставленный на небо.
Но стоит и сегодня среди ночи
Проснуться мне от вечной песни пьяных —
От этих звуков, памятных для слуха,
Я с замираньем духа
Опять бегу лицо подставить ветру,
Который волосы мои растреплет.
Я рад бы снова горечь упоенья
Почувствовать и судорогу в теле,
Оплакать времена, которым нет
Возврата…
Но, конечно, я нелеп
С моими вымученными слезами.
* * *
«О море и о лете говорила…».
О море и о лете говорила
Дорога вдоль домов и вдоль садов,
Где в первый раз я ждал тебя открыто.
Под взглядом недоверчивым сошла ты,
Чуть нерешительная, с тротуара.
Теперь дорога нас не разделяла.
Ты даже глаз не подняла: сдавила
Запястье мне, и мы прошли немного
Бок о бок, не произнеся ни звука.
На этот раз меня влекла машина,
Стихия, шквал, обузданный насилу,
Навстречу месту первого свиданья.
Вот поворот — его узнало сердце,
И вихрем поворот берет машина,
И наконец ты сходишь,
Чуть нерешительная, с тротуара.
(Жестокая игра воображенья:
С подобною надеждой паралитик
Предстать на сцене жаждет в прежней роли.)
Одно мгновенье на воспоминанье,
Но что за сладкий шип меня пронзил!
Другого — столь же острого, как это, —
Ты не могла мне подарить блаженства.
Любовь! Любовь! И у меня на свете
Был кто-то.
Благословение тебе, дорога,
Где не мое — чужое состраданье
Впервые в жизни овладело сердцем.
* * *
«Чей-то ребенок шел…».
Чей-то ребенок шел, покачиваясь на слабеньких ножках и
Наклоняясь на каждом шагу за комочком грязи, как за цветком.
Он не понял, что я погладил его.
В его глазах было столько светлого удивления,
Что после мне казалось, будто я погладил ромашку.
ДЖУЗЕППЕ УНГАРЕТТИ.
Джузеппе Унгаретти (1888–1970). — Родился и вырос в Египте (отец будущего поэта работал на строительстве Суэцкого канала). В 1912–1914 гг. Унгаретти жил в Париже, где сблизился с Аполлинером, М. Жакобом, Пикассо. Во время первой мировой войны добровольцем вступил в итальянскую армию. В 1936–1942 гг. жил в Бразилии, возглавляя кафедру итальянской литературы в университете Сан-Паулу. Уже первая книга Унгаретти, «Погребенный порт» (1916), принадлежала перу зрелого мастера. Ее поэтика, как и поэтика вышедшей три года спустя «Радости кораблекрушений», была необычной для Италии. Ритмической единицей в стихах молодого поэта являлось слово, слово-образ. Частые продолжительные паузы подчеркивали значительность узловых слов, как бы обогащая их дополнительным содержанием и расширяя тем самым возможности аналогии в поэзии. Начиная со сборника «Чувство времени» (1933), стих Унгаретти становится традиционнее, пластичнее, напевнее. В годы гитлеровской оккупации Италии в творчестве поэта вновь, как некогда в «Радости кораблекрушений», решительно зазвучала антивоенная тема.
В 40-х годах издательство «Мондадори» начало публикацию полногособрания сочинений Унгаретти под общим заглавием «Жизнь человека». Основные книги, составившие «Жизнь человека»: «Радость», 1931; «Чувство времени», 1933; «Боль», 1947; «Обетованная земля», 1950.
Советскому читателю поэзия Унгаретти знакома по сборникам «Из итальянских поэтов» (М., 1958), «Итальянская лирика, XX век», «Ярость благородная. Антифашистская поэзия Европы» (М., 1970), а также по ряду журнальных публикаций.
ЛЕВАНТ. Перевод Евг. Солоновича.
Дымный
След умирает
В далеком круге неба
Стук каблуков и в такт хлопки
И пронзительные звуки кларнета
И море пепельное
Оно колышется нежное трепетное
Как голубь
На корме сирийские эмигранты танцуют
На носу одинокий юноша
В субботу вечером в это время
Евреи
Там на суше
Уносят своих покойников
По улиткообразной воронке
Переулков
Освещенных
Дрожащими
Огнями
Невнятная вода
Как шум на корме
Который я слышу
В тени сна
АГОНИЯ. Перевод Э. Ананиашвили.
Умереть как жаворонок
Задохнувшись от жажды
Перед миражем
Или как перепелка
Перелетев через море
И опустившись в кустах
Оттого что лететь
Дальше нет охоты
Но только не жить
Жалуясь и хныча
Как слепой щегленок
ПАМЯТИ МУХАММЕДА ШЕАБА. Перевод Евг. Солоновича.
Его звали
Мухаммед Шеаб
Потомок
Эмиров кочевников
Покончил с собой
Потому что лишился
Отчизны
Ему нравилась Франция
И он поменял имя
Он был Марселем
Но не был французом
Он давно не умел
Жить
В родном шатре
Где внимают напеву
Корана
Смакуя кофе
И еще не умел
Петь
Песню
Своего отчаянья
Мы проводили его вдвоем
Я и хозяйка гостиницы
Где мы жили
В Париже
В номере 5 на rue des Carmes
Безликом идущем вниз переулке
Он покоится
На кладбище Иври
В пригороде где каждый день
Напоминает
День
После закрытия
Ярмарки
И может быть я единственный
Знаю еще
Что был такой человек
В ПОЛУСНЕ. Перевод Евг. Солоновича.
Мне больно за изнасилованную ночь
Воздух точь-в-точь
Как кружево
Изрешеченный
Винтовочными выстрелами
Людей
Забившихся в окопы
Как улитки в свою скорлупу
Мне кажется
Будто тысячи колоссов
Тысячи задыхающихся
Каменотесов
Колотят
По булыжной мостовой
Моих улиц
И я слышу их
Не видя
В полусне
РЕКИ. Перевод Евг. Солоновича.
Я держусь за этот перебитый ствол
Забытый в этой рытвине
Мрачной
Словно цирк
До или после представления
И смотрю
На проплывающие
По луне облака
Сегодня поутру я улегся
В урну с водою
И как реликвия
Покоился в ней
Струи Изонцо[158]
Шлифовали меня
Как собственный камень
Я поднял
Свои жалкие кости
И пошел
Как акробат
По воде
Я сел на корточки
Рядом с моим грязным
От войны обмундированьем
И как бедуин
Подставил спину солнцу
Это Изонцо
И здесь мне стало
Очевидней что я
Податливая частица
Мирозданья
Я страдаю
Когда не чувствую
Внутреннего
Равновесия
Но незримые
Руки
Отмывшие меня
Мне дарят
Редкое
Счастье
Я вновь пережил
Эпохи
Моей жизни
Вот они
Мои реки
Это Серкьо
Из которого брали воду
Быть может две тысячи лет кряду
Мои деревенские предки
Мой отец и моя мать
Это Нил
Который видел
Как я родился и рос
И пылал от неведения
На бескрайних равнинах
Это Сена
Чья мутность
Все перемешала во мне
И я познал себя
Вот они мои реки
Увиденные в Изонцо
Вот она моя ностальгия
Что светится
В их глубине
Сейчас когда наступает ночь
И жизнь моя кажется мне
Соцветием
Теней
СТРАНСТВОВАНИЕ. Перевод Евг. Солоновича.
В засаде
В этих внутренностях
Развалин
Часами
Я волочил
Свой скелет
Заскорузлый от грязи
Как подметка
Или сморщенные ягоды
Боярышника
Унгаретти
Бедняга
Тебе достаточно иллюзии
Чтобы воспрянуть духом
Прожектор
Оттуда
Образует море
В тумане
САН-МАРТИНО ДЕЛЬ КАРСО. Перевод Евг. Солоновича.
От этих построек
Не осталось
Ничего
Кроме жалких обломков
От стольких
С кем я переписывался
И того
Не осталось
Но в сердце
Над каждым могильный крест
Мое сердце
Самый истерзанный край
ЯСНЫЙ ВОЗДУХ
После такого
Тумана
Одна
За другою
Открываются
Звезды
Вдыхаю
Прохладу
Открывшую мне
Цвет неба
Сознаю себя
Блуждающим
Образом
Вовлеченным
В бессмертный круговорот
СОЛДАТЫ. Перевод Евг. Солоновича.
Чувствуешь себя
Как на осенних
Деревьях
Листья
СИРЕНЫ. Перевод Евг. Солоновича.
Злокозненная сила,
Огонь любви на свежем пепелище,
Ты вновь меня выманиваешь в море
И впопыхах иллюзии тасуешь
И, не давая мне доплыть до места,
Меня в ущерб надежде
К другому сну склоняешь.
Подобно морю, если бы стихия
Сулила и скрывала
Прекрасный с виду остров,
Ты чередой обманов
Того, кто чужд отчаяния, губишь.
ВЕЧЕР. Перевод Евг. Солоновича.
С вечером по дороге
Прозрачной влаге
Оливкового цвета,
Которую пламя забвенья осушит…
Сквозь дым я слышу цикад и лягушек,
Где трепещут нежные травы.
НЕ КРИЧИТЕ БОЛЬШЕ. Перевод Евг. Солоновича.
Перестаньте убивать мертвых,
Не кричите больше, молчите, —
Ведь иначе их не услышать,
Ведь иначе самим не выжить.
Голоса их почти беззвучны,
Даже первые травы громче,
Зеленеющие счастливо,
Где не ступают люди.
СТУПАЮ БЕЗОТЧЕТНО. Перевод Евг. Солоновича.
Исхоженные улицы —
Ступаю безотчетно, словно робот, —
Когда-то, как по волшебству, спешившие
Навстречу бегу моему,
Не могут больше наполнять блаженством,
Являя постепенно,
В зависимости от моих запросов,
Отличия, что их живыми делают,
Испытывая нас.
Когда звенят, закат встречая, стекла, —
Но этот звон уже домам не в радость, —
Я останавливаюсь по привычке,
Разочарованный, чтобы забыться
В настороженном полумраке
В себя ушедших комнат,
Но нет среди разбросанных вещей,
Которые состарились со мною
Иль связаны с обломками
Воспоминаний, с чем-то дорогим, —
Нет ни одной
Такой, чтобы могла ко мне вернуться
И выжать слово — хоть одно — из сердца,
Каким бы ни был нежным голос вещи.
Так поняли протянутые руки —
Глаза во мраке,
Измученные тайными слезами,
Никчемный слух, —
Смиренную надежду,
Которая внушала Микеланджело
Презренье к незаполненным пространствам,
Возможности душе не оставляя
Для отступления, для раздвоенья.
Надежда эта, прорастая скрытно,
Давала крылья городу, неся
В себе немеркнущее небо, купол,
Отвергший смерть.
ВПРИПРЫЖКУ. Перевод Евг. Солоновича.
Вприпрыжку лапками переступают
И не умеют бодрствовать ночами.
Я говорю о голубях. Лазурь
(Сейчас на ней ни золота, ни сурика,
Она лежит на травке
Уютно, оставляет
Следы под стать улитке,
Из нор упорно гонит),
Как ни мани она,
Ни подползай, ни подбирайся ощупью,
Бессильна их отвлечь
От бешеных любовных излияний.
ЭУДЖЕНИО МОНТАЛЕ. Перевод Евг. Солоновича.
Эудженио Монтале (род. в 1896 г.). — Поэт, критик, переводчик. Лирика Монтале отмечена печатью трагического мироощущения. Импрессионистские пейзажи поэта (в творчестве раннего Монтале — пустынные у юлки Лигурии) как бы символизируют вселенную, в которой человек чувствует себя бесконечно одиноким. Слово Монтале тяготеет к многозначности, образ часто приобретает характер символа, предмет несет в себе метафору. Строй речи может быть как разговорным, так и возвышенным, в лексику нередко вводятся термины, неожиданные архаизмы. Стих в пределах одной пьесы может колебаться от традиционного до вольного, рифма — от точной до нарочито небрежной. Метафорическая иносказательность, «зашифрованность» созерцательной лирики Монтале (в двух последних сборниках она сведена до относительного минимума) в свое время дала основание критике говорить о Монтале как о поэте-герметике.
В 1925 г. Монтале поставил свою подпись под манифестом антифашистской интеллигенции. В 1938 г. за отказ вступить в партию чернорубашечников он был уволен с должности директора флорентийской библиотеки «Вьессо». Участвовал в движении Сопротивления. С 1967 г. за заслуги перед итальянской культурой Монтале — пожизненный сенатор. В 1975 г. поэту присуждена Нобелевская премия.
Основные поэтические сборники Монтале: «Панцири каракатиц», 1925; «Обстоятельства», 1939; «Финистерре», 1943 (рукопись книги была тайно переправлена в Швейцарию и издана в Лугано); «Буря и другие стихотворения»,1956; «Сатура», 1971.
На русском языке поэзия Монтале представлена в сборниках «Из итальянских поэтов», «Итальянская лирика, XX век», «Ярость благородная». Часть переводов выполнена для настоящего издания.
ЛИМОНЫ.
Послушай, именитые поэты
Разгуливают чинно среди растений
С названиями редкостными: бирючина,
Самшит, акант. А я люблю дороги вдоль канав,
Травой поросших, где мальчишки
Руками ловят в обмелевших лужах
Худых увертливых угрей,
Люблю тропинки, с каменистых склонов
Сбегающие к тростникам вихрастым
И через них ведущие в сады, под сень лимонов.
Еще милей, когда задорный щебет
Стихает, поглощенный синевою:
Отчетливей тогда над головою
В почти недвижном воздухе знакомый шелест веток
И аромат слышнее,
Бессильный оторваться от земли, и грудь полна
Тревожною истомой.
Здесь чудом, против всех законов,
Молчит страстей война,
Здесь даже нищих — даже нас — ждет наша доля богатства:
Благоухание лимонов.
Среди безмолвий этих, где предметы
Впадают в транс, и кажется, вот-вот
Поступятся своей последней тайной,
Порой нам обнаружить суждено
Просчет Природы,
Мертвую точку, мира слабое звено,
Запутанную нить, которая в конце концов приводит
Нас в сердце некой истины.
Еще не понимая ничего,
Наш разум ищет, примеряет, разобщает
Среди благоуханий,
Когда вечерний сумрак их сгущает.
При этой тишине любая человеческая тень,
Которой смотришь вслед,
Воспринимается как будто
Побеспокоенное божество.
Обман рассеивается — и время возвращает
Нас к шуму городов, где синева
Раздроблена и бесконечно далека.
К тому же землю изнуряют дожди; и над домами
Уже витает зимняя тоска,
Скудеет свет — и нет в душе просвета.
И вдруг однажды в приоткрытой двери
Среди деревьев во дворе
Нам предстает янтарный цвет лимонов,
Теплеет взгляд,
И, музыкой призывной
Сердце тронув,
Фанфары солнцегласные звучат.
* * *
«Не обращайся к нам за словом…».
Не обращайся к нам за словом, что выверить со всех сторон
Могло бы нашу бесформенную душу
И, огненно-шафрановою тушью
Начертано, звучало в полный тон.
Ах, человек, в себе уверенный вполне, —
Вот он ступает в дружеском обличье, тогда
Как тень его не знает безразличья
Лишь к раскаленным пятнам на стене!
Не жди, что мы открыть миры тебе поможем,
Будь рад нечетким звукам, как мертвая ветка, сухим.
Одно тебе сказать сегодня можем:
Чего в нас нет, чего мы не хотим.
* * *
«Полдня ореол в разгаре лета…».
Полдня ореол в разгаре лета,
Очертанья крон на камне сглажены,
И все чаще от изобилья света
Возникают белесые миражи.
Солнце высоко — не жди пощады.
Значит, вечер мой далековато.
Лучший час — в плену вон той ограды,
Создающей иллюзию заката.
Над рыбешкой, обреченной зною,
Зимородка жалкого паренье.
Добрый дождь — он там, за белизною,
Правда, радость ожидания — полнее.
* * *
«Однажды поутру в воздухе стеклянном…».
Однажды поутру в воздухе стеклянном
Я, обернувшись, может быть, увижу чудо:
Пустыню с голым дальним планом —
И испугаюсь, как пьянчуга.
Потом, как будто возникнув на экране,
Привычной ложью деревья, дома вернутся.
Но будет слишком поздно, и пройду в молчанье
Я среди тех, кого не тянет оглянуться.
* * *
«Свой флот бумажный не вверяй стихии…».
Свой флот бумажный не вверяй стихии,
Неопытный судовладелец:
Вынь из воды его — и спи, младенец,
Покуда носятся под парусами духи злые.
Тяжелый дым не расстается с крышей,
Бьет филин в желтых купах сада крыльями.
Миг, перечеркивающий долгие усилья,
То скажется в порыве ветра, то в тишине нависшей.
Разрыв, угроза рокового крена…
Строитель — перед крахом неизбежным.
Сейчас не страшно разве лодочкам из крема.
Швартуй свой флот в кустарнике прибрежном.
ДОРА МАРКУС.
I.
Это было недалеко от моста,
Ведущего к порту Корсини, там, где редкие
Гребцы, почти неподвижные, перебирают
Веслами. Ты мысленно видела другие места
И указывала рукой на другой,
Невидимый берег — твою настоящую родину.
Потом мы проплыли каналом до городской
Верфи, лоснившейся от копоти, —
Туда, где на глубоководье тонула
Ленивая, с короткой памятью весна.
И здесь, где древняя жизнь
С игрою красок ее
Исходит тоской по Востоку,
Твои слова переливались, как чешуя
Умирающей краснобородки.
Твоя тревога напоминает мне полет
Птиц, разбивающихся о вышки
Маяков вечерами в бурю.
Твоя нежность — та же буря, она бушует,
Хоть и знать о себе не дает,
Да и реже случаются ее передышки.
Не понимаю, где силы ты берешь,
Притом, что озеро сердца твоего
Зыбь равнодушия покрыла. Быть может,
Все — амулет, который ты хранишь
С пуховкой рядом и губной помадой:
Мышонок белый из слоновой кости.
Так и живешь!
II.
Теперь у себя в Каринтии,
Где мирты цветут над озерами,
Ты из окна глядишь,
Как пасется коза-трусиха,
Как над липами, между скатов
Крыш, поднимается вечер,
Как ложатся на воду вспышки
Веранд и пансионатов.
Сумерки стуком моторок
И криком гусей над водою
Будят воображенье.
И белые стены рассказывают
Историю светлых ошибок
Зеркалу, видевшему твое
Прежнее отраженье,
И зеркало впитывает ее,
Так что стереть — невозможно.
Легенда твоя! Но вспомни-ка:
Полны легендою той же
На больших золотых портретах
Взгляды мужчин с надменными
И жалкими бакенбардами.
И ее воскрешает вечер,
Едва заиграет гармоника,
А вечереет все позже.
Вот она. Вечнозеленый
Лавр для приправ остается.
Не меняется голос.
Далеко до Равенны. Яд
Источает жестокая вера.
Что нужно ей? Неизменны
Голос, легенда ль, судьба…
Но поздно. Чем дальше, тем позже.
* * *
«Увидеть бы тебя…».
Увидеть бы тебя — надежда эта
Все убывала;
И я тогда сказал себе: а вдруг
То, что тебя упорно заслонило,
Имеет нечто общее со смертью;
А может, в нем твое, но искаженное,
Сиянье вдалеке
(Меж портиками Модены
Лакея волочили два шакала
На поводке).
БУРЯ.
Les princes n’ont point d’yeux pour.
Voir ces grand’s merveilles,
Leurs mains ne servent plus qu’a nous persecutes.
Agrippa D’Aubigne. A Dieu[159].
Раскаты мартовских громов и пляска
Тяжелых градин на мясистых листьях
Магнолии
(Звенит стекло, и этот звук тебя
Застиг врасплох в твоем ночном гнезде,
Где золотом, которое потухло
На красном дереве и на обрезах
Переплетенных наново томов,
Горит все так же сахара крупица
В ракушке глаз твоих),
Слепительная молния,
Застигшая деревья и строенья
В той вечности мгновенья (мрамор, манна
И разрушенья), помнить о которой
Ты приговорена, которой больше
Мы связаны с тобою, чем любовью,
Гораздо больше, странная сестра,
И систры звон, грохот тамбуринов,
И холод рва, и шаркающий шаг
Фанданго, и над всем —
Хватающие руки…
Как тогда,
Когда ты уходила насовсем
И, облако волос со лба откинув,
Махнула мне — чтобы ступить во мрак.
СЛОВЕСНАЯ ДУЭЛЬ I.
1.
«Арсенио[160], — она мне пишет, — должна признаться,
Здесь, в этом кипарисном холодке,
Мне кажется, что время отказаться
От глупого отказа от иллюзий,
Навязанного мне тобою; что время
Расправить паруса и крест поставить
На epoche[161].
Не говори о черных временах — мол, показательно,
Что трепетные горлицы уже направились на юг.
Жить памятью и впредь — уволь, мой друг.
Нет, лучше хлад небытия, чем это
Твое оцепенение лунатика
Или проснувшегося слишком поздно».
(Письмо из Азоло.)
2.
Едва минула юность, я был брошен
До половины жизни в ад навозный —
Владенья Авгия.
Там не было волов, не обнаружил
Я и других животных;
Но в тесноте проходов, где навоза
Все прибавлялось, спирало дух от вони
И с каждым днем все громче, все неистовей
Звучали человеческие вопли.
Он не предстал ни разу.
Но выродки с надеждой ждали,
Готовя к смотру полные воронки,
Шампуры, вилы, смрадные рулеты.
Однако не однажды
Давал возможность Он полюбоваться
То краем мантии своей, то маковкой
Короны, оставаясь
За черным бастионом из фекалий.
С годами — да, но кто еще считал
Сезоны в этом мраке? — чьи-то руки,
Искавшие незримые просветы,
Вернули к жизни память: локон Джерти[162],
Кузнечик в клетке, Любины следы —
Последняя дорога, микрофильм
Барочного сонета, оброненный
Уснувшей Клитией, неугомонный
Цокот сабо (прислуга-хромоножка
Из Монгидоро);
Веер автомата от щелей
Нас отгонял, усталых землекопов,
Застигнутых на месте преступленья
Тюремщиками нечистот.
И наконец паденья шум — не верится.
Чтоб нас освободить, сведя подкопы
В один поток, взбешенному Алфею
Мгновения хватило. В ком надежда
Еще жила? Неужто отличалась
От грязи грязь? и новым смрадом легче
Дышалось? разве разнились паромы
От нужников? и этот грязный сгусток
Над трубами, быть может, был светилом?
И муравьи на пристани людьми,
Быть может, были без всяких скидок?
(Думаю, что больше
Ты не читаешь. Но теперь ты знаешь
Все обо мне —
Чем жизнь в неволе, чем потом была;
Теперь ты знаешь: мышь родить не может
Орла.)
* * *
«Без очков, без антенн…»[163].
[163].
Без очков, без антенн,
Горемыка букашка, носившая крылья
Исключительно в воображенье,
По листкам распадавшийся Ветхий завет,
Достоверный
Лишь отчасти, полночная чернота,
Вспышка молнии, гром — и потом никакого
Урагана. Неужто
Ты ушла столь стремительно, не проронив
Ни единого слова? Но разве у тебя еще
Были уста?
* * *
«Мы придумали для потустороннего мира…».
Мы придумали для потустороннего мира
Условный свист, чтоб не разминуться.
Я пробую воспроизвести его в надежде,
Что все мы умерли, не подозревая об этом.
* * *
«Америндийцы, если б ты…».
Америндийцы, если б ты,
Спасенная из омута, попала к ним,
В растительные дебри, куда все глубже
Они уходят, избегая белых, —
Небесные бы эти существа
Тебя увешали дарами потрясающими,
Хотя твои глаза и не раскосы.
Из поколенья в поколенье бегство
Их продолжается. Твое, недолгое,
Тебя из тьмы спасло или из острых
Когтей, в которых ты была заложницей.
И телефон отнюдь не обязателен
Теперь уже, чтоб говорить с тобой.
БЕЗ ОХРАННОЙ ГРАМОТЫ.
Не знаю, избежала ли Ханна Кан
Кремационной печи.
Она заходила несколько раз
В подвал, где я прозябал,
И я приглашал ее ужинать в другие «берлоги»,
Чтоб говорить о тебе.
Она утверждала, что вы подруги, я в это нимало не верил
И правильно делал за неимением вещественных доказательств:
Писем или верительных грамот.
Она тебя видела в лучшем случае
Мельком — со мной, без меня на Скарпучче
Или на склоне Святого Георгия с его золотым истуканом.
Она не обиделась. Позже я потерял ее из виду.
Если она угодила в пучину, сомнительно, чтобы и тут
Для нее оказался спасительным твой, для меня безупречный,
Passepartout[164].
ОПИСЬ.
Опись
Памяти потрепана: кожаный чемодан,
Носивший наклейки стольких отелей.
Уцелели считанные ярлыки, но и те
Я не трогаю. Их соскоблят носильщики,
Таксисты, ночные портье.
Опись твоей памяти
Ты дала мне сама накануне ухода.
В ней названия многих стран,
Даты приездов, отъездов и странная страница в конце
Со сплошными точками многоточий… как бы указывающих
На возможность невозможного «продолжение следует».
Опись
Нашей памяти нельзя представить себе
Разорванной на две части. Это единый лист со следами
Штампов, подчисток и нескольких капель крови.
Она не была ни паспортом, ни послужным списком.
Служить ближнему, даже мысленно, означало бы вечно жить.
САЛЬВАТОРЕ КВАЗИМОДО.
Сальваторе Квазимодо (1901–1968). — Поэт родился в Сицилии, и память о земле предков, покинутой им в юности, стала со временем лейтмотивом многих его стихотворений. Отдав в раннем периоде творчества дань описательности, Квазимодо постепенно пришел к иносказательной «поэтике слова», являющейся синонимом герметизма. Переводчик древнегреческих лириков, Квазимодо учился у них выразительности и лаконизму, сочетая эти уроки с опытом старших своих современников — в первую очередь, Унгаретти. В годы фашизма стихи Квазимодо были проникнуты тем «выстраданным молчанием», которое Ч. Павезе назвал характерным для лучшей итальянской поэзии того времени. Послевоенные сборники Квазимодо отмечены пафосом Сопротивления, гражданственностью, гуманизмом. В 1959 г. поэту была присуждена Нобелевская премия.
Основные стихотворные сборники Квазимодо: «Воды и земли», 1930; «Эрато и Аполлон», 1936; «И вечер в мгновенье ока», 1942; «День за днем», 1947; «Земля несравненная», 1958.
На русском языке творчество Квазимодо представлено двумя книгами: «Моя страна — Италия» (М., 1961) и «Избранная лирика» (М., 1967). Часть переводов выполнена для настоящего издания.
ВЕТЕР В ТИНДАРИ. Перевод Евг. Солоновича.
Тиндари, где твоя кротость?
С высоты своих гор, вознесенных над водами
Божественных островов,
Сегодня ты обрушиваешься на меня,
Пронизывая сердце.
Я поднимаюсь на поднебесные кручи
Навстречу сосновому ветру,
И спутников моих относит все дальше
Воздушным потоком —
Волну голосов и любовь,
И ты принимаешь меня
Наперекор разрыву,
Ты и боязнь теней и молчаний,
Убежища нежностей, некогда неизменных
И канувших в небытие.
Тебе неизвестна земля,
Где я увязаю все больше
И тайные слоги питаю:
Другое сиянье скользит по твоим окнам
В ночном облаченье,
И не моя покоится радость
На лоне твоем.
Изгнание — мука,
И вчерашние поиски лада
Оборачиваются сегодня
Преждевременным страхом смерти;
И каждая любовь — защита от грусти,
Бесшумная поступь во мраке,
Где ты меня вынуждаешь
Горький хлеб преломлять.
Тиндари — непреходящее чудо…
Друг меня будит нежный,
Чтобы я со скалы наклонился над небом,
И деланный страх мой — для тех, кто не знает,
Что за мною глубокий охотился ветер.
ЗЕМЛЯ. Перевод Евг. Солоновича.
Ночь — безмятежные тени,
Воздуха колыбель, —
До меня доносится ветер, если в тебе блуждаю,
И море с ним, и запах земли,
Где поют мои сицилийцы
Парусам, сетям,
Малышам, проснувшимся до рассвета.
Голые склоны, равнины под первой травою,
Ждущей стада и отары,
Ваша боль опустошающая — во мне.
ЗЕРКАЛО. Перевод Евг. Солоновича.
И вот на ветвях
Раскалываются почки,
И зелень — новее травы —
Ласкает сердце,
А ствол уж казался мертвым
И словно в промоину падал.
И все принимаю за чудо,
И я — та вода из тучи,
Что отражает сегодня в канавах
Самый синий кусочек неба,
Та зелень, что в почках таилась
Недавно — минувшей ночью.
ЦВЕТУЩАЯ ЖЕНЩИНА, ЛЕЖАЩАЯ НАВЗНИЧЬ В ЦВЕТАХ. Перевод Евг. Солоновича.
Тайное угадывалось время
В ожидании ночных дождей,
В том, как менялись облака,
Волнистые колыбели;
И я был мертв.
Город между небом и землею
Был моим последним приютом,
И меня со всех сторон окликали
Ласковые женщины из прошлого,
И мать, помолодевшая с годами,
Бережно перебирая розы,
Белейшими чело мое венчала.
Ночь была на дворе,
И звезды уверенно плыли
По золотым траекториям,
И ставшее преходящим
Настигало меня в моих укрытиях,
Чтоб напомнить об открытых садах
П смысле жизни.
Но меня угнетала последней улыбкой
Цветущая женщина, лежащая навзничь в цветах.
ОСТРОВ ОДИССЕЯ. Перевод Евг. Солоновича.
Решителен древний голос.
Внемлю эфемерные отголоски,
Забвенье глубокой ночи
В звездной пучине.
Из небесного пламени
Рождается остров Одиссея.
По тихим рекам плывут небеса и деревья
Между лунными берегами.
Пчелы, любимая, золото нам приносят:
Тайное время преображений.
В ПРЕДДВЕРИИ РАССВЕТА. Перевод Л. Мартынова.
Ночь кончена,
И растворяется луна
В лазури, уплывая за каналы.
Живуч Сентябрь здесь на земле равнинной,
И зелены ее осенние луга,
Как южные весенние долины.
Оставил я товарищей своих
И сердце схоронил в стене старинной,
Чтоб одиноко вспоминать тебя.
О, до чего ж ты дальше, чем луна,
Теперь, когда в преддверии рассвета
По мостовой зацокали копыта!
НА ПРУТЬЯХ ИВ. Перевод Евг. Солоновича.
Ну неужели нам до песен было,
Когда пришелец сердце попирал,
И мертвые на площадях лежали
На ледяной подстилке, и не молк
Скулеж детей и черный вопль несчастной,
Которая в распятом на столбе
Узнать боялась и узнала сына?
На прутьях ив, как мы и поклялись,
И наши лиры в эти дни висели,
Качались на пронзительном ветру.
СТИХИ, НАПИСАННЫЕ, БЫТЬ МОЖЕТ, НА МОГИЛЬНОМ КАМНЕ. Перевод Евг. Солоновича.
Мы здесь — вдали от всех, и снова солнце
Искрится медом в волосах твоих,
И нам последняя цикада лета
И вой сирены под ломбардским небом
О том, что живы мы, напоминают.
О, выжженные ветром голоса, чего хотите?
Все еще исходит тоска мучительная от земли.
ЦВЕТ ДОЖДЯ И ЖЕЛЕЗА. Перевод Евг. Солоновича.
Ты говорила: молчание, одиночество, смерть,
Как говорят: любовь, жизнь.
Это были промежуточные слова.
И ветер поднимался каждое утро,
И время цвета дождя и железа
Проносилось над камнями,
Над нашим замкнутым жужжанием проклятых.
До правды еще далеко.
Так скажи, человек, расплющенный на кресте,
И ты — с окровавленными руками,
Как я отвечу на все вопросы?
Сейчас, до того как другое безмолвие
Ворвется в глаза, до того как поднимется
Новый ветер и снова ржа расцветет.
СОЛДАТЫ ПЛАЧУТ НОЧЬЮ. Перевод Б. Слуцкого.
И креста, и молотка с Голгофы,
И святых воспоминаний детства
Мало, чтобы раздавить войну.
Ночью, перед самой смертью,
Сильные солдаты плачут
У подножья слов, давно известных,
Выученных в годы мира.
Многими любимые солдаты…
Слез безымянные потоки…
МАРАФОН. Перевод Евг. Солоновича.
Материнских стенаний в Марафоне,
Раздирающих душу воплей
Никто не услышал. Греция
Была свободна. Греция свободна.
В Марафоне остались солдаты,
А не тени, никаких тут храмов
Или алтарей. Могильный холм нетронут,
С высоты его видна Эвбея.
Червь истории приводит в мире
Все в согласие: на кургане — столб,
Под землею — мечи и шлемы.
И каким бы ни был Марафон,
Человек живет здесь в хижине, подобной
Будке часового.
Я НИЧЕГО НЕ УТРАТИЛ. Перевод Евг. Солоновича.
Я все еще здесь. Солнце кружит
За плечами, как ястреб, и земля
Повторяет мой голос в твоем.
И возобновляется зримое время
В глазах, открывающих все сначала.
Я ничего не утратил.
Утратить — значит отправиться
За диаграмму неба
Мимо течения снов, вдоль реки,
Полной листьев.
В ГОСТИ ЗОВУ ТОПОЛЯ. Перевод Евг. Солоновича.
Тень моя — на другой больничной стене.
Рядом цветы, и ночами в гости
Зову тополя и платаны из сада,
Деревья с опавшею листвою — не желтой,
А белой почти. Ирландки-монахини
Не говорят никогда о смерти,
Они, как бы влекомые ветром,
Не удивляются собственной молодости и доброте;
Удивленье приходит во время суровой молитвы.
Мне кажется, будто я эмигрант,
Бодрствующий в своих одеялах,
Спокойный, и что лежу на земле.
Быть может, я всегда умираю.
Но охотно прислушиваюсь к голосу жизни,
К словам, которых так и не понял,
Останавливаюсь на пространных гипотезах.
Конечно, мне никуда не деться,
Останусь предан жизни и смерти
Душою и телом
На всех возможных зримых маршрутах.
Время от времени меня обгоняет
Что-то легкое — терпеливое время,
Абсурдное безразличие, что проскальзывает
Между смертью и иллюзией
Сердцебиенья.
ЧЕЗАРЕ ПАВЕЗЕ.
Чезаре Павезе (1908–1950). — Прозаик, переводчик, автор двух поэтических книг. В течение ряда лет работал в издательстве «Эйнауди», во многом определяя независимую политику издательства при фашизме. В 1935 г. был арестован и приговорен к трем годам ссылки.
Сборником стихотворений «Работа утомляет» (1936) Павезе предвосхитил неореалистическое направление в итальянской поэзии. Глубокий знаток и пропагандист американской литературы, Павезе в своем стремлении приблизить поэзию к действительности ориентировался в большой степени на опыт Уитмена. Современник герметиков, он обратился к форме стихотворения-рассказа, наполнив лиро-эпическое повествование реалистическим и социальным содержанием. Впоследствии Павезе отошел от эксперимента своей первой книги, однако и поздние стихи поэта, опубликованные уже после его смерти, отличаются ощущением реальности и эпической тональностью.
В 1974 г. на русском языке вышел однотомник избранной прозы Павезе. Переводы отдельных стихотворений Павезе печатались в периодических ц-даниях, в сборниках «Из итальянских поэтов», «Итальянская лирика, XX век», «Ярость благородная».
УЛИСС. Перевод М. Алигер.
Этот старик одурачен, потому что завел себе сына
Слишком поздно. Нет-нет и скрестят они взгляды,
А ведь прежде хватало одной оплеухи. (Выходит старик
И сына, бывало, приводит, и держится за щеку сын
И больше не может поднять на отца глаза.)
Теперь ежедневно старик до ночи сидит у окна
И смотрит в окно на пустынную улицу,
По которой никто не приходит.
Сегодня мальчишка с утра убежал, он только лишь ночью вернется,
Придет, улыбаясь чему-то, не скажет, где ел и где пил.
Может быть, у него будут очень тяжелые веки,
П он молча завалится спать.
Башмаки его будут в грязи, хоть утро стоит голубое,
Но до этого лили дожди. Целый месяц лили дожди.
Струится прохладно в окно
Горький запах листвы. Но старик недвижим в темноте, он не спит по ночам, а хотел
Бы заснуть и забыться, как забывался когда-то, вернувшись домой издалека, когда
Он ругался и дрался, показывал, как он силен.
Сын, когда он вернется, уже оплеух не получит.
Он становится юношей, мальчик, — что ни день, то открытья,
И ни слова о них никому.
А улица смотрит в окно,
И всю ее видно в окно. Но мальчик по улице бродит
Целый день. Нет, он еще женщин не ищет
И уже не играет в песке. Каждый день он приходит домой.
Уходить же из дома у него есть испытанный способ,
Чтобы тот, кто остался, поверил навеки,
Что не может его удержать.
УТРО. Перевод Евг. Солоновича.
В приоткрытом окне — лицо человека
Над равниною моря. Легкие пряди
Вторят мягкому ритму бескрайнего моря.
Нет решительно воспоминаний на этом лица,
Только тень мимолетная, словно от облака.
Тень влажна и прохладна, подобно песку
В углублении пляжа в сумерках.
Нет решительно воспоминаний. Только шепот —
Голос моря, сделавшийся воспоминаньем,
В зыбких сумерках вялый прилив рассвета,
Становясь все прозрачнее, освещает лицо.
Каждый день — это чудо, вечное чудо:
Всходит солнце, пропитанное солью
И пропахшее живыми плодами моря.
Ни единого воспоминанья на этом лице.
Ни единого слова — печати, которая с прошлым
Роднила бы это лицо. Вчера
Из недолгого окна оно исчезло,
Как растает через мгновенье без грусти,
Без единого слова над равниною моря.
КУРИЛЬЩИКИ БУМАГИ. Перевод Евг. Солоновича.
Он меня затащил послушать свой оркестр. Он садится в углу
И кларино подносит к губам. Начинается адское нечто.
От безумного ветра снаружи и пощечин дождя
Гаснет свет то и дело. В темноте музыканты
Знай по памяти жарят, с волненьем борясь,
Танцевальный мотивчик. Мой бедный приятель
Из угла своего в рукавицах ежовых
Держит всех. А когда остальные смолкают,
Начинается соло: кларино в сухой тишине
Одинокой душою изливается, корчась.
Эти бедные медные трубы частенько страдают от вмятин, —
Ведь крестьянские руки на клапаны давят,
И упрямые лбы больше в землю глядят по привычке.
Кровь бедняцкая, ставшая жидкой водицей
От трудов непосильных, хлюпает в нотах,
И приятель с трудом управляет оркестром,
Он, чьи руки в борьбе за существованье
Огрубели от молота, от фуганка.
Он им старый товарищ, хоть ему только стукнуло тридцать.
Он из послевоенных, из тех, что росли, голодая.
Этот тоже искателем жизни приехал в Турин,
Но нашел лишь неправду. Пришлось научиться
Без улыбки работать на фабриках. Он научился
Мерить собственной лямкою голод других. Попытался
Успокоиться было, бродя по ночам, полусонный,
Бесконечными улицами, но увидел лишь тысячи ярких
Фонарей, освещающих несправедливость:
Сиплых женщин, пьянчужек, заблудшие пугала.
Он приехал в Турин зимой, среди грязного дыма
И огней заводских, он знал, что такое работа,
И ее принимал как мужскую нелегкую долю.
Если б каждый вот так же ее принимал,
На земле справедливость была бы. Завел он товарищей.
Он страдал от пространных речей, но с речами пришлось смириться.
И завел он товарищей. В каждом доме товарищи были.
Были целые семьи товарищей. Город
Ими был окружен. И мира лицо
Ими было покрыто. И столько отчаянья
Ощущали в себе эти люди, что впору бы мир победить.
Он играет сегодня сухо. А ведь этих людей
Он играть научил — одного за другим. Он не слышит дождя
И мигающих лампочек не замечает.
На суровом лице только боль. Он кусает мундштук.
Я такие же в точности видел глаза,
Когда с братом его, что печальней, чем он, лет на десять,
Ночи мы коротали при свете неярком.
Брат пытался освоить токарный станок-самоделку.
А приятель мой бедный судьбу поносил,
Приковавшую к молоту их и к фуганку,
Чтоб непрошеных двух стариков прокормить.
Неожиданно он
Заорал, что судьба непричастна к страданиям мира,
Непричастна к тому, что невзвидели света они:
Виноват человек. Было хоть бы куда податься,
Голодать на свободе, решительно бросить «нет!»
Этой жизни, пускающей в ход состраданье,
И любовь, и семью, и клочок земли, чтобы нас по рукам связать.
* * *
«Ты не знаешь холмов…». Перевод Евг. Солоновича.
Ты не знаешь холмов,
Где кровь пролилась.
Мы бежали, бросая
Имена и оружие.
Мы бежали — и женщина
Смотрела нам вслед.
Лишь один передумал
И остановился,
Сжав кулак. Он увидел
Пустынное небо —
И упал у стены.
Там теперь его имя
И кровавый лоскут.
Не дождется нас женщина
У подножья холмов.
* * *
«И тогда, малодушные…». Перевод Евг. Солоновича.
И тогда, малодушные,
Мы, что шепот вечерний любили,
И дома, и тропинки над речкой,
И сомнительный цвет абажуров
В заведеньях особого толка,
И подсахаренную боль,
О которой молчали, —
Мы живую нарушили цепь,
Вырвав руки из рук,
И умолкли, но сердце
Содрогнулось от крови.
Больше не было нежности,
И отчаянья не было
На тропинке над речкой:
Пробудившись от рабства,
Мы узнали, что мы одиноки,
И причислили к жизни себя.
* * *
«Нагрянет смерть с твоими глазами…». Перевод М. Алигер.
Нагрянет смерть с твоими глазами,
Смерть, что плетется за нами следом
С утра до вечера, глаз не смыкая,
Глухая, как совести давний укор,
Как дурная привычка. С твоими глазами.
Твои глаза — как напрасное слово,
Как возглас без звука, безмолвие.
Такими ты видишь их каждое утро,
Над одиноким своим отраженьем
Склоняясь. О дорогая надежда,
В тот день наконец-то узнаем и мы:
Ты — жизнь и ты — пустота.
На каждого смерть по-другому посмотрит.
Моя — на меня — твоими глазами,
И что-то случится, как будто расстался
С дурною привычкой, как будто увидел,
Как в зеркале мертвое всплыло лицо,
Как будто услышал я сжатые плотно уста.
Безмолвие. Мы погружаемся немо в пучину.
АЛЬФОНСО ГАТТО. Перевод Евг. Солоновича.
Альфонсо Гатто (1909–1976). — Поэт, искусствовед, художник. В 1938–1939 гг. редактировал с Васко Пратолини «Кампо ди Марте», журнал флорентийских герметиков. В ранних стихах поэта, при всей их лексической изысканности, нередко слышатся фольклорные интонации. Эмоциональность живописной лирики Гатто, насыщенной емкими метафорами, подчеркивается исключительной напевностью поэтической речи, определяющей разнообразие стиха в границах традиционных ритмов.
В 1936 г. поэт был арестован по политическим мотивам и отбыл шесть месяцев тюремного заключения. В годы немецкой оккупации антифашистские стихи Гатто распространялись в списках и в виде листовок, составив после войны сборник «Голова на снегу».
Основные поэтические книги Гатто: «Остров», 1932; «Стихотворения», 1939; «Любовь к жизни», 1944; «Флегрейская остерия», 1962; «История жертв», 1966; «Любовные стихотворения», 1973.
На русском языке поэзия Гатто представлена в сборниках «Итальянская лирика, XX век» и «Ярость благородная».
ВЕЧЕР В ВЕРСИЛЬЕ.
Когда пустынным морем на закате
Подчеркнут мол, лишь на железном скате
Одной из крыш еще мерцает вяло
Последний отблеск дня. Мало-помалу
И голос умолкает монотонный.
Смеркается. Прохладой напоенный,
Лежит простор нетронутой пустыней
Вдаль уходящих пастбищ, кроны пиний
Непроницаемы, внизу, под ними
Уже темно. Безмолвье все ранимей.
И ночь не за горами: лето, чары,
Танцующие на верандах пары
И невесомый месяц, льнущий к Альпам.
ВЕТЕР НАД ДЖУДЕККОЙ.
Ветра, ветра срывают мокрый парус
И, погружаясь в холод,
Умирают.
Кто, кто расправит их в разгаре
Пылких отплытий,
Когда звучанье моря громче,
Громче и реет на высоких реях утро?
Вся — женщина, вся — сила, вся — любовь,
И ало яблоко и желт кулич
Апрельской Пасхи…
Ты была огнем,
Огнем и солнцем, и за той кирпичной
Стеною — поле, а за полем — небо.
ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ.
Кариатиды вечерних деревьев
Возносят небо бульваров,
Римские экипажи по Аппиевой дороге
К катакомбам везут луну.
Все мы долго ходили под смертью.
Но жизнь не кончалась вечерами,
Отражаясь во взглядах, обращенных
К домам.
За пределами неба
Неужели на свет родниковый,
На голос колоколен, на голубые
Имена, — неужели сердце
Отзываться уже не будет?
О, среди мокрых веток на фоне домов и неба
Небо бульваров,
Прозрачное небо ласточек!
О человечный вечер, собравший
Усталых людей, добрых людей
За нашей приятной беседой
В мире без страха!
Неужели так и пребудет
Сердце в спячке,
Не обретет
Слова?
Не окликнет предметы, свет, живых?
Кто мертвых, кто побежденных разбудит?
СТРЕЛЯЛИ НОЧЬЮ.
Стреляли ночью, в тишине, я слышал,
Как мальчик опрокинулся на снег
И на снегу остался, безымянный.
И снова городу смотреть на мертвых
До посинения. Когда светает
И хлопья снега падают с фронтонов
И черных проводов, его руины
На женщину, подавленные, смотрят,
Что ищет непослушными губами
Незрячие глаза-ледышки сына
И волосы, подхваченные первым
Прозрачно голубым ручьем весны.
У ОКНА.
Среди раздолья облаков и моря
Ритмичный цокот — ксилофон лошадки;
Ребенок крутит ручку пианолы
С отсутствующим взглядом, как у ангелов.
Смерть — это время года, воздух, небо.
МАРИО ЛУЦИ. Перевод Евг. Солоновича.
Марио Луци (род. в 1914 г.). — После очевидного герметпзма первых сборников — «Лодок» (1935) и «Начал ночи» (1940) — поэзия Луци постепенно обретает все большую прозрачность выразительных средств. Лапидарность раннего Луци со временем уступает место повествовательному характеру стиха, на смену монологу нередко приходит диалог, обнажая связующие звенья между поэтом и действительностью, которую Луци воспринимает через призму католического миропонимания.
Перу Луци принадлежат также сборники «Тост», 1946; «Готическая тетрадь», 1947; «Первые плоды пустыни», 1952; «Честь истины», 1957; «Справедливость жизни», 1960; «В магме», 1963; «Из сельской глубины», 1965; «Наневидимых опорах», 1971.
Отдельные стихотворения Луци вошли в сборник «Итальянская лирика, XX век». Часть переводов выполнена для настоящего издания.
СКРЕЩЕНИЕ ТРОПИНОК.
Изгородь умолкла, запотели
Тутовые ягоды. Все ближе
Вечер — и все больше ты от тени
Отклоняешься своей, все дальше.
Еле-еле сквозь пыльную завесу
Различимы осы и собаки
И тропинки; подступает к лесу
Дымка, тонет яблоня в тумане.
Ручейки благоухают медом,
Выдохшейся мятой — под мостками,
Где проходишь ты, и солнце рядом,
И замедленные краски жизни.
Вслед шагам твоим, пренебрегающим
Мною, здесь сидящим беззаботно —
На запруде, что это стремится
Из груди моей бесповоротно?
В горле гор вот-вот застынет голос
Пастухов, над чащей дым струится,
Обретая в вышине лиловость.
В проседи росы мои одежды.
NUANCE[165].
[165].
Стрела — иль молния — пронзает город.
День обрывается, а там и вечер
В прожилках звуков овладеет мною
За гранью этой паузы недолгой.
Так ты была, безмолвная, за гранью
Моих кошмаров, боль моя, морщинка
На солнце, а потом ты возникала
В дверном проеме, заслоняя небо.
Рождалась из всего, из каждой формы,
Меня когда-то смутно оскорбившей,
Из каждой улицы, куда не смог бы
Я никогда уже ступить от страха.
Ты, неотступная, непоправимая,
И стены, и замедленные тучи,
И ласточки — все это образ мира,
Обрушившийся молча на меня.
* * *
«Опять любви светила проплывают…».
Опять любви светила проплывают
Над головами нашими туманными,
А мы сидим на разных берегах
В неведенье. И кажется естественным,
Что я тебя не видел никогда,
Что вдруг ты возникаешь в древнем свете.
Желанье? Сожаленье? И желанье,
И сожаленье, тот же горький жар.
Астральное вино пылало солнцем
Расплавленным, и ты пила глотками
И вглядывалась в слепоту пейзажа.
МРАК.
А вот как раз и час ночной, когда
Из глубины эфира проступает
Растрепанная голова земли,
Ее лицо, которое утешить
Должны мы нашим бдением печальным
И тусклым светом городских созвездий.
Рожденный в самых мрачных безднах ветер
Трясет засохшие сады, разносит
По улицам кошачьи вопли,
Расшатанными ставнями стучит;
Кто не боится выйти, видит ветер,
Мигающий фонарь, фигуры пьяных.
Поведай, что принес мне этот день?
Ведь ничего или немногим больше,
Чем открывает и скрывает
Под низким небом
Покров дождя открытый и закрытый —
Деревья, части города, повозки,
Людей, все тот же дождь, завесу пара.
ПОЛДЕНЬ, ВЕСНА.
Жизнь — что ни день, из года в год одна и та же —
Течет в домах покорно, угнетает
Легко впадающих в унынье. Ветер
Проносится по анфиладе улиц,
Где сушит стены, терзает мимозу.
Молчит торговец счастьем безучастный,
Мужчина без обеих ног отвязывает
Собаку от тележки, ждет;
И женщина, укутанная шалью,
Идет сквозь чащу фонарей, деревьев.
Там одиноко не кому-то,
А всем, там в одиночестве
Свой хлеб жуют — вошло в привычку. Мука
Сродни терпению,
Которое я наблюдал,
Пока хватило духу,
Немая — только смелые из смелых
Терн вынимают из венца.
Весна —
И долгий день холодный освещает
И губит первоцветы эфемерные.
MENAGE[166].
[166].
Я вижу ее, теперь уже не одну, иную, чем прежде,
В самой дальней комнате дома,
При ровном свете — без цвета, без времени, — сочащемся через шторы:
Подобрав под себя ноги, она полулежит на диване
Рядом с проигрывателем, включенным под сурдинку.
«Не в этой жизни, в другой», — сверкает ее взгляд, радостный
И вместе с тем уклончивый и словно бы оскорбленный
Присутствием человека, который сковывает ее и подавляет.
«Не в этой жизни, в другой», — отчетливо разбираю в глубине ее зрачков.
Эта женщина не только считает так, но гордо уверена в том,
И это ее не последнее достоинство
По таким временам, как наши, что и для нее не чужие.
«Ты, по-моему, знаком с моим мужем», — и он изображает кислую улыбку,
Столь же поспешную, сколь мимолетную, — дескать,
Он бы не против
Стряхнуть эту женщину, загнать назад, за стену тумана и лет;
И когда он направляется ко мне, у него вид человека,
С глазу на глаз, по-мужски, ставящего вопрос ребром.
«Есть возможность что-то извлечь из грез?» — вопрошает он,
Устремив на меня
Пустые белые глаза не то палача с какой-нибудь скорбной виллы[167],
Не то гуру[168].
«Например?» — И я смотрю на нее, чей светлый взгляд
Лучится нежностью ко мне, текучий и проницательный,
И, похоже, немного жалеет меня, угодившего в эти цепкие когти.
«Грезы души, достаточно зрелой, чтобы воспринять божественное,
Суть грезы, рождающие свет; но на более низком уровне
Они омерзительное проявление животной сути, и только», —
Прибавляет он
И вперяет свои странные глаза, которые если и смотрят, то я не знаю куда.
Я все еще не пойму, допрашивает ли он меня
Или сам по себе продолжает свой монолог без начала и без конца,
Не пойму и того, говорит ли в нем высокомерие
Или нечто черное и безутешное плачет у него внутри.
«Но зачем рассуждать о грезах?» — думаю я
И ищу для мысли убежища
В ней, находящейся здесь, в этом мгновении вселенной.
«А вы не грезите?» — вновь начинает он — как раз когда с улицы
Доносится остекленелый крик детей, от которого стынет кровь.
«Быть может, на грани между явью и грезой…» — лепечу
И слушаю корундовую иголку
В последних бороздках, без музыки, без щелчка.
«Не в этой жизни, в другой», — как никогда, ликует,
Изливая неудержимый свет,
Ее горделивый взгляд, афиширующий независимость мысли
От мужчины, чьи несет она, и может — с охотою, ласки и гнет.
ДЖОРДЖО КАПРОНИ. Перевод Евг. Солоновича.
Джордже Капрони (род. в 1912 г.). — Трогательное отношение к обыденным предметам и явлениям, верность автобиографическим мотивам, тонкая поэтическая техника, характерные для первого сборника Капрони, «Подобие аллегории» (1936), отличают и последующие книги поэта, испытавшего со временем некоторое влияние герметизма.
В дни второй мировой войны Капрони в рядах итальянской армии находился на Западном фронте, а после капитуляции Италии 8 сентября 1943 г. принял участие в движении Сопротивления. Книга 1952 г. «Стансы о фуникулере», с ее плачами-сонетами о войне, знаменовала собой новый этап в творчестве Капрони: «частная» биография поэта зазвучала в контексте общечеловеческой эпопеи.
Одной из самых своеобразных поэтических книг, написанных в XX в. по-итальянски, стал сборник Калрони «Семя слез» (1959), посвященный памяти Анны Пикки, матери поэта; книге свойственны мягкий лиризм, неподдельность чувств, искусная простота формы.
Стихотворения Капрони печатались в сборниках «Итальянская лирика, XX век» и «Ярость благородная». Публикуемые в томе перевода выполнены для настоящего издания.
ПОМНЮ.
Помню старинную церковь,
Пустынную,
В час, когда воздух оранжевеет
И каждый голос дробится
Под сводом неба.
Ты устала,
И мы устроились на ступеньках,
Как двое нищих.
А кровь бурлила
От удивления: на наших глазах
Каждая птица превращалась в звезду
В глубине неба.
В ТО ВРЕМЯ КАК, НЕ ПРОЩАЯ СЬ…
Песни твоей вечерней —
Сладостных звуков больше
Не дарит твой силуэт
Воздуху над балконом,
Расцветшему было надеждой,
Порукой…
Легкая песня
Смолкла перед разлукой:
В то время как, не прощаясь,
Мой день — не подав и знака —
Погружается в царство мрака
И сгущается в сердце мгла,
Повернулась ты и ушла.
Больше тень тобою не скрашена,
Ночь упала, просвета нет,
Восковая свеча погашена.
НА ЗАРЕ.
Моя родная, в баре на заре
Как тянется зима и как я зверски
Продрог — а ты все не приходишь! Здесь,
Где каменеет кровь, где, как ни лезь
Из кожи, не согреешься, — о, боже,
Что слышу я? Что там, на пустыре?
Какой трамвай то открывает двери
Безлюдные, то закрывает?.. Дрожи
Рука не знает, ну а если зубы
Дробь выбивают о стакан, быть может —
В колесах зло. Иначе почему бы?
Но чур, не говори, что всходит солнце
Вместо тебя, что из-за этой двери
Я смерти жду. Молчи, по крайней мере!
УТРЕННИЙ ВЫХОД.
Ловкая, как балерина,
По ступенькам сбегала Аннина,
Тоненькая, молодая,
И, в темноте оставляя
Легкое облачко пудры,
Выходила навстречу утру.
По улице шла — улыбалась,
И тень перед ней расступалась:
Было еще очень рано
(Чуть свет поднималась Анна).
Вся улица Амедео,
Услышав ее, просыпалась.
Нежный затылок детский,
Родинку над губою,
Пояс, стянутый туго,
Поступь ее вся округа
Знала — само собою,
Когда она приближалась,
К жизни все пробуждалось.
Тень перед ней редела.
Шла работница-королева,
Лицо покоем дышало
(А сердце чего-то ждало),
И все закоулки квартала
Дробь каблучков облетала.
ВИТТОРИО СЕРЕНИ.
Витторио Серени (род. в 1913 г.). — Первая книга Серени, «Граница» (1941), рожденная воспоминаниями и интонационно созвучная лирике Унгаретти, подкупала искренностью лирического монолога и свежестью образов. Вскоре после ее выхода поэт был призван в армию и отправлен сначала в Грецию, потом в Сицилию. Взятый в плен американцами в 1943 г., Серени провел два года в лагерях для военнопленных в Алжире и Марокко. Опыт оккупанта и пленника, опыт войны нашел отражение в «Алжирском дневнике» — сборнике 1947 г., в котором поэт сумел перекинуть мост между личной судьбой и судьбой миллионов своих современников. В «Человеческих инструментах» (1965) гражданские ноты «Алжирского дневника» зазвучали более отчетливо, придав многим строфам книги апокалипсический характер.
На русском языке творчество Серени представлено в сборниках «Итальянская лирика, XX век» и «Ярость благородная».
НОВЫЙ ГОД. Перевод Евг. Солоновича.
Светает над снегами.
На обратном склоне горы
Неведомый поселок,
Журча, посылает мне весну
От красных своих фонтанов,
От ручейков, родившихся на солнце;
Там высыпали женщины на снег
И распевают песню.
ИТАЛЬЯНЕЦ В ГРЕЦИИ. Перевод С. Шервинского.
Первый вечер в Афинах, долгие проводы
Составов по краю окраины
В длительном сумраке,
Груженных страданием.
Как соболезнующее письмо,
Оставил я лето на сгибе дороги.
Теперь мое завтра — море, пустыня,
Где не будет ни лет, ни зим.
Европа, ты видишь, Европа? Я кану,
Безвольный, в миф о себе, в быдло людское,
Твой беглый сын, не знавший другого врага,
Кроме грустной своей безнадежности,
Кроме нежности призрачной
Озер и листвы за шагами
Затерянными.
Зноем одет и пылью,
Иду я к отчаянью, к могиле песчаной
Навеки.
ДИМИТРИОС. Дочке. Перевод Евг. Солоновича.
К палатке подходит
Маленький враг
Димитриос, — неожиданный
Птицы тоненький щебет
Под стеклянным куполом неба.
Не кривятся детские губы,
Просящие хлеба,
Не туманится плачем
Взгляд, растворяющий голод и страх
В небе детства.
Он уже далеко,
Живчик, ветрячок,
Тающий в знойном мареве,
Димитриос — над скупою равниной
Едва вероятный, едва
Живой трепет,
Трепет моей души,
Трепет моей жизни
На волоске от моря[169].
ЭТИ ИГРАЮЩИЕ ДЕТИ. Перевод Евг. Солоновича.
Однажды простят нас,
Если мы своевременно уберемся.
Простят. Однажды.
А вот искажения времени,
Течения жизни, отведенного в ложные русла,
Кровотечения дней
С перевала перелицованной цели —
Этого, нет, они не простят.
Не прощается женщине лжелюбовь —
Милый взору пейзаж с водой и листвой,
Который порвется вдруг,
Обнажив
Гнилые корни, черную жижу.
«В самой любви не может быть греха, —
Неистовствовал поэт на склоне лет, —
Бывают лишь грехи против любви».
Вот их как раз они и не простят.
САБА. Перевод Евг. Солоновича.
Кепка, трубка и палка — потускневшие
Атрибуты воспоминанья.
Но я их видел живыми у одного
Скитальца по Италии, лежащей в руинах и во прахе.
Все время о себе он говорил, но никого
Я не встречал, кто, говоря о себе,
И у других прося при этом жизни,
Ее в такой же, даже в большей мере
Давал бы собеседникам.
А после 18 апреля[170], день или два спустя
Я видел, помню — он с площади на площадь,
От одного миланского кафе к другому,
Преследуемый радио, бродил.
«Сволочь, — кричал он, — сволочь», — вызывая на лицах
Недоуменье.
Он подразумевал Италию. Он поносил ее, как женщину,
Которая, желая того иль не желая,
Смертельно ранит нас.
ПЬЕР ПАОЛО ПАЗОЛИНИ.
Пьер Паоло Пазолини (1922–1975). — Поэт, прозагк, критик, кинорежиссер. Был одним из основателей и редакторов поэтического журнала «Оффичина» («Мастерская»), выходившего в Болонье в 1955–1959 IT. и сыгравшего заметную роль в возрождении эпических жанров и интереса к диалектальной, народной поэзии.
В творчестве Пазолини — поэта и прозаика, в его фильмах социальные мотивы тесно переплетались с глубоко личными. Отдав дань в созданных им поэмах классическим формам, Пазолини вместе с тем показал себя тонким экспериментатором, чутким к идеологическому содержанию слова, к его семантике и звучанию.
В поэтическом наследии Пазолини выделяются сборники «Прах Грамши», 1957; «Религия моего времени», 1961; «Поэзия в форме розы», 1964; «Возвышаться и предписывать», 1971.
ПИКАССО. (Из поэмы). Перевод А. Эппеля.
Несчастные десятилетья… Явность
Их несомненна, и она тревожит;
И старой боли не стирает давность —
Те годы перелистаны и прожиты
И кажутся случайными помехами,
Но память не мертва… Она итожит
Десятилетья молодого века,
Отмеченного яростью деяний,
В которых пламенеющими вехами
Сгорала Страсть в горниле злодеяний.
В домах пустынных страха повилика не
Требовала скудных подаяний,
Питаема цинизмом и безлика;
И обожженная Европа показала
Свое нутро. От мала до велика
Она взрослела, тоньше отражая
Рефлексы бури, Бухенвальда пытки,
Завшивевшие темные вокзалы
И черные фашистские казармы,
Подобные грузовикам, седые
Террасы берегов, и в пальцах прытких
У этого цыгана все менялось
В триумф позора, падаль пела сладко,
И этих лет ничтожество и малость
Пытались выразить тревогу и смущенье,
Подметить радость меж гниющих пятен,
И выполнять вменялось наущенье —
Безумным будь и будешь всем понятен.
СТРОКИ ЗАВЕЩАНИЯ. Перевод Евг. Солоновича.
Одиночество: нужно быть очень сильными, очень,
Чтобы любить одиночество; нужны крепкие ноги
Плюс исключительная выносливость; следует опасаться
Простуды, гриппа, ангины; не следует бояться
Похитителей или убийц; если случается шагать
Всю вторую половину дня, а то и весь вечер,
Нужно делать это, не замечая; присесть по дороге негде,
В особенности зимой: ветер дует над мокрой травой,
И камни среди помоек грязные и сырые;
Только одно утешение, вне всяких сомнений, —
Впереди еще долгий день и долгая ночь
Без обязанностей или малейших ограничений.
Плоть — предлог. Сколько бы ни было встреч,
Хоть зимой, на дорогах, предоставленных ветру,
Среди бескрайних мусорных свалок на фоне далеких зданий,
Эти встречи не что иное, как звенья в цепи одиночества;
Чем больше огня и жизни в изящном теле,
Которое, извергнув семя, уходит,
Тем холодней и безжизненней милая сердцу пустыня вокруг;
Это тело чревато радостью, подобно чудесному ветру, —
Не улыбка невинная или смутная наглость
Существа, что потом уходит; уходит и уносит с собою молодость,
Бесконечно юное; и вот что бесчеловечно:
Оно не оставляет следов, вернее, оставляет один-единственный,
Один и тот же во все времена года.
Юное существо, только-только ступившее на путь любви,
Олицетворяет собою жизненность мира.
Весь мир появляется вместе с ним; возникает и исчезает
В разных обличиях. Что ни возьми, все остается нетронутым,
И можешь обегать полгорода, но его уже не найдешь;
Свершилось, повторение — ритуал. Ничего не поделаешь,
Одиночество еще больше, коль скоро целые толпы
Ждут своей очереди: в самом деле, растет число навсегда ушедших, —
Уход — это бегство, — и завтрашний день нависает над нынешним днем
Долгом, уступкой желанию умереть.
Правда, с годами усталость уже начинает сказываться,
Главным образом вечерами, когда люди встают от ужина;
Вроде бы все в порядке, но еще немного, и ты закричишь или заплачешь;
И не дай бог, если бы все упиралось в усталость
И, быть может, отчасти в голод. Не дай бог, ведь это бы значило,
Что твое желание одиночества уже невозможно удовлетворить.
Как же все обернется для тебя, если то, что не выглядит одиночеством,
И есть настоящее одиночество, на которое ты не согласишься? Нет такого ужина,
Пли обеда, или удовлетворения в мире, какое бы стоило бесконечного шагания по
Нищим дорогам, где нужно быть несчастными и сильными, братьями собакам.
НИДЕРЛАНДЫ.
ГЕРМАН ГОРТЕР.
Герман Гортер (1864–1927). — Поэт, критик, политический деятель. Изучал филологию в Амстердамском университете. Некоторое время был учителем; с 1895 г. — профессиональный политический деятель. В 1907 г. стал основателем левой социал-демократической газеты «Трибуна». С 1909 г. — один из руководителей левой социал-демократической партии Нидерландов, В 1918–1919 гг. участвовал в основании Коммунистической партии Нидерландов. В. И. Ленин отзывался о Гортере как о марксисте и убежденном интернационалисте (см.: В. И. Ленин. Сочинения, т. 19, с. 186; т. 26, с. 190; т. 49, с. 104).
Литературную деятельность Г. Гортер начал в 1885 г. Первая изданная им поэтическая книга — поэма «Мей» (1889) — стала вершинным достижением пантеистического направления в нидерландской поэзии. Из последующих произведений наиболее известны сборник стихов «Школа поэзии» (1902) и поэма «Пан» (1912–1916).
«Весна идет, я слышу ее приход…». Перевод Е. Витковского.
Весна идет, я слышу ее приход,
И слышат деревья, трепещут деревья и небосвод,
И слышит воздух, небесный воздух,
Синий и белый, мерцающий воздух,
Трепетный воздух.
О, я слышу ее приход,
Я чую ее приход,
Но мне и страшно тоже,
Ведь эти желания, полные дрожи,
Теперь взорвутся —
Весна идет, я слышу ее приход,
Слышу, как волны воздушные рвутся
Вкруг головы кругами,
Я славил тебя наравне с богами,
Теперь ты пришла, и вот —
Словно святые угодники в воздухе — золото, золото,
Небо волнистым светом их одеяний расколото,
Высоко плывут на парусах
Над озерами воздуха статно,
В пресвятых одеяньях, — туда и обратно
С ясным покоем в глазах
Скользят тысячекратно;
Нежные, в одеждах из воздуха, на парусах,
Тысячекратно, туда и обратно скользят, качаясь
И отражаясь
В голубой горячей глади вод.
О, слышишь ли ты ее приход,
Своими пальцами тонкими
Осязаешь ли этот трепещущий водоворот,
Воздух весны, переполненный трелями звонкими?
Своими кудрями — ветер пьяный
В гуще сафьянной?
Своими очами голубыми, лучи струящпмп извне,
В горней вышине —
Свет в золотых канделябрах и небо, что им согрето?
Слышишь ли ты приход нежнейшего света?
Давайте смеяться до слез,
Смеяться, смеяться до слез,
Узнав ее, ту, что светит среди небесных роз,
Ту, что светает в рассвете дня;
Давайте плакать слезами,
Плакать, плакать слезами,
И она в этот день над нами
Тоже плачет, капелью звеня.
Вешнего света взлет,
Льет, беспрерывно льет,
Так давайте смеяться до слез,
Светло, как рассвет, и всерьез,
Это он, это он, вешний свет, летящий вдаль;
И ты, наша печаль,
Со слезами выходишь из глаз,
Каждая капля — круглый лунный алмаз
Или бледный хрусталь.
Мы словно два цветка,
Алых, стеблевысоких, среди весенних вод
И океана света, ниспадающего свысока, —
Это весны приход.
ЯН ХЕНДРИК ЛЕОПОЛЬД. Перевод Н. Мальцевой.
Ян Хендрик Леопольд (1865–1925). — Поэт, ведущий представитель нидерландского символизма. Для поэзии Леопольда характерно экспериментирование в области поэтической формы, им были сделаны первые серьезные опыты по перенесению античных форм стихосложения в нидерландскую поэзию. Поэзия Леопольда сыграла большую роль в формировании художественного мировоззрения у нидерландских поэтов 20–30-х годов.
Первый опубликованный сборник — «Стихотворения» (1898).
На русском языке печатается впервые.
СААДИ.
Над садом ночь. Под деревом высоким,
Под звездами ты возлежишь один.
О, горечь, что живет во тьме глубин:
Не знать себе цены, быть вечно одиноким.
Однако же тебя влечет в пути
Великое, в густой сени ветвей
В объятиях с возлюбленной своей
Готов к вершине счастья ты идти.
Взгляни, средь темных листьев так глубок,
Так бледен звездный свет цветов жасминных,
Взгляни на тайны, что цветут в глубинах,
Прими судьбой дарованный урок.
* * *
«Мой старый дом в конце аллеи…».
Мой старый дом в конце аллеи,
«Любовь, любовь, о, где осталась ты»,
Здесь все смелее
Кружится листьев влажный шелк.
Дождь однозвучный, монотонный,
«Любовь, любовь, о, где осталась ты»,
Насквозь пронзенный
Печалью, ветер вдруг умолк.
И дом теряет очертанья,
«Любовь, любовь, о, где осталась ты»,
Лишь бормотанье
На чердаке в ненастной мгле.
Там кто-то шепчет с листопадом,
«Любовь, любовь, о, где осталась ты»,
Но мертвым взглядом
Не вымолить покоя на земле.
ШЕПОТОМ.
В сонных объятьях
Затеряна, сонная,
В сонных желаниях
Тайно рожденная
Женщина страхов —
Медленный, тающий
Призрак, в тумане
Робко блуждающий.
Взоры безмолвные,
Долу склоненные,
Пальцы в смятении
Переплетенные;
Тихим мечтанием
Завороженная,
Странная, нежная
И отчужденная.
ГЕНРИЕТТА РОЛАНД ХОЛСТ ВАН ДЕР СХАЛК. Перевод Н. Мальцевой.
Генриетта Роланд Холст ван дер Схалк (1869–1952). — Поэтесса и политическая деятельница, одна из основательниц Коммунистической партии Нидерландов (1919 г.). Ей принадлежит таюге книга мемуаров, содержащая воспоминания о В. И. Ленине и Н. К. Крупской. Перу Генриетты Роланд Холст ван дер Схалк принадлежит одно из первых в нидерландской поэзии произведений, посвященных образу В. И. Ленина, — поэма «Ленин» (1920). Среди нидерландских поэтов-социалистов начала XX в. (Адам ван Схелтем, Герман Гортер, А. ван Коллем и т. д.) Генриетта Роланд Холст ван дер Схалк выделяется как тонкий лирик, откликавшийся вместе с тем на многие события общественной жизни.
Дебютировала в 1895 г. сборником стихотворений «Сонеты и стихотворения в терцинах». Написала ряд книг о писателях и политических деятелях (о Л. Толстом, Руссо, Розе Люксембург, Германе Гортере и др.).
СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР.
Ветр северный прошелся по дубровам;
Земля смягчилась; чуден вид небес;
Величье вспомнив прошлое, о новом
Давно мечтает опустевший лес.
По вечерам ничто не проницает
Тумана голубые кружева,
Но кое-где в домах еще мерцают
Развенчанные звезды рождества.
Так старый год, доверившись надежде,
Шагает к смерти, позабыв о том
Безумстве, гневе и любви, что прежде
Ему терзали душу день за днем.
* * *
«Зима, ужели в старом платье…».
Зима, ужели в старом платье
Ты к нам придешь, ужели ты
Готова слушать страшные проклятья
Босой и безработной нищеты?
Искрится ткань в витринах непорочно,
И горы угля черные растут —
Рука гиганта злого держит прочно
Их огнь сокрытый, и кремень, и трут.
Бредет толпа с горящими глазами
Меж городских светящихся реклам,
И голод их ожесточен слезами
И запахом помойных ям.
Меж злом и благом шов уж больно гладкий,
Границы нет — все целое, не часть.
Они застыли перед мертвой хваткой,
А там, где сила — там и власть.
ПИТЕР КОРНЕЛИС БАУТЕНС.
Питер Корнелис Баутенс (1870–1943). — Поэт и переводчик; преподаватель классической филологии. Широко известен в странах нидер-[андского языка своими переводами из античной поэзии. Основные сбор-гаки стихов: «Прелюдии» (1902), «Забытые песни» (1909), «Песни Изольды» 1919), «Интерлюдия» (1942). На русский язык переводится впервые.
ТЫ ДАЛЕКО… Перевод Е. Витковского.
Ты далеко, и ночи стали нищи
И ничего с собою не приносят:
С трудом найдя во тьме мое жилище,
Они под дверью подаянья просят.
Брожу ли я по тропам и полянам —
Немедля день возникнет на дороге
И требует, чтоб золотом чеканным
Я оплатил его товар убогий.
Но если странник постучится в дом
И скажет мне, что знает голос твой —
Пусть он войдет; мы вечер проведем
За трапезою памяти живой, —
Нам груз ее и сладок и тяжел —
Двум королям, утратившим престол.
ЯКОБЮС КОРНЕЛИС БЛУМ.
Якобюс Корнелис Блум (1877–1966). — Лирик и эссеист. Находился под большим влиянием французских символистов, был одним из лучших переводчиков Поля Верлена на нидерландский язык. Дебютировал сравнительно поздно, в 1921 г., сборником стихотворений «Томление». Во время второй мировой войны участвовал в движении Сопротивления. В 1958 г. издал весьма оригинальную антологию «Субъективный отбор», в которой основные поэты нидерландской, английской, немецкой и французской литератур представлены одним стихотворением на языке оригинала и которая стала ценным учебным пособием.
ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ. Перевод И. Мальцевой.
I.
Свет и солнце, это весне подобно,
Свежим утром шествие дня начнется,
Вечный воздух горних небес как чудо,
Рай для спасенных.
Над землей в прозрачном живом тумане
Мирно пашут лошади, как обычно,
Хоть гремят еще от раскатов грома
Близкие дали.
С этим нужно бережным быть и нежным,
Чтобы каждый с легкой душой проснулся,
Чтобы каждый помнил о том, что рабство
Невыносимо.
Нам дались так дорого годы рабства,
Мир, покой и радость этого утра,
И никто не ценит, как мы, свободы
В мире живущих.
II.
Дней, чредой бегущих, беспорядок!
Кто не верит, что придет весна?
В том от века не было загадок:
Мчит, сверкает, плещет — вот она!
Смерти, что цветет в полях пустынных,
Жизнь страшна могуществом святым;
Там, где рожь забрезжит на руинах,
И малейший стон недопустим.
НИКОЛАС ПЕТРУС ВАН ЭЙК.
Николас Петрус ван Эйк (1887–1954). — Поэт, прозаик, эссеист. Был в 20-е годы иностранным корреспондентом «Новой роттердамской газеты» в Риме и Лондоне. Основал в 1930 г. журнал «Лейдинг». С 1935 г. — профессор нидерландской литературы в Лейдене. Дебютировал в 1909 г. сборником стихов «Украшенный лабиринт». Помимо лирики, перу ван Эйка принадлежит эпическая поэма «Медуза» (1947). На русском языке печатается впервые.
ПЕРЕРОЖДЕНИЕ. Перевод Е. Витковского.
Кто страданием своим не обездолен —
Для того уже готово торжество:
Он не жалуется, ибо он не болен,
Он свободен, и не подчиниться волен
Горькой скорби, оковавшей жизнь его.
Не приемля ни сомненья, ни злорадства,
Твердо ведает, что взыскан он судьбой,
Что страданьем он введен в иное братство, —
Он наследует нездешнее богатство
И не вступит никогда в неравный бой.
Невредимым покидает он горнило
И спокойно исполняет свой урок;
И, сердечного не расточая пыла,
Он идет туда, где алое светило
Опускается в медлительный поток.
Там, где смерть венчает солнца путь высокий
Только твердость он воспримет у нее, —
Он провидит свет, блеснувший на востоке,
Он глядится в серебристые потоки
И приветствует земное бытие.
АДРИАН РОЛАНД ХОЛСТ. Перевод Е. Витковского.
Адриан Роланд Холст (1888–1976). — Поэт, прозаик, литературовед. По образованию — специалист по кельтской филологии. Учился в Лозанне и Оксфорде. Много путешествовал по Европе, побывал в Южной Африке, где способствовал установлению творческих контактов между нидерландскими писателями и писателями, пишущими на языке африкаанс (который происходит от нидерландского). В 1920–1934 гг. был редактором ведущего голландского литературного журнала «Де гиде» («Вожатый»). Поэзия Адриана Роланда Холста пронизана образами кельтской и греческой мифологии; «звезды», «ветер», «море» имеют в ней не только реальное, но и символическое значение.
Первый сборник, «Стихотворения», издал в 1911 г. В 70-е годы XX в. продолжал активную творческую деятельность; в 1974 г. выпустил книгу литературных мемуаров.
ЗИМНИЕ СУМЕРКИ.
Золотистых берегов полуокружье,
Голубой, непотемневший небосвод,
Белых чаек нескончаемый полет,
Что вскипает и бурлит в надводной стуже, —
Чайки кружатся, не ведая границ,
Словно снег над растревоженной пучиной.
Разве веровал я прежде хоть единой
Песне так, как верю песне белых птиц?
Их все меньше, и нисходят в мир бескрайный
Драгоценные минуты тишины,
Я бету вдоль набегающей волны
Прочь от вечности, от одинокой тайны.
Сединой ложится сумрак голубой
Над седыми берегами, над простором
Синевы, — о, знанье чуждое, которым
Песню полнит нарастающий прибой.
И все больше этой песнею объята
Беспредельно отрешенная душа,
Я бегу, морскою пеною дыша,
В мир неведомый, за линию заката.
Там, где марево над морем восстает,
За пределом смерти — слышен голос дивный,
Жизнеславящий, неведомый, призывный —
Но еще призывней блеск и песня вод.
Вечный остров, — о, блаженная держава,
Край таинственный, куда несут ладьи
Умирающих в последнем забытьи,
Где прекрасное царит, где меркнет слава, —
Я не знаю — это страсть или тоска,
Панихида или песнь над колыбелью,
И не жизнью ли с неведомою целью
Я уловлен у прибрежного песка?
Но зачем тогда забвенье невозможно,
Если нового постигнуть не могу?
Так зачем же помню здесь, на берегу,
Как я странствовал и как любил тревожно —
Я. рожденный неизвестно для чего,
В час мучительный, ценой ненужной смерти, —
И бегу я от великой круговерти
В тот же мир самообмана своего…
Где, когда найду ответ?.. но нет… Прохожий
Поздоровался со мной — и вслед ему
Я смотрел, пока не канул он во тьму, —
Может, в мире есть еще один, похожий?
Это был рыбак из старого села,
Он шагал среди густеющих потемок,
Волоча к лачуге мачтовый обломок —
Тяжела зима, и ноша тяжела.
Я пошел за ним, его не окликая,
Тяжесть песни нестерпимую влача,
О, упущенное время, — горяча
Рана совести во мне, — волна морская
Мне поет, но стал мне чужд ее язык
В этом крошечном и безнадежном круге,
Зимний ветер все сильней; с порывом вьюги
Я качнусь и осознаю в тот же миг:
Что в несчастье — исцеленье, и понятно,
Что тоска по дому здесь, в чужом краю,
Песней сделала немую боль мою, —
Это все, — и я уже бреду обратно
К деревушке между дюн, и сладко мне
Так идти и наблюдать во тьме вечерней,
Как в рыбацкой покосившейся таверне
Лампа тускло загорается в окне.
В ИЗГНАНИИ.
Я не смогу сегодня до утра заснуть,
Томясь по голосу прибоя в дюнах голых,
По гордым кликам волн, высоких и тяжелых,
Что с ветром северным к Хондсбоссе держат путь
Пусть ласков голос ветра в рощах и разделах,
Но разве здесь меня утешит что-нибудь?
Мне опостыло жить вдали от берегов,
Среди почти чужих людей, но поневоле
Я приспосабливаюсь к их смиренной доле.
Здесь хорошо, здесь есть друзья и нет врагов,
Но тяготит печать бессилия и боли
И горек прошлого неутолимый зов.
Я поселился здесь, от жизни в стороне,
О, море недоступное, нет горшей муки,
Чем смерти ожидать с самим собой в разлуке.
О, свет разъединенья, пляшущий в окне…
Зачем губить себя в отчаянье и скуке?
От самого себя куда деваться мне?
О, смерть в разлуке… О, немыслимый прибой,
Деревня, дюны в вечной смене бурь и штилей;
Густели сумерки, я брел по влажной пыли,
О павшей Трое бормоча с самим собой.
Зачем же дни мои вдали от моря были
Растрачены на мир с безжалостной судьбой?
Ни крика чаек нет, ни пены на песке,
Мир бездыханен, — городов позднейших ропот
Накрыл безмолвие веков; последний шепот
Времен ушедших отзвучал, затих в тоске.
В чужом краю переживаю горький опыт —
Учусь безмолвствовать на мертвом языке.
Всего однажды — невидимкой в блеске дня
Он за стеклом дверей возник, со мною рядом, —
Там некто говорил, меня пронзая взглядом,
И совершенством навсегда сломил меня.
Простая жизнь моя внезапно стала адом —
Я слышу эхо, и оно страшней огня.
Оно все тише, — заструился мрачный свет,
И в мрачном свете том, гноясь, раскрылась рана,
Переполняясь желчью, ширясь непрестанно.
Мир темен и в тоску по родине одет;
Неужто эта боль, как ярость урагана,
Со временем уйдет и минет муки след?
Гноится рана, проступает тяжкий пот,
Взыскует мира сердце, и достигнет скоро,
Созреет мой позор, ведь горше нет позора,
Чем эта слава — ведь живая кровь течет
Из глубины по капле — не сдержать напора —
Очищенная кровь из сердца мира бьет.
В больнице душной, здесь, куда помещено
Истерзанное сердце, где болезнь и скверна —
Тоска по родине, как тягостно, наверно,
Тебя на ложе смертном наблюдать —
Давно надежда канула и стала боль безмерна.
Разъединенья свет угас — в окне темно.
О, если б чайки белой хоть единый клик!..
Но песню волн пески забвенья схоронили,
Лишь гомон городов, позорных скопищ гнили,
До слуха бедного доносится на миг.
О, сердце, знавшее вкус ветра, соли, штилей…
Рассказов деревенских позабыт язык.
Мне опостыло жить вдали от берегов —
О, где же голос искупленья в дюнах голых?
Зачем же должен ветер в рощах и разделах
Будить опять тоску по родине… О, зов
Из дальнего Хондсбоссе… Голос волн тяжелых —
Лишь за стеклом дверей, закрытых на засов.
ЯН ГРЕСХОФ.
Ян Гресхоф (1888–1971). — Лирик, эссеист, литературный критик. Дебютировал в 1909 г. сборником «О празднике забытом». В 1939 г., незадолго до оккупации Нидерландов гитлеровскими войсками, уехал в Южную Африку. На родину больше не вернулся, в Южной Африке активно принимал участие в литературной жизни писателей-африканеров. Известен также как составитель нескольких популярных антологий нидерландской поэзии. На русский язык переводится впервые.
ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ. Перевод Н. Мальцевой.
Я так люблю, признаться, трех господ —
Походкой чинною, все трое в черном,
В холодном зимнем свете благотворном
Гуляют пастор, доктор и судья
Пред ратушею, как одна семья.
Но все пройдет.
По их одежде можно наперед
Судить о них — и бог тому свидетель,
Что в каждом правда, ум и добродетель:
Блаженны пастор, доктор и судья,
И мне по сердцу тройственность сия.
Но все пройдет.
Им нечему учиться у невзгод,
Они и так всегда и всюду правы,
Опасливы и либерально-здравы —
Ведь это пастор, доктор и судья, —
Что им любовь? Что пенье соловья?
Но все пройдет.
К цирюльнику они направят ход,
А после в кабачке на сон грядущий
По рюмочке, по две — для чести пущей
Пропустят пастор, доктор и судья;
Препятствия для них — галиматья.
Но все пройдет.
Я так люблю, признаться, сих господ —
Живые монументы, трое в черном,
В холодном зимнем свете благотворном;
Вещают пастор, доктор и судья,
Что глуп поэт, и нету в нем чутья.
Но все пройдет.
ХЕНРИК МАРСМАН. Перевод Н. Мальцевой.
Хенрик Марсман (1899–1940). — Поэт, ведущий представитель нидерландского экспрессионизма. Первый поэтический сборник («Стихи») выпустил в 1923 г. Много путешествовал по странам Европы, долго жил в Южной Франции. Погиб в самом начале гитлеровской оккупации Нидерландов (пароход, на котором он направлялся в Англию, был торпедирован немецкой подводной лодкой).
ВОСПОМИНАНИЕ О ГОЛЛАНДИИ.
Голландию вспоминая,
На беспредельных равнинах
Вгоку свободные реки,
На горизонте вдали
Редкие тополя
В полях пустынных
Машут плюмажами
У края бескрайней земли,
Утонули усадьбы
В могущественных просторах,
Колокольни, рощи, деревни
Разбрелись по травам,
Рассеялись,
Отразившись в озерах,
Церкви и вязы
В союзе величавом,
Низко висят небеса,
В тумане млечном
Медленно гаснет солнце
И первый блеск звезды,
Здесь в любой стороне
Слушают и боятся
С горем ее извечным
Извечный голос воды.
ПЕЙЗАЖ.
На лугу пасутся
Звери мирные;
По сверкающим озерам
Цапли важные вышагивают;
Выпи в топях;
Поймой луговой
В просторы чистые
Скачут лошади рысистые,
Вьются их хвосты волнистые
Над волнистою травой.
МАРТИНЮС НЕЙХОФ. Перевод Е. Витковского.
Мартинюс Нейхоф (1894–1953). — Поэт, драматург. Первый сборник стихотворений, «Странник», издал в 1916 г. Нейхоф — один из лучших нидерландских мастеров сонета (вообще очень популярного в голландской поэзии с конца XVI в.). Много занимался переводами английской драматургии (Шекспир). Имя Нейхофа носит литературная премия для зарубежных популяризаторов нидерландской литературы.
К НЕЗАПАМЯТНОМУ.
Служанка чашу держит на весу,
Сливая кровь овцы, убитой днем.
Хозяйка вяжет. Мясо над огнем
Шипит, роняя красную росу.
Мерцает зеркало в углу своем.
Волчица воет далеко в лесу.
Мой праотец в двенадцатом часу
В мешке волчонка принесет живьем.
Одно мгновенье медлим — я и он,
Проникнуты домашней тишиной,
Что обступает нас со всех сторон —
И пахнет мясом, струганой сосной,
И мимолетным счастьем озарен
Дом на поляне в гущине лесной.
ПРАЗДНИК ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ.
Июньский вечер засветил огни
И озарил зеркальные озера.
Наш столик посреди лужайки скоро
Совсем потонет в лиственной тени.
Стихи в душе — замена разговора.
Мы допиваем чай, и мы одни.
О хрупкая печаль, повремени,
Не привноси в гармонию раздора.
За озером уже бренчат гитары,
И весла мерно бьют по водной глади;
Целуются мечтательные пары,
Бредя туда, куда ведет дорожка, —
Нет, не любви — красивой позы ради,
И ради чувства — но совсем немножко.
ТУПИК.
Она была на кухне, у плиты.
Я наконец войти решился к ней.
Я ждал секунды этой много дней,
Задать вопрос стыдясь до дурноты.
Ей приходилось пристально смотреть
За кофием на маленьком огне.
И я сказал: пускай ответит мне,
О чем стихи писать я должен впредь?
Тут засвистел кофейник со свистком,
Пар повалил в открытое окно,
Стелясь над клумбами, над парником,
Вливая в кофий воду ручейком,
Чтоб гуща медленно легла на дно,
Она сказала тихо: «Все равно».
СИМОН ВЕСТДЕЙК.
Симон Вестдейк (1898–1971). — Поэт, прозаик, критик, самый популярный голландский писатель за пределами Нидерландов. До 1933 г. был корабельным врачом, потом стал профессиональным писателем. Перу Вестдейка принадлежит огромное творческое наследие: более семидесяти романов, многие из которых переведены на большинство европейских языков (в том числе на русский), рассказы, стихи, литературоведческие монографии. Первый сборник, «Стихотворения», вышел в 1932 г. В 1971 г., посмертно, издако исчерпывающее «Собрание стихотворений» в трех томах. Для поэзии Вестдейка характерно обращение к исторической тематике, к литературным формам минувших веков (многочисленные сонетные циклы, терцины, баллады по провансальскому канону и т. д.), с применением самых разнообразных средств поэтической речи; в нидерландском литературоведении творческий стиль Вестдейка называют «новым барокко».
Во время войны участвовал в движении Сопротивления (см. опубликованный у нас роман «Пастораль сорок третьего года»), был взят немцами в качестве заложника. В тюрьме написал свое главное поэтическое произведение— цикл «Дама и сокол» (150 сонетов).
Стихи Вестдейка на русский язык переводятся впервые.
СЛЕПЫЕ[171]. (По Брейгелю). Перевод Е. Витковского.
[171].
Они вдоль сел, как слизняки, ползут
И клянчат подаянье в каждом доме;
У них одна мечта: найти приют
И отоспаться на сухой соломе,
Под кровлею — пусть даже натощак.
Друг друга не узнать бродягам, кроме
Как по тряпью, да колокольца звяк —
Примета каждого, и вся ватага
Ползет, не разбредаясь ни на шаг.
Всего дороже в их руках — баклага,
Которую трактирщик им нальет
Вином прокисшим или чистой влагой…
Удача, если летом дождь пойдет:
Они стоят среди дороги, дружно
Воде бесплатной подставляя рот —
Просить о ней ни у кого не нужно!
Заслыша нечто в гущине дерев,
Они стоят, и слушают натужно,
И чмокают, в восторге разомлев.
Уверен каждый, что сосед — мошенник,
И оттого всегда их мучит гнев
Из-за пропажи хлеба или денег,
Ведь каждого страшит сезон дождей.
Но если не желает соплеменник
Прощупать тростью брод среди камней —
Они бранятся грубо и крикливо,
И вот, прозрев от ярости своей,
Они бросаются нетерпеливо
Вперед по склону, вниз, через бурьян —
И падают с отвесного обрыва,
Томясь от жажды, прямо в океан.
ГЕРРИТ КАУВЕНАР. Перевод В. Топорова.
Геррит Каувенар (род. в 1923 г.). — Лирик, прозаик, переводчик драм Бертольта Брехта. Дебютировал в 1941 г. сборником стихотворений «Утро весеннего дня». В послевоенные годы примкнул к поэтическому движению экснерименталистов и, наряду с Люсебертом, вплоть до начала 60-х годов (до конца существования «экспериментализма»), оставался наиболее видным его представителем. Известностью пользуется также проза Каувенара (роман «Я не был солдатом» и др.). На русский язык переводится впервые.
РЕЧЬ.
Речь это свойство птичье
А я летать не умею
Слишком я одинок во вселенной
Слишком я дом слишком камень
Слишком я каменная кладка
Или дух каменной кладки
Слишком я хочу на подоконник
В комнату лишенную окон
Скотством пахнет там и любовью
Чахнет там герань а не пахнет
Речь это свойство птичье
А я обойдусь словами
ЖИЗНЬ ВМЕСТО ЖИЗНИ.
То что мы даже не жили —
Умирали и зачинали убивали и нежили
Действовали и бездействовали
И витийствовали — причина
Озвученного молчания
Изнасилованная грамматика
Затисканный синтаксис: антика
Антилюбимая готтентотская готика
Читателя-невротика — причина
Сгоревшего замолчавшего звучания
Призрака жизни
Жизни —
То что мы даже не жили
Утоление голода
И холода говорение как горение
Каменный тюльпан для невесты вместо
Бесплатного тепла бесплотности
Натужная ненужность бесполезной
Поэзии — причина
Жизни вместо жизни
Речей вместо вещей
ЛЮСЕБЕРТ. Перевод В. Топорова.
Люсеберт (псевдоним, наст. имя — Любертюс Якобюс Свансвейк; род. в 1924 г.). — Поэт и художник. Ведущий представитель нидерландского кспериментализма, центральная фигура в нидерландской поэзии 50-х годов, авангардистские, эпатирующие буржуазию стихи Люсеберта в лучших своих образцах полны глубокого социального звучания и лиризма; ряд стихов на-гравлен против фашизма. Один из поэтических циклов Люсеберта написан по впечатлениям поездки в Народную Республику Болгарию. Первый поэтический сборник издал в 1951 г., с 1963 г. отошел от поэзии, в основном запишется живописью и графикой.
РЫБАК.
Под облаками проплывают птицы
А под волнами пролетают рыбы
А Рыбаку меж них спокойно спится
Порой волна до облака достанет
Порой оно в волне бесследно канет
Рыбак же спит как каменная глыба
ДВЕРИ ЗЕМОКРАТИИ.
В мужицкой берлоге звери не на пороге
Под кроватью в крови не жалуясь нежатся
Овцы в зело пенящихся шутках
Еж всчертополошенный осел разнузданный
Дети рядком под росток
Подросток из разовой камеры
Конь центра Цион ног о лакиро —
Вщик бес помощь ны —
Тики суть дурацкие подобия
Поэт умиротворенный
Мир опоэченный
Стихи по чтении рассчитаны на аплодисменты
Расчитаны с тихой чертовщинкой в голосе
В колосе судьи сосчитаны плевелы
Плевать мировому судье на всемирного
Все мирного сна добьются
Снадобья пьются своя бумажка ближе к телу
Телай свое дело теля
В телку целя
Мужичок мозжечок не переутруждает писанием
Мочи нет поводу ходить до ведру
Мужицких харь актер не передашь характер
Что шуманешь китайский дождь
О море свирепствующем в нашем море
О сухопутной гире встать в пять
Стать вспять ходить с фонарем под классом
Не нас видящим
Выйдь ищи потом пропитания
Мужицкая рубашка потом пропйтаннее
И лишь поэт дождь ветер и зерно
В смятении постигли: мир… неплох
РАНЕНЫЕ ЗЕМЛЯ, ВОДА И ВОЗДУХ.
1.
Зачем воде из ран велите вырваться?
В живой воде молясь живу наживкой
Поживой волн и раковин коварных
В кавернах дна маяк моя купальщица
Не виден рыбы скалятся зеркалятся
И глубь как люлька полная тепла
Нигде и никогда в таком нокдауне
Но из воды шампанской
Я вылетел как пробка
Шамански робко
Квелая луна расцвела вверху
Град моих слов разбомби сей град
Раны мои снег я в пуху в меху
Я во весь опор умчусь от ваших шпор
2.
В искусстве современного балета зависть
Заяц танцующий без билета
Пророк пророкочет про рок
Но плох прок от тебя пророк
Или почитают тебя и тама
Где не слыхать твоего тамтама?
Я промаслен ведь мой промысел
Быть замыслом и умыслом ножа
Очи бормочут невнятное уста
Спроста озирают невероятное
Надушенная надежда надышана
На зеркала и задушена воображением
По тем соображениям что рвота у врат
Врет про сезон сезама: закрыт
К БИОГРАФИИ.
Время обнаружено
Тихонькое с вечностью не связывалось
Набивало жизнью свою мусорную трубочку
Да сконфуженно попыхивало святостью все время
Любой покровитель у меня в чести
Он покупает слова которые я люблю
Настолько что решив его провести
Пахучие чернила на стенку лью
Я музицирую сухими ветвями
Я декламирую туманными днями
Я декларирую: мои любимые пауки
Взяли в штыки трудолюбивую пчелку
НОРВЕГИЯ.
УЛАФ АУКРУСТ.
Улаф Аукруст (1883–1929). — Душа человека, мятущаяся между богом и сатаной, между добром и злом, величием и ничтожеством — главная тема его стихов. Аукрусту принадлежат поэтические сборники: «Небесный сигнал» (1916), «Молоты Хеллома» (1926) и «Восход солнца» (1930, издан посмертно).
ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ. Перевод О. Чухонцева.
— Земная жизнь — надежда, и томленье,
И страсть, и свет любимого лица,
И радость слез, и горечь размышленья,
И одиночество, и страх конца —
Так светится, как липы в росной рани,
Так бьется, исходя, как кровь из лани,
И ждет могила гибнущих от ран,
И падает светило в океан.
— Увы, на нивах жизни — сорняки,
И ужас запустения велик.
Но помыслы людские высоки,
А время человека — только миг.
Но он спокоен и в тщете великой,
Покуда видит мыслью ясноликой
И жизнь живую на могильном дне,
И небо в океанской глубине.
ГОЛАЯ ВЕТКА. Перевод И. Бочкаревой.
Вот ветка — ягоды как кровь.
Другая — кипень цвета.
Того, кто хочет знать любовь,
И та манит и эта.
Одна сияние лила,
Нарядна и душиста.
Но кровь другая отдала,
От холода безлиста.
Одна блистательно светла,
Другая пылко тлеет:
Кровь без остатка отдала,
Лишь ягоды алеют.
Возьми и эту, что цветет,
И с ягодами тоже.
Немного времени пройдет —
Узнаешь, что дороже.
УЛАФ БУЛЛЬ. Перевод Г. Плисецкого.
Улаф Булль (1883–1933). — Поэт и прозаик. Для его творчества характерно стремление непосредственно передать изменения, происшедшие в психологии человека XX в. и связанные с такими научными открытиями, как теория Эйнштейна, проникновение в строение атома и т. п. Вместе с тем его стихам присуще почти классическое совершенство и законченность. Булль издал сборники стихотворений: «Стихи» (1911), «Новые стихи» (1913), «Стихи и рассказы» (1916), «Звезды» (1924) и др. На русский язык стихи Булля переводятся впервые.
ВЫЧЕРКНУТОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ.
Из решетки зачеркнутых строчек
Смотрит в упор на меня
Слабое стихотворение,
Лишенное тайны цветения,
Мелодии и огня.
Рожденное высохшим лоном,
Мыслью, взошедшей в мозг…
Не в лучшее время дня я,
Склады свои пополняя,
Его напичкал, чем мог.
Дергается от мигрени
Хилое тело стиха,
Колотит его лихорадка,
Нудно бормочет тетрадка,
Песня, как губы, суха.
Бьется лбом об решетку —
Зачатое без любви,
Одно из самых опасных,
Опасней песен прекрасных,
Текущих в моей крови.
ЗВЕЗДНЫЕ ВОРОТА.
Для сердец усталых ненавистен
Вечных звезд венок.
Взор мой, обращенный к звездным высям,
Сир и одинок.
Этот жесткий свет на грани мира,
Блеск тщеславных звезд,
От земли, ото всего, что мило,
В миллиардах верст!
От змеиных жал не уклониться,
Не отвесть очей!
Не мигают звездные ресницы
В темноте ночей.
Над юдолью горя взгляд бесслезный
Холоден, как ложь…
Этот полог вересковый, звездный —
На пустырь похож!
День встает, и ясный свет струится
Надо всем, что есть.
Но и утонув на дне денницы,
Звезды — здесь!
Звездный створ ворот, молю: откройся,
Боль мою умерь!
Дай душе, отринув беспокойство,
Кануть в смерть!
ХЕРМАН ВИЛЬДЕНВЕЙ.
Херман Вильденвей (1886–1959). — Поэт и прозаик. Ведущий среди поэтов, обновивших норвежскую поэзию в период 1910-х годов. На творчество Вильденвея оказали влияние Гейне, Кнут Гамсун и шведский поэт XIX в. Густав Фрёдинг. Ранним стихам Вильденвея присуща свежесть, юношеская открытость миру, в его зрелом творчестве преобладают углубленные размышления о тайнах природы, поиски смысла жизни. Основные поэтические сборники Вильденвея: «Костры» (1907), «Призмы» (1911), «Ласка» (1916), «Огненный оркестр» (1923), «Филомела» (1946), «Полигимния» (1952) и др. Поэт издал также сборники рассказов, роман, пьесы.
ВСЕ ПРИХОДИТ КО МНЕ. Перевод Пат. Булгаковой.
Все приходит ко мне — я принимаю так много,
Но всего невозможно вместить и понять одному —
Малую часть я беру из того, что лежит у порога, —
Мир приходит ко мне, как я прихожу к нему.
Знанье приходит ко мне, науки сияют,
Приходит предвиденье. Горы заманчивых книг
Дразнят меня, манят к себе, вопрошают:
«Хочешь ли знаний? Ведь ты так мало постиг».
Непостижимо строенье твое, мирозданье.
Нет у познанья покоя и нету границ.
Я беру спектроскоп. Проникает сознанье
В тайны миров элементарных частиц.
Все, что я вижу, в мысли моей отразится.
Должен увидеть я жизнь в капле воды,
Мертвые звезды, чей свет из пространства стремится.
Мыслью своей продлеваю я жизнь звезды.
Символом смерти темнеет дерево тиса.
По жизни смысл для того, в ком разум живет, —
Быть для неба прозрачным колодцем Нарцисса,
В котором его отраженье, любуясь собой, цветет.
Все приходит ко мне, все хочет быть отраженным.
Но скажи, природа, что будет с тобою, когда
Рухнет колодец и с ликом самовлюбленным
Мутною станет, а после иссякнет вода?
Мертвой увидишь себя, а ты ведь не в силах
Мое равнодушье снести, как я выношу твое.
Больше не будут в венцах звёзды сиять златокрыло
Их и меня отражало сознанье мое.
О, Нарцисс Вселенной, твои отраженья —
Иллюзии только в моих погасших глазах.
Расскажи, как мечтательна смерть в мгновенья,
Когда лилии-звёзды меркнут в иных небесах!
АРНУЛЬФ ЭВЕРЛАНН. Перевод Пат. Булгаковой.
Арнульф Эверланн (1889–1968). — Поэт, прозаик, критик. Ранние стихи Эверланна пронизаны настроениями фатализма, смирением перед властью судьбы. Впоследствии стихи стали менее герметичны — в них вошла жизнь современного города, антицерковная и антикапиталистическая тематика. Во время оккупации Норвегии стихи Эверланна на антивоенные и антифашистские темы распространялись нелегально по стране. Поэт был арестован и провел несколько лет в тюрьмах и концентрационных лагерях. Стихи, написанные им в этот период, составили изданный в 1945 г. сборник «Мы все переживем». Поздней лирике Эверланна свойствено утверждение гуманизма, чувство свободы и национального достоинства.
Основные поэтические сборники Эверланна: «Сто скрипок» (1912), «Хлеб и вино» (1919), «Мир принадлежит тебе» (1934), «Красный фронт» (1937), «Рыбак и его душа» (1950) и др.
ВЕЧЕРНЯЯ ПЕСНЬ РЫБАКА.
Как чайка над водою добычу стережет,
Так ненасытно сердце своей добычи ждет.
О берег год за годом
Бессильно бьет прибой.
И гибнет род за родом,
У скал найдя покой.
Как в бурю ищут гавань большие корабли,
Так ждут тебя объятья отеческой земли,
Ждут зяби и зимовье,
И новый дом простой.
Есть и у птиц гнездовье,
И у морей покой.
ДОСКА НА ДОМЕ.
Одна только в жизни радость
Иронии неподвластна.
Счастье дарить отраду
Одно с душою согласно.
А рядом черная дата.
За опозданье расплата.
Ты поздно пришел — утрата
Печальная невозвратна.
Часы наполняют сутки,
А дни наполняют год.
Смириться должен рассудок.
Кто плача жизнь проживет?
ГУННАР РЕЙСС-АНДЕРСЕН. Перевод И. Бочкаревой.
Гуннар Рейсс-Андерсен (1896–1964). — Основное содержание его поэзии — любовь, каждодневная жизнь, отношения между людьми. Так же как Арнульф Эверланн, Рейсс-Андерсен был поэтом Сопротивления в оккупированной Норвегии. Эмигрировав в Швецию, писал стихи о жизни в изгнании.
Издал сборники стихов: «Год посвящения» (1921), «Свадьба сына конунга» (1926), «Стихи о борьбе из Норвегии» и «Норвежский голос» (1943 и 1944 соответственно; изданы в Швеции), «Невидимый парус» (1952), «Год на берегу» (1962) и др., а также роман «Новая жизнь» (1925).
ДВА РЕБЕНКА.
Играли два ребенка на берегу мирском.
Над сушей было солнце, и мрак — на дне морском.
Играли два ребенка со временем-песком.
И белые мгновенья меж пальцами текли.
Что ж мы в песке искали, да так и не нашли?
И вот уж мрак возобладал над пламеневшим днем.
И вот мужчина с женщиной ушли во мрак вдвоем.
Играть ли будем в звезды, как некогда — с песком?
ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ.
Пожелтела стерня, урожай уже снят.
Стало слышно, как лес и ручей говорят.
Под осенней звездой
Тишина и покой.
Верно, вышел господь, словно странник простой,
Доглядеть, всяк ли в мире доволен и рад,
И великим и малым с любовью сказать:
«Посмотри, какова благодать!»
И крестьянин стоит, своей трубкой дымит,
Размышляет, что время неспешно кружит
От осенних щедрот
До весенних хлопот,
И о жизни, что сеет, о смерти, что жнет,
Что коров его стельных господь охранит, —
И он гладит одну из них, будто она
Благодатью освящена.
Стихло в каждом дворе, сгасло в каждом окне.
На востоке все небо в зарничном огне.
И в долине ручей
Напевает нежней,
Словно люльку качает в лад песне своей:
«Быть за ноченькой — дню, за зимою — весне.
Спи, земля, под туманами угомонись
И под радугой пестрой проснись».
НУРДАЛЬ ГРИГ.
Нурдаль Григ (1902–1943). — Поэт, драматург, прозаик, публицист. В творчестве Грига отразились его наблюдения над жизнью моряков, портового люда, впечатления от многочисленных путешествий. Многие его стихи посвящены социальной тематике и открыто публицистичны. Нурдаль Григ — друг Советского Союза, провел в нашей стране два года (1932–1934 гг.); антифашист, отдавший жизнь в борьбе с гитлеровской Германией.
Ему принадлежат поэтические сборники: «Вокруг мыса Доброй Надежды» (1922), «Камни в потоке» (1925), «Норвегия в наших сердцах» (1929); посмертно изданы сборники «Свобода» и «Знамя» (оба в 1945 г.) и «Надежда» (1946). Написал также несколько пьес и романов. В 1932 г. издал книгу «Умершие молодыми», где собраны его работы об английских поэтах, начиная с периода романтизма до первой мировой войны. В СССР изданы книги Нурдаля Грига «Избранное» (включая роман «Корабль идет дальше»), 1956) и «Избранная лирика» (1969). Его стихи переводили А. Ахматова, Н. Асеев, М. Петровых.
НОЧЬ НА БЕРЕГУ. Перевод Д. Самойлова.
Гавань утехой грубой
Скалит мне пьяный рот.
Драки, попойки, ругань —
Дым коромыслом идет.
В кубрике, как в борделе,
Много часов подряд
Пьют, бранятся и делят,
Жрут, ножами грозят.
Линии татуировки
На обнаженных телах,
И портовые воровки
Клянчат монеты в углах.
Воздух тяжелый и пьяный.
Стон и дыханье — пока
День сероватый, туманный
Не отрезвит моряка.
ПЕСНЬ ВАРДЭ. Перевод А. Ахматовой.
Открытый сразу всем ветрам,
Темнеет остров голый.
Деревьям нет надежды там,
Там не летают пчелы,
Там нет и карликов-берез,
Но меж камней нагих возрос,
Трудясь без жалоб и без слез,
Против судьбы восставший.
Здесь всё — трудов жестоких плод,
Все добыто борьбою,
Здесь трудно человек живет,
Измученный нуждою.
Но шторм еще не вся беда, —
В порту ждет строгий фохт всегда,
Что парней грабит без стыда…
Но люди те — норвежцы.
Здесь жизнь страны сбережена
Рабочими руками,
Их силою живет страна,
Те люди — чести знамя.
Когда во мраке тонут дни,
В их окнах светятся огни,
Народу дороги они,
Их жизнь — страны надежда.
Большой ты куплена ценой,
Страна, где блещет море,
Где берег светится морской
И синь в ребячьем взоре.
Там, на просторе высоты,
Похожи птицы на цветы…
Страна надежд, прекрасна ты
Под солнцем полуночным.
ГЕРД. Перевод А. Ахматовой.
Бомбы выли близко,
Тлел огонь, синея,
Шел я коридором,
Полным темноты.
Шел к тебе, к любимой,
В поисках тревожных,
Издали я слышал:
Тихо пела ты.
Песню напевала
Ты не из упрямства,
Но ее, подслушав
В тайной тишине,
В сокровенной глуби
Молодого сердца,
Ты ее запела
Словно в полусне.
Песнь неслась родная
И в тебе лучилась
Радостным и светлым
Мужеством своим.
Соки корневые
Так восходят к кронам
И несут им силу,
Поднимаясь к ним.
Ты крылом казалась
Чайки над волнами,
Вереском, растущим
На холме крутом,
Песней птиц весенней,
Зимней тишью леса…
Для меня была ты
Чистым родником.
ЛУЧШИЕ. Перевод Г. Плисецкого.
Смерть вспыхивает, как зарница,
И при яркой вспышке видней:
В этой жизни погибель —
Участь лучших людей.
Сильные, чистые сердцем,
Больше всех дерзавшие сметь,
Они прощаются с нами
И, не дрогнув, уходят в смерть.
Живущие правят миром,
Толпа пребудет всегда,
Всегда пребудут деляги,
Второсортные господа.
А лучшие мрут в застенках,
Лучших ведут на расстрел,
У лучших грядущего нету,
Гибель — их вечный удел.
Бессильно мы чтим их память.
Души наши пусты.
Если ты лучшего предал —
Всю жизнь угрызаешься ты.
Умирая, они не плачут,
Не знают, что значит страх,
Их кровь не уходит в землю —
Течет в отважных сердцах.
Знавшие их при жизни
Стократ богаче других —
Звавшие их друзьями,
Отцами звавшие их.
Ими движется жизнь земная,
Ими держится Человек.
На могиле их выбьем надпись:
Мы пребудем вовек!
ИНГЕР ХАГЕРУП.
Ингер Хагеруп (род. в 1905 г.). — Поэт, прозаик, переводчик, автор детских книг. Ее стихам присущ тонкий психологизм, основанный на глубоком знании человеческой души. Кроме собственно лирики, Хагеруп пишет стихи, непосредственно отзывающиеся на общественные события. Ей принадлежат поэтические сборники: «Я заблудилась в лесу» (1939), «Дальше» (1945), «Седьмая ночь» (1947), «Ты хотел, чтоб я была такой» (1950), «Лето» (1971). На русском языке выходила книга Хагеруп «Стихотворения» (1956), среди переводчиков — А. Ахматова, Н. Павлович, М. Петровых.
Ингер Хагеруп переводила стихи Маяковского; в 1949 г. приезжала СССР.
КАРИН БОЙЕ[172]. Перевод А. Ахматовой.
[172].
Мы все умрем когда-нибудь, подруга!
Тебя не знала я, но ты со мной,
Тебя я вижу здесь — в купе вагонном,
Ты словно снег, что прячет пламя Юга…
Тревожная в молчанье напряженном.
Упсальская равнина — мрак ночной,
И звезды над тобой летят высоко.
Была ты в мире самой одинокой.
Подруга! Всех людей конец известен,
Но будет жить души высокий строй.
Боль раскаленная твоих прекрасных песен
Тебя навеки сделала живой.
НУРДАЛЬ ГРИГ. Перевод А. Ахматовой.
Лишь ночь мильоны покрывал
Бросала над брегами, —
Свою Норвегию ласкал
Он нежными руками.
И что-то властное опять
Его сюда манило,
Он знал, что значит тосковать
И горевать о милой.
В пылу борьбы и под огнем
Он был необычайным,
Мечтанье это стало в нем
Его оружьем тайным.
Сколь юным сердце быть должно,
Чья страсть неодолима, —
Позор и честь несет оно
Своей стране родимой!
Сколь юным сердце быть должно
И трепетным сверх меры,
Когда огонь несет оно
Чистейшей твердой веры!
Во времени ль огонь горит?
Пока пылает пламя —
Норвегия боготворит
Его, как чести знамя.
ПРЕЛЮДИЯ. Перевод А. Ахматовой.
Нам светофор мигает: «Стоп!..»
Сквозь мокрый майский день
По свежим лужам мы одни
Бредем среди листвы густой,
Где разукрасила сирень
Лиловые огни.
И под дождем уютно нам,
И странно мы молчим.
Мы знаем — время не пришло,
Но нашим сладостно сердцам
Услышать, как звучит светло
Любви безмолвный гимн.
* * *
«Ты хотел, чтоб милой безделушкой…». Перевод А. Ахматовой.
Ты хотел, чтоб милой безделушкой
Стала я по прихоти твоей,
Шуткой и забавою за кружкой
Между веселящихся друзей.
Но слова иные сердце знает,
Что пылают и сгорают в нем…
Сколько женщин молча погибает
Под любви безжалостным ярмом!
Это сердце ты берешь рукою,
Безделушку милую губя…
Ты хотел, чтоб стала я такою,
Я и отрекаюсь от себя.
ЯБЛОНЯ ЦВЕТЕТ. Перевод Г. Ратгауза.
Здесь, в краю пустынном и безлюдном,
Яблоня сияет цветом чудным.
За утесом, за кустом безмолвным,
Здесь тропа уводит прямо к волнам.
Яблоня, ты веешь свежим летом.
Нет людей. Зачем жалеть об этом?
Никого? Но что промчалось мимо,
Еле слышно, еле выразимо?
Легкий шаг? А может, со скрипеньем
Дверь открылась? Или по ступеням
Сходит женщина? Она когда-то
Здесь жила так празднично и свято.
Яблоневый цвет был так же пышен.
Жаль, что голос мне ее не слышен.
Знала ли она любовь и жалость?
С прошлым ли расстаться не решалась?
Стала призраком в цветенье белом сада,
Потому что жить уже не надо?
Чей же плач мне чудится, чуть слышный?
Плачет дождик? Шелестят ли вишни?
ПОРТУГАЛИЯ.
КАМИЛО ПЕСАНЬЯ. Перевод М. Самаева.
Камило Песанья (1867–1926). — Окончил юридический факультет Коимбрского университета. В 1894 г. уехал в Азию; более тридцати лет прожил в Макао, был адвокатом, преподавал в лицее. Занимался изучением китайской цивилизации и литературы (в 1944 г. опубликована книга «Китай»). На родине Песанья был известен при жизни мало. Сборник его стихов «Клепсидра» был издан в Португалии лишь в 1922 г. (переиздан в 1945 г.). Но все же стихи К. Песаньи, одного из лучших португальских поэтов-символистов, оказали значительное воздействие на развитие отечественной поэзии, — в частности, на входивших в группу «Орфей» Фернандо Песоа и Марио де Са-Карнейро. Тонкий лирик, поэт воспроизводит целую гамму человеческих чувств, нередко придавая своим стихам романтическую окраску. Его стихам свойственны музыкальность и тщательная отделка, точность и простота стиля.
На русский язык переводится впервые.
СОНЕТ.
Зацвел розарий белый средь зимы,
В ладони ветра лепестки роняя.
Ты чем-то озабочена, родная?
Чего с тобой недосказали мы?
Куда мы?.. Так тепла твоя рука…
Когда свой взгляд ты на меня бросаешь,
Он робок и печально вопрошающ…
А там, над нами, замки-облака.
Как он победоносен, снег венчальный,
Какой он мир соорудил хрустальный,
Как хрусток под ногой его настил.
И все же то не снег идет над нами,
А кто-то вдруг осыпал нас цветами
И волосы твои фатой покрыл.
ЕЩЕ ОДИН.
Образы, вы протекли по сетчатке,
Не закрепись, не оставив следа;
Так, вырываясь из недр, без оглядки,
Бойких фонтанов струится вода.
Грустные ваши хранит отпечатки
Озеро меж тростников: навсегда
Там вы застыли в угрюмом порядке.
Вас потеряв, я заброшен сюда.
Что мне в глазах моих зрячих! Отныне
Полое зеркало тусклый мой взгляд,
Зеркало перед бескрайней пустыней.
Линии ливня по стеклам скользят,
И на стене — моей тени унынье
В мерном движенье вперед и назад.
* * *
«Мое сердце — окованный медью ларец…».
Мое сердце — окованный медью ларец.
Как мне скинуть проклятую ношу?
Мое сердце — окованный медью ларец.
Отвезу его в море — и сброшу.
Я пойду на корабль и матросом наймусь.
Я родимую гавань покину.
Пусть ларец и свинцовую скорбь, его груз,
Похоронит морская пучина.
Я на два оборота закрою замок,
Чтоб надежнее бездна хранила
То письмо твое, краткое, в несколько строк,
Что о свадьбе твоей возвестило.
Только знай, что с собой я платок твой увез,
Тот заветный, с каймою зеленой.
А когда у меня не останется слез,
Я швырну его в омут соленый.
ЖОАН ДЕ БАРРОС.
Жоан де Баррос (1881–1960). — Демократ и республиканец, активно занимался политической и просветительной деятельностью. Был действительным членом Лиссабонской Академии наук (с 1913 г.), редактором ряда журналов радикальной направленности. Творческое наследие Барроса обширно. Ему принадлежат драматические поэмы «Антей» (1912) и «Сизиф» (1924), сборники стихов «Жажда» (1914), «Ритм экзальтации» (1922), «Скромное изобилие» (1951) и др. Пантеизм, языческие настроения, характерные для португальской поэзии времен Первой республики (1910–1926 гг.), обретают в стихах Барроса свое наивысшее воплощение; его творчество исполнено веры в прогресс, в силу разума, в потенциальную энергию народа.
На русский язык переводится впервые.
МЕРТВАЯ ЧАЙКА. Перевод М. Самаева.
Мертвую чайку волны качали.
Горсточка плоти тиха и бела.
А так недавно пространство пронзали
Сгустком энергии эти крыла.
Ныне они, распластавшись, застыли,
Но изгибается гордая грудь
Так, словно хочет в последнем усилье
Воздух полета еще раз вдохнуть.
Глаз ее даже смерть не закрыла,
Кажется, можно в них угадать
Мир ее, вольный и мощнокрылый,
Тот, что в полете дано увидать.
Но в расцветающий полдень весенний
В сердце мое не вмещается грусть
О сокрушенном вдруг упоенье
Жизнью и вольным движением… Пусть!
Пусть… Все равно с этой горестной плотью
Не уничтожила чья-то рука
Радость судьбы, обнимавшей в полете
Солнце, и море, и облака.
Участь такую и мне бы, и мне бы
Так, утоляя к скитаниям страсть,
Вволю испив густо-синего неба,
С лёта на грудь океанскую пасть.
Только не возле шумного порта
И не у кромки черствой земли —
Чтобы меня в океан распростертый,
Пеной играя, валы унесли.
Ведь не случайно, с рассудком в раздоре,
Кровь моя вольному морю родня,
Шумом и ритмом всегда ему вторя.
Да и не кровь в моих жилах, а море,
Море само наполняет меня.
ФЕРНАНДО ПЕСОА.
Фернандо Песоа (1888–1935). — Провел детство в Южной Африке. Вернувшись в 1905 г. в Португалию, поступает на юридический факультет Лиссабонского университета. Имя Песоа связано с созданием группы «Орфей» (1915 г.), что явилось важной вехой на пути обновления поэтического языка. Песоа беспощадно высмеивал бутафорские атрибуты ультраромантизма, развенчивал мнимые кумиры, издевался над буржуазной моралью. С большой художественной силой он отразил сомнения и противоречия своего поколения. Чтобы выразить различные стороны своей многогранной натуры, поэт как бы разделил себя на несколько индивидуальностей и начал писать не только под собственным именем, но и под псевдонимами (Алваро де Кампос, Алберто Каэйро, Рикардо Рейс); каждый из этих придуманных поэтов имел свой творческий облик. Богатство и совершенство поэтического языка, виртуозное владение как традиционным стихом, так и верлибром, скрытая, еле уловимая ирония— таковы отличительные черты этого самого значительного после Камоэнса португальского поэта. Среди поэтических сборников Ф. Песоа можно назвать «Послание» (1934), «Стихотворения Фернандо Песоа» (1942), «Стихотворения Алваро де Кампоса» (1944), «Стихотворения Алберто Каэйро» (1946), «Оды Рикардо Рейса» (1946) (последние четыре сборника — посмертно).
ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА. Перевод А. Гелескула.
Бредут куда-то мимо,
И песни их пусты,
И неосуществимы
Недолгие мечты.
Они ведь только мимы
И бедные шуты.
Тенями в лунном круге
Сошлись и разбрелись,
Не зная друг о друге,
Не подымая лиц.
Потерянные слуги
Умерших небылиц!
Поют осиротело
Пропетое не раз.
Их горло оскудело,
И недалек их час.
И вечности нет дела
До них — как и до нас.
* *
«Нелегко, когда мысли нахлынут…». Перевод А. Гелескула.
Нелегко, когда мысли нахлынут,
И над чуткой ночной тишиной
Небосводом к земле запрокинут
Одиночества лик ледяной.
На рассвете, бессонном и грустном,
Безнадежней становится путь
И реальность бесформенным грузом
Вырастает и давит на грудь.
Это все — и не будет иного.
Млечный Путь, погруженный во тьму,
И рассветы, и сумерки снова,
И сознанье, что жить ни к чему.
(Это все — и не будет иного.
Но и звезды, и холод, и мрак,
И молчание мира немого —
Все на свете не то и не так!)
АВТОПСИХОГРАФИЯ. Перевод А. Гелескула.
Пути у поэта окольны,
И надо правдиво до слез
Ему притворяться, что больно,
Когда ему больно всерьез.
Но люди, листая наследье,
Почувствуют в час тишины
Не две эти боли, а третью,
Которой они лишены.
И так, остановки не зная
И голос рассудка глуша,
Игрушка кружит заводная,
А все говорят — душа.
* * *
«Котенок, ты спишь, как дома…». Перевод А. Гелескула.
Котенок, ты спишь, как дома,
На голой земле двора.
Твоя судьба невесома —
Она ни зла, ни добра.
Рабы одного уклада,
Мы все под ее рукой.
Ты хочешь того, что надо,
И счастлив, что ты такой.
Ты истина прописная,
Но жизнь у тебя — твоя.
Я здесь, но где — я не знаю.
Я жив, но это не я.
* * *
«Стою у окна, его отворив пошире…». Перевод Ю. Левитанского.
Стою у окна, его отворив пошире,
И белым платком машу, навсегда прощаясь
С моими стихами, которые к вам уходят.
Ни радости не испытываю, ни грусти.
Что делать — удел стихов, он таков от века.
Я их написал и скрыть их от вас не смею,
Когда б и хотел, не мог поступить иначе
— Цветок не умеет скрыть своего цветенья,
И скрыть не может река своего теченья,
И дереву скрыть плоды свои не удастся.
Все дальше мои стихи от меня уходят,
И я, к моему немалому удивленью,
Отсутствие их ощущаю почти до боли.
Кто ведает, чья рука их перелистает?
Неведомо, кто развернет их и прочитает.
Цветок, у меня он отнял предназначенье
Моим цветеньем радовать ваше зренье,
И дерево — вас услаждать моими плодами,
А река — не мешать течению моих мыслей.
И я подчиняюсь и чувствую, что я счастлив,
Как тот, кто давно устал пребывать в печали.
Ступайте же, о стихи мои, уходите! —
Умирают деревья — семена их уносит ветер.
Засыхают цветы — а пыльца все равно бессмертна.
Реки в море текут — а вода пребывает с ними.
Ухожу, оставаясь, — как всё в этом мире.
МАРИО ДЕ СА-КАРНЕЙРО.
Марио де Са-Карнейро (1890–1916). — В лирике этого поэта нашли свое наиболее законченное выражение новаторские тенденции поколения «Орфея». Литературную деятельность М. де Са-Карнейро начал как прозаик; под влиянием дружбы с Ф. Песоа и тесного общения с французскими поэтами обратился к поэзии. В 1914 г. вышел его первый сборник стихов, «Рассеяние», и уже посмертно, в 1937-м, — второй, «Крупицы золота». Основной мотив творчества М. де Са-Карнейро — кризис личности, отчаянные попытки найти себя, свое утраченное «я». Во второй книге границы поэтического видения расширяются, от самосозерцания поэт переходит к раздумьям над судьбами людей. Как и Ф. Песоа, Са-Карнейро стремился к коренному преобразованию стихотворных ритмов, изменял формы просодии, иногда нарушая грамматические правила.
ПОЧТИ. Перевод Е. Витковского.
Чуть больше солнца — стал бы жаркой пылью.
Чуть больше неба — я бы в нем исчез.
Не донесли надломленные крылья
Всего на взмах до голубых небес.
Тревожен я или спокоен? Тщетно…
Все поглотил обманчивый отлив.
Мечта моя осталась безответна,
Меня навеки болью наделив.
Почти любовь, почти триумф над бездной,
Почти надежда и почти мечта… Но жар
Души расплескан бесполезно,
Все — призрак, все — пустая суета.
Как больно непрерывное «почти»!
Мне счастье лишь на миг один сверкнуло,
И все утрачено: крыло взмахнуло,
Но не сумело к небу вознести.
Я погубил все храмы, где когда-то
Колени преклонял у алтаря…
Реке не суждено уйти в моря, —
О, как горька подобная расплата!
И мрачными и темными порой
Мне кажутся сверкающие своды, —
Решетку тяжкую взамен свободы
Кует разочарованный герой.
Я созидать хотел, но вижу ныне,
Что ни единой цели не достиг…
Все тягостно, во всем царит унынье,
Всего коснулся я на миг.
Чуть больше солнца — стал бы жаркой пылью.
Чуть больше неба — я бы в нем исчез.
Не донесли надломленные крылья
Всего на взмах до голубых небес.
ТОТ, ДРУГОЙ. Перевод Ю. Петрова.
Не узнанный с начала до конца,
Укрытый под личиной маскарадной,
Фальшивый светоч, циник аккуратный,
Убогий трус в обличье храбреца.
Напыщенный дурак в одежде ратной;
Блевотине сродни душа лжеца,
А дух, стяжавший похвалы певца, —
Холуй, лакей, предатель многократный;
Страстей лишенный, с сердцем недвижимым,
Подвластным лишь бесчувственным пружинам,
Он к Идеалам и Добру зовет;
И пузырем надутым в небосвод —
Маг-самозванец, сфинкс, заплывший жиром, —
Пустой и некудышный, он плывет.
ЖОЗЕ ГОМЕС ФЕРРЕЙРА. Перевод Инны Тыняновой.
Жозе Гомес Феррейра (род. в 1900 г.) — Два первых сборника стихов опубликовал очень рано: «Горные искры» в 1918 г. и «Вдалеке» в 1921 г. После длительного молчания выпустил ряд новых сборников: «Поэзия-1», 1948; «Поэзия-II», 1950; «Поэзия-III», 1961; «Поэзия-IV», 1970; «Поэзия-V», 1973; «Поэзия-VI», 1976. Они поставили его во главе неореализма, одного из ведущих направлений литературного развития Португалии, названного так в отличие от критического реализма XIX в. и характеризующегося интересом к жизни народа и к актуальным общественным проблемам.
Сатирическая повесть Ж.-Г. Феррейры «Удивительные приключения Смельчака Жоана» (1963) опубликована в 1971 г. в русском переводе.
Поэзия Жозе Гомеса Феррейры, оригинальная и изящная по форме, исполнена чувства ответственности за судьбы родины.
ИЗ ЦИКЛА «АНАФЕМА ПЕЙЗАЖУ». (1936–1937).
III.
Увяньте, цветы на зеленых лугах…
Не носят вас нищие
В волосах,
На хлеб по дворам прося.
Засохни в кустах, ежевичный плод…
Возьмездьем твой алый сок
Не взойдет,
Что мне на ладонь пролился.
Иссякни, родник у замшелой стены…
Не капли, а слезы
Нам суждены,
Оков они тяжелей.
Поникни, трава под крутою горой,
В обман не вводи нас,
Своей красотой
Судьбу скрывая людей…
Красотою судьбы обладают лишь те,
Кто ее уносит в своей мечте,
Умирая от голода меж цветов,
Когда солнце встает,
Воспламеняя сердца мертвецов.
ИЗ ЦИКЛА «ГЕРОИЧЕСКИЕ ГОЛОСА». (1936–1937–1938).
XIX.
Послушай, весна: ты напрасно
Из роз проливаешься в мир.
Своей красотой бесстрастной
Меня не собьешь с пути:
Мой путь — к чужой баррикаде,
Будто нехотя, но идти,
Чтоб за призрачную мечту,
За грядущего красоту
Смерть на ней обрести.
ИЗ ЦИКЛА «НЕЯСНЫЙ ГОРОД». (1959–1960).
XXI.
(Кафе. Вокруг меня — споры и слова, сорвавшиеся с якоря.).
И вот я здесь,
Застыл недвижно,
И героически дерзаю жить,
И быть как остров
В потоке бурном образов, слова
Швыряющем во мрак
Несокрушённой ночи.
XXII.
Естественно, как в глубоком
Нутряном сне пред рассветом,
Дерево одинокое
Ко мне протянуло ветви,
На которых вместо бутонов
Раскрылись глаза человечьи…
…Трепет синий, зеленый, зарево, крылья
Пленные, острова с прозрачными веждами.
И эти два глаза на темном стволе,
Неизбывно кроткие,
(Я уж видел их где-то! Неведомо где!),
Пронзают меня взглядом,
Как два забытых кинжала.
Солнце встает слепое из молчанья мертвых.
ЖОЗЕ РЕЖИО.
Жозе Режио (псевдоним; наст. имя — Жозе Мария дос Рейс Перейра; 1901–1969). — Еще студентом опубликовал сборник «Стихи о боге и дьяволе» (1925). Через два года основал журнал «Презенса», печатный орган одноименной группы, сыгравшей важную роль в развитии современной португальской поэзии. Основная тема поэзии Ж. Режио — внутренняя борьба и смятение личности, раздираемой противоречиями. Подобно большинству «презентистов», поэт обращался к углубленному психологическому анализу, но при этом интересовался также важнейшими общественными проблемами и стремился разрешить их с позиций демократа-гуманиста.
МЕРТВЫЙ ПОЭТ. Перевод М. Квятковской.
Костюм надели черный, как обычно,
Потом побрили, как велит обряд.
Две мухи на лице его сидят.
Он пожелтел, но выглядит прилично.
Здесь пахнет воском, тесно непривычно,
Цвет общества, куда ни кинешь взгляд:
Профессор, генерал и адвокат…
Глядят печально, тупо, безразлично…
А завтра критик, лысый и безликий,
Разыщет книгу, жертву злобных сплетен,
Гонимую, пока был жив поэт,
О ком сегодня говорят: «Великий», —
Поскольку он теперь совсем безвреден,
Как памятник из бронзы… как портрет.
МИГЕЛ ТОРГА. Перевод Л. Цивьяна.
Мигел Торга (псевдоним; наст. имя — Адолфо Роша; род. в 1904 г.). — Окончил медицинский факультет. Участник группы «Презенса». Первое литературное произведение, сборник лирики «Жажда», опубликовал в 1928 г. Плодотворно работал в разных жанрах — в поэзии (сб. «Освобождение», 1944; «Оды», 1946; «Гимн человеку», 1950, и др.), драматургии, мемуаристике. Поэзия Мигела Торги, то порывистая, мятежная, то горестно-умиротворенная, проникнута ощущением близости к земле; пахота, посев, сбор урожая приобретают в его стихах символическое значение, отражая борьбу и надежды португальского народа последних десятилетий.
СУДЬБА.
Радостью утро дышало.
Думал подняться к вершинам гор,
Думал пить воду чистейших озер,
Думал уйти в бескрайний простор…
Да жизнь помешала.
ОТКАЗ.
Я не с вами, изменники, нет!
Разве может, хоть миг единый,
Быть рядом с вами поэт?
Знаю: в дерзкий поход в грядущее
Не пойдут ожиревшие обыватели.
В этом радостном шествии
Только юные и прекрасные,
Трубадуры зари,
Бессребреники-правдоискатели,
Вечные бунтари и мечтатели.
АНТОНИО ЖЕДЕАН.
Антонио Жедеан (псевдоним; наст. имя — Ромуло де Карвальо; род. в 1906 г.). — Преподаватель физики, автор научно-популярных работ, он опубликовал свой первый поэтический сборник («Вечное движение», 1956) в возрасте пятидесяти лет. За ним последовали «Мир — театр» (1958), «Огненная машина» (1961) и др., принесшие поэту известность. Широта охвата действительности, эмоциональная насыщенность, нескрываемое сочувствие угнетенный сближают А. Жедеана с представителями португальского неореализма.
КАПЛЯ ВОДЫ. Перевод А. Косс.
Когда я плачу,
Плачу не я.
Плачет людская беда,
А людская беда была всегда.
Слезы — мои,
Боль — не моя.
АЛЫЙ ИРИС. Перевод М. Самаева.
От севера и до юга
Всю землю я пересек.
Повсюду зелено море,
Свод неба синь и высок.
Задумчивые светила
Дрожали в ночной воде,
И солнце лишь солнцем было,
Луною луна — везде.
Везде, где я побыл, смело
Взрывали земли неволю
Цветы; а то, что болело
В недрах души и тела,
Было обычной болью.
Приводит в недоуменье
Лишь боль, что во мне двоится:
И скорбь в ней исчезновенья,
И радость во всем родиться.
МАНУЭЛ ДА ФОНСЕКА.
Мануэл да Фонсека (род. в 1911 г.). — Один из основоположников неореалистической поэзии. Как и многих других неореалистов, его интересует преимущественно жизнь крестьянства, он в мельчайших подробностях изображает особенности сельского быта. При этом его творчеству присуща критическая направленность. О жителях провинции Алентежо, родины писателя, повествует его роман «Посеешь ветер…» (1958), сборники рассказов («Новая деревня», 1942; «Огонь и пепел», 1953) и стихи («Роза ветров», 1940; «Равнина», 1941; «Избранные стихотворения», 1958).
ТРАГЕДИЯ. Перевод М. Самаева.
Его отправили в школу, где он научился читать,
Складывать, вычитать, умножать и делить.
С детства он был угрюм и никогда не играл
С ровесниками на улице.
Потом за прилавком он стал извлекать доходы
Из школьных познаний.
Размерен, серьезен —
Ни улыбки, ни ошибки.
Умирает отец.
(Впрочем, это давно предвидели.)
И вот он «сеньор Антонио»
(Поглядите, такой молоденький и уже сеньор Антонпо…),
Хозяин лавки, глава семьи.
Посолиднел, женился, обзавелся потомством, —
Короче, все как у всех, кто прибавляет и множит.
И когда его старший научился читать, писать и считать,
Сеньор Антонио стал подводить баланс.
Семьдесят лет ему,
Известен в округе, богат.
Чего же больше желать человеку?
Поэтому
Однажды, в жаркий июльский денек,
Он вдруг занемог, прилег,
Пристойно раскинул руки,
Сказал: «Я, кажется, умираю…»
И действительно умер.
От удара.
МАРИО ДИОНИЗИО. Перевод Инны Тыняновой.
Марио Дионизио (род. в 1916 г.). — Новеллист, романист, теоретик неореализма, автор статей о живописи. В своих стихах (сб. «Стихи», 1941; «Требования и ловушки», 1945; «Диссонирующий смех», 1950) он призывает к постижению социальной действительности, к братству, к «встрече всех людей на дорогах мира». В художественной манере М. Дионизио иногда заметно влияние сюрреалистской эстетики.
ШЕПОТОМ…
Давайте шепотом петь
Гимн часам и мгновеньям, что мертвыми кажутся внешне…
О ветер, о свежие листья зеленых гигантов земли моей милой,
Голос ее сыновей своим шумом приветным покройте!
О ветер, вздувающий парус,
Холодком предрассветным тревожащий крыш черепицы,
Выстрой покой неприступно-высокий
Для песни этой глухой, но сияющей в сумраке ярко.
По горам и по долам, в тени густолистой и хвойной,
Юноша тихо бредет с пустыми руками и полным огня сердцем…
О аромат миндаля, виноградника, дуба и моря,
Унеси звук шагов его к братьям, рассеянным в далях пейзажа!
Унеси звук шагов его к пыльным оливковым рощам,
К апельсинным деревьям и трубам домов, и рекам,
Где мирное время поет в вересковых подлесках…
Взор устремив за далекие тучи,
И подошвы вонзив в кочковатую почву родную,
Давайте шепотом петь,
Давайте шепотом петь славу
Родине нашей за то, что она — живая.
ПОЛУСТАНКИ ПОЛНЫ УЕЗЖАЮЩИХ.
Полустанки полны уезжающих,
Ни веселых и ни печальных,
Только день и ночь ожидающих
Поездов дальних.
Меж тюками и пледами,
Под мешками, пакетами —
Та земля, где они родились когда-то,
Та земля, где они росли и взрослели,
Родная, чужая.
Сон под бледной луной,
И пустые карманы…
Чей-то мальчик свистит в свой свисток, отвечая
Равнинному ветру
Глиняным голосом гнева.
В сумерках лет уходящих,
В пыльной тени полустанков—
Ожиданье.
Я ожидаю, ты ожидаешь, они ожидают
Поездов дальних.
ГРУЗОВИКИ С ПОТУШЕННЫМИ ФАРАМИ.
Грузовики с потушенными фарами —
Черные в призрачных черных ночах —
Позади оставляют немые дома
И за стеклами черными — черный страх.
Позади оставляют окурки, и чад,
И книги, разбросанные на полу,
И рвущего кипу бумаг старика
С немыми слезами в темном углу.
Иду по улице с горькой улыбкой, —
Зачем здесь столько чуждых людей? —
Иду вне времени. Тускло и зыбко
За мною стелется свет фонарей.
ФЕРНАНДО НАМОРА.
Фернандо Намора (род. в 1919 г.). — Долгое время работал врачом. Один из самых крупных писателей современной Португалии, автор многих романов и повестей («Записки из жизни врача», 1949–1963, русский перевод — 1969; «Живущие в подполье», 1972, русский перевод — 1975, и др.). С 1975 г. Фернандо Намора — действительный член Лиссабонской Академии наук (отделение литературы). Жизнь простых людей, их мирный труд, радости и огорчения привлекают поэта не меньше, чем изображение своего внутреннего мира, и потому он порой стремится заглушить в себе лирическое начало, эмоции его проявляются, лишь когда он сочувствует чужому горю или бичует его виновников. В 1959 г. Фернандо Намора объединил свои ранние поэтические произведения «Саргасово море», 1939; «Земля», 1941, и др. в книгу под названием «Холодные рассветы»; в 1969 г. он опубликовал новый сборник стихов — «Маркетинг».
ПОТЕРЯННАЯ ПЕСНЯ. Перевод С. Гончаренко.
Все женщины, которых встретил я,
С досадою приходят мне на память —
Как русло долгожданного ручья,
Вдруг оказавшееся под песками;
И как строка, которая судьбой
В чернильнице оставлена без толку…
Как горький вкус сигары дорогой,
Докуренной до середины только;
И как газета, желтая давно,
Попавшаяся под руку некстати…
Как слабое, дешевое вино,
Которое не запятнает скатерть;
И как трагический,
Беззвучный вопль,
Так никогда и не достигший слуха…
Все так же сердце
У меня черство,
И в жаждущей душе все так же сухо.
Известно, в двери счастья — не ломись…
Случайны встречи, и случайны лица…
И все ж нет-нет мелькнет
Шальная мысль:
А может, это
Все-таки случится?
КЛИК ВЕТРА. Перевод Инны Тыняновой.
Надежда трепещет
На плечах дерева.
Она здесь на виселицу
Вздернута.
Радость стынет
На солнце зимнем.
Она здесь в изгнанье
Сослана.
Нежность плачет
На голом кургане.
Она здесь изменой
Брошена.
Кличет ветер в пленном рассвете:
Согрейся, радость, проснись, надежда.
Зачем, ветер, кличешь?
Они в темнице.
Но стоит людям
Стать набатом и гневом,
И тотчас надежда,
И радость, и нежность
Ответят на зов
Ветра:
Мы воскресли!
ЖОРЖИ ДЕ СЕНА. Перевод М. Самаева.
Жоржи де Сена (род. в 1919 г.). — Окончил инженерный факультет в университете города Порто, работал инженером в Лиссабоне, в 1959 г. переехал в Бразилию, преподавать в университете Сан-Пауло философию и литературу; с 1965 г. живет в США. Очеркист, драматург, литературный и театральный критик, поэт, переводчик, составитель обширной антологии португальской поэзии. Основные поэтические сборники Жоржи де Сена: «Преследование» (1942), «Корона земли» (1946), «Философский камень» (1950), «Очевидности» (1955), «Верность» (1958), «Метаморфозы» (1963), «Искусство музыки» (1968).
Лапидарная, классическая по форме выражения поэзия Жоржи де Сены, в которой, однако, временами ощущается влияние сюрреализма, проникнута чувством ответственности художника «за то, что мы живем на свете».
На русский язык переводится впервые.
ЗИМНЯЯ ВАРИАЦИЯ.
В прохладе ласковой, в прохладе мятной,
В которой свет уже разбавлен тьмой,
А бледный окоем послезакатный
Затянут золотистой бахромой;
Отгородясь от суеты сумятной
Такою растворенной тишиной,
Что тени сердцу более понятны,
Чем обнаженность вещности земной;
Я тот далекий образ вызываю,
Воспоминаньем кровь свою знобя.
Любовь, так, значит, ты еще живая?..
И в существе моем ютишься где-то,
Когда на час один осталось света,
А сам я — отзвук самого себя…
СОНЕТ.
Пройди своей дорогой, не мешая
Той жизни, что придет вслед за твоей,
Тогда тебя возвысит жизнь меньшая
И повторит, небытия сильней.
Лишь в ней одной восполнятся потери
Несбывшихся и пролетевших дней.
И каково бы ни было теперь ей,
Она на завтра будет уповать —
Не остужай, прости ей легковерье.
Дай ей побыть собой и миновать,
Нетерпеливой, хрупкой, яснолицей,
Несущей неизбежного печать.
В ней время с красотой соединится,
Чтобы пройти и снова повториться.
СОФИЯ ДЕ МЕЛЛО БРЕЙНЕР. Перевод И. Чежеговой.
София де Мелло Брейнер (род. в 1919 г.). — Изучала классическую филологию в Лиссабонском университете. Сотрудничала в различных отечественных газетах и журналах. Уже первая книга Софии де Мелло Брейнер Андресен «Поэзия», 1944, отличалась полным отсутствием риторики, органичным единством и цельностью гармонически сочетающихся образов, несмотря на то что иногда в ней чувствовалось влияние эстетических принципов сюрреалистов. Следующие книги — «День моря», 1947; «Хорал», 1950; «Новое море», 1958, — пронизаны языческим мировосприятием, ассоциациями с мотивами античной мифологии и в то же время исполнены щемящей тоски, проникнуты ощущением недолговечности всего земного.
Лучшее поэтическое произведение Софии де Мелло Брейнер Андресен — «Книга шестая», 1962, — свидетельствует об изменении творческой манеры, о более широком и объективном отражении жизни в ее конкретных проявлениях; многие стихи поэтессы отмечены острой критической, подчас сатирической направленностью. В 1968 г. вышел в свет том избранной лирики С. де Мелло Брейнер Андресен.
БИОГРАФИЯ.
Были близкие, были друзья… Эти умерли, те далеко.
А иные о стену эпохи в кровь разбили лицо.
Возненавидела я все, что просто, и все, что легко,
И себя я ищу в свете дня, вое ветра, игре облаков.
РОДИНА.
Страна, где камень и ветра, страна,
Где воздух так прозрачен, свеж и чист,
Где стены белы, а земля черна;
Где лица терпеливой тишины
Полны: их нищета разрисовала
Узором, въевшимся навеки в их черты
Позорнейшим стигматом нищеты;
Их ветер бьет, и солнце их палит…
Но в той стране речь для меня звучит
Всегда с такою милой сердцу страстью:
Весомы и окрашены слова,
Внушительно и тяжело молчанье,
И суть вещей так явственно видна
В нагом и ослепительном звучанье
Слов:
— Ветер, камень, дом, река,
Рыданье, песня, день, дыханье,
Даль, корень, дерево, вода, —
Вот родина моя — там сердце и душа.
Мне больно от луны, от моря плачу я,
И в каждый день мой вписано изгнанье.
ПАПИНИАНО КАРЛОС.
Папиниано Карлос (род. в 1920 г.). — Родился в Мозамбике. Живет в Португалии. Учился на инженерном факультете в университете города Порто, долгое время был журналистом, сотрудником наиболее радикальных газет и журналов: «Нотисиас де блокейо» («Вести из окружения»), «Вертиее» («Вершина»), «Сеара нова» («Новые всходы») и др. Опубликовал несколько сборников стихов — «Набросок», 1942; «Новая дорога», 1946; «Мать-земля», 1949; «Леса и ветер», 1952; «Пойдем, ясные духом», 1957; драматическую поэму «Звезда странствует по городу», 1958; книгу рассказов и книгу кровнк. В своей поэзии Папиниано Карлос продолжает и развивает традиция португальского неореализма, обличая царящие в мире наживы несправедливость и угнетение, ратуя за раскрепощение личности, — в частности, ва право африканских народов на самоопределение.
ОСВОБОЖДЕНИЕ. Перевод Инны Тыняновой.
Свобода осталась там,
За проволокой колючею,
А тело мое, гниющее заживо,
А тело мое, изрытое язвами,
Смотрело слепыми глазами во тьму дремучую.
Стражники цвета пепла
Меня стерегли от света.
Но что мне стражники цвета пепла?
Язык обрубленный
С трудом повернулся
В губах распухших и черных,
Когда я крикнул,
Услышанный всюду,
Что я СВОБОДЕН!
И задрожали от крика этого
Все тираны на свете.
Стражники цвета пепла
Унесли мое мертвое тело.
КАРЛОС ДЕ ОЛИВЕЙРА. Перевод А. Наймана.
Карлос де Оливейра (род. в 1921 г.). — Родился в Бразилии. Переехав в Португалию, окончил историко-филологический факультет Коимбры. Еще будучи студентом издал в неореалистической серил «Новый кансионейро» первый сборник стихов («Туризм», 1942), а через год роман «Дом на дюнах». В своих стихах Карлос де Оливейра воспевает людей и пейзаж родной земли, с большой силой отображая трагическую судьбу народа (сб. «Бедная мать», 1945; «Потерянный урожай», 1948; «Земля гармонии», 1950).
Карлос де Оливейра обратился к самой древней и плодотворной традиции португальской поэзии — к использованию фольклора, истоки которого восходят к средневековью. Основным жанром стихотворных произведений эн избрал народную частушку — шакару; он обращается и к излюбленной народом редондилье. При этом поэт опирается и на достижения современной ему европейской художественной мысли.
СВОБОДНЫЙ.
Чтобы мысль подрубить под корень, нет такого мачете на свете.
Народная Песня.
Чтобы мысль подрубить под корень
Нет такого мачете на свете:
Никому не покорен ветер,
Никому не покорен.
Если смерть погасить сумеет
Свет возлюбленный мысли, —
Значит, жизнь не имеет смысла,
Смысла жизнь не имеет.
Свет любви и мысли из штолен
Вырвется, глубочайших на свете,
Потому что он волен, как ветер,
Потому что он волен.
ХВАЛА ЖИЗНИ.
О жизнь, ты мать совершенства,
Прекрасного ты сосуд,
В котором и скорби цветут,
И брезжит рассвет блаженства.
И, смерти твоей под стать,
В которой родишься ты снова, —
Звезды погибнуть готовы,
Чтоб день мог скорей настать.
ЭЖИТО ГОНСАЛВЕС.
Эжито Гонсалвес (род. в 1922 г.). — Основатель и директор ряда литературно-общественных журналов радикального направления — «А серпенте» («Змея»), «Нотисиас не блокейо» («Вести из окружения»), возродивших социальную поэзию большой обличительной силы. Стихи Эжито Гонсалвеса привлекают гуманизмом, умением затронуть наиболее серьезные проблемы общественной жизни, сочетанием проникновенного лиризма с язвительной иронией (сб. «Стихи для товарищей по острову», 1950; «Возможное бегство», 1952; «Обезглавленный бродяга», 1957; «Воспоминания о сентябре», 1959, и др.).
ВЕСТИ ИЗ ОКРУЖЕНИЯ. Перевод М. Квятковской.
Я полагаюсь на твою нейтральность,
На непреложность красоты твоей, —
Ты передашь друзьям на континенте
Известья из блокадного кольца.
Ты им расскажешь о мученьях наших,
О буднях, убеливших наши головы,
И передашь ту боль, что контрабандой
Мы спрятали в твои густые косы.
Ты расскажи о ненависти нашей —
Единственной опоре обороны,
Единственном укрытии в ночи,
В ночи, цветущей голодом и скорбью.
Тебя нейтралитет перенесет
Через барьер таможен пограничных,
Ты пронесешь в планшете фотоснимки
И карты, два письма, одну слезу…
Ты расскажи, как мы работаем в молчанье,
Как мы едим молчанье, пьем молчанье,
Как мы захлебываемся молчаньем
И гибнем, пораженные молчаньем.
Иди и возвести, как яркий факел,
О мире, где мы дышим и живем —
О скудном мире, где поэзия убита,
Где в изобилии один лишь страх.
Иди и людям возвести в газетах
Иль вытрави на стенах кислотою
Все, что увидела и от меня узнала
За время от бомбежки до бомбежки.
Но ты скажи им — нерушима тайна
Высоких наших башен, и на них
Пылает огненный цветок и выкликает
Свое сверкающее, праведное имя.
Скажи, что в изуродованном городе
Истерзанные люди не сдаются,
И если уменьшаются припасы,
То ярость и надежда все растут.
ЭУЖЕНИО ДЕ АНДРАДЕ. Перевод Инны Тыняновой.
Эуженио де Андраде (род. в 1923 г.). — Получил образование в Лиссабоне и Коиыбре. Активно сотрудничает в прогрессивных периодических изданиях: «Сеара нова» («Новые всходы»), «Куадернос поэтикос» «Поэтические тетради»), «Вертисе» («Вершина»). В 1946 г. опубликовал в своем ереводе книгу стихов Ф.-Г. Лорки. Эуженио де Андраде стремится сочетать овременные способы художественного выражения (в его творчестве заметно влияние столь разных литературных направлений, как португальский неореализм, испанское барокко, сюрреализм) с вековой традицией отечественной поэзии. В стихах Э. де Андраде часто возникают образы четырех стихий — земли, воды, воздуха и огня, передающих ощущение первозданной полноты жизни. Тонкий психологизм, богатство и точность поэтического языка, постоянные поиски новых изобразительных средств делают Эуженио да Андраде одним из виднейших поэтов Португалии. Основные сборники его стихов: «Руки и плоды», 1948; «Возлюбленные без гроша в кармане», 1950; «Запрещенные слова», 1951; «Сердце дня», 1958; «Море в сентябре», 1961; «Притоки молчания», 1968.
На русский язык переводится впервые.
ПОРТРЕТ.
На лице твоем утро
Лучом зажигается ранним,
Разливаясь по розам прозрачным
И влажным сияньем.
И мелодия черт твоих
Так глубока и ясна,
Словно теплой землею,
Родящею хлеб, рождена.
И в глазах твоих море,
И берег, уснувший в тиши.
Свежесть листьев и хвои.
Надежда моей души!
ЗАТЕРЯННЫЕ СЛОВА.
На свете есть корабли и лицо твое, что уплывало,
Прильнув к лицу кораблей, уплывавших вместе с тобой.
Стоят, бесцельно качаясь, они у причала,
Уходят с ветром, приходят с речной волной.
На белом песке, где зачинается время,
К морю спиною, дитя одиноко бредет.
Темнеет. Сомненья нет, опускается темень.
Пора уходить или остаться черед?
Ночь опускается. Пеплом покрылись больницы.
Волны теней разбиваются по углам.
Люблю тебя… и сквозь окна струится
Первый свет, подаренный холмам.
Не возвратятся слова, что тебе посылаю,
Их остановит годов уходящих дым,
Если одно и вернется — я уже не узнаю
Линий, что связаны с именем дорогим.
Больно от этой воды, от этого воздуха ночи,
Больно от этой пустынности черных
Камней и от рук тишины, что удержать хочет
Дни разбитые жизни моей…
А ночь все растет, нагружается тайной.
И средь голых, пустынных ее берегов
Перед людьми — горизонт бескрайный
Бомбардированных городов.
В НАСТОЯЩЕМ НУЖНЫ…
В настоящем нужна любовь.
И корабли в ночи.
Нужно разрушить несколько слов:
«Ненависть», «одиночество», «зло»,
И многие стоны,
И разящие все мечи.
Нужно выдумать радость,
Умножить колосья, приветы,
Первооткрыть водопады,
Цветы и рассветы.
На плечи падает тишина
В свете мутном, почти давящем.
В настоящем любовь нужна,
Нужно выстоять в настоящем.
АЛЕШАНДРЕ О’НЕЙЛ.
Алешандре О’Нейл (род. в 1924 г.). — Учился в мореходном училище, был торговым служащим, библиотекарем. Входил в первую сюрреалистскую группу португальских поэтов (1947 г.). Однако, разделяя эстетическую программу сюрреализма, Алешандре О’Нейл близок и к старейшей национальной традиции — лирическому сарказму; в его эмоционально насыщенной поэзии родство с отечественной поэтической школой ощущается сильней, чем связь с канонами сюрреализма. Основные сборники стихов: «Время призраков», 1951; «В Датском королевстве», 1958.
ГРЯЗНОЕ ВРЕМЯ. Перевод М. Самаева.
Ненавижу иные дни
Как оскорбленья на которые не отвечаю
Опасаясь прикосновений
Оставляющих на ладони
Гнойную жижу миазмов
Эти дни не должны выходить
Из чрева застывшего времени
Подстерегающего нас за стеной
Эти дни настают чтобы нас оскорблять
Швырять в нас каменья страха стекляшки лжи
И медяки смиренья
Дни точно окна над лужей
Отражающей век
Дни из газет Поезда
Увозящие недосмотренный сон на работу
Сон вековой
Кой-как одетый и еле прокормленный
Молота звон в голове
И плюгавая злобная смерть
Которая прячется в заводских сиренах
И свистит
Эти дни проводил я на свалках снов
Где грязь подает
Свою руку величью
Там нужду я увидел и понял
Лишь вместе с людьми и лишь ради них
Стоит мечтать
ФРАНСИСКО МИГЕЛ. Перевод Инны Тыняновой.
Франсиско Мигел (род. в 1907 г.). — Выходец из крестьянской семьи, всю свою жизнь посвятил борьбе против фашизма. Еще в юности вступил в Коммунистическую партию Португалии, двадцать лет провел в салазаровских застенках. Лишь после героического побега Франсиско Мигеле с товарищами из крепости Кашиас, о котором узнал весь мир, он оказался на свободе. В настоящее время Франсиско Мигел — член ЦК КПП, депутат Учредительного собрания от провинции Бежа.
НЕ ЕЗДИ В АНГОЛУ, СОЛДАТ!
Когда ты проходишь по нашей земле,
Вослед тебе камни кричат:
Останься с семьею в родимом селе,
Не езди в Анголу, солдат!
Ведь жадность затеяла эту войну,
Кровавый фашистский разврат;
Ты славой свою не покроешь страну,
Не езди в Анголу, солдат!
Ты раб и трудишься здесь за грош,
И хлеба нет для ребят.
Зачем за хозяев на смерть идешь?
Не езди в Анголу, солдат!
И вовсе не землю свою защитить
Преступники эти хотят,
А цепью потуже тебя окрутить.
Не езди в Анголу, солдат!
Подумай: с кем встретишься ты в борьбе?
Народ Анголы — твой брат.
И, к счастью, победа придет не к тебе.
Не езди в Анголу, солдат!
ГРЯДУЩЕЕ.
О, какое счастье
Из темного застенка выйти снова,
Увидеть солнце, небо в облаках,
Узнать товарищей, их братское участье,
И, взяв их за руки, путем суровым
Идти, неся грядущее в руках.
Какое счастье с высоты холмистой
Родную даль увидеть пред собой,
Увидеть тех, чей героичен труд,
Кто в бой готов идти с душою чистой,
Кого за то безумцами зовут,
Тех, кто желает твердою рукою
Своею новой управлять судьбою.
Какое счастье, если в ярком свете
Поднимется, могуча и тверда,
Рука, что остановит даже ветер
И зло разрушит навсегда!
ТУРЦИЯ.
НАЗЫМ ХИКМЕТ.
Назым Хикмет (1902–1963). — Родился в Салониках. Учился в Коммунистическом университете трудящихся Востока в Москве. После возвращения на родину работал в газетах и киностудиях. В 1938 г. за свои политические убеждения был осужден на двадцать восемь лет тюремного заключения. Под давлением мировой прогрессивной общественности в 1950 г. был освобожден и приехал в СССР.
Назым Хикмет — автор многочисленных поэтических книг: «Песня пьющих солнце» (1928), «385 строк» (1929), «Джоконда и Си Я-у» (1929), «Почему Бенерджи покончил с собой» (1931), «Письма к Таранта Бабу» (1935) и др.
ПОЭТ. Перевод Д. Багрицкого и Н. Дементьева.
Я — поэт.
Мой свист, как сталь,
Вонзает молнии
В стены домов.
Мои глаза
На двести метров вдаль
Различают двух
Сцепившихся жуков.
И этим ли глазам
Сквозь ночи мрак и холод
Не разглядеть,
Что мир двуногих
Надвое расколот?..
Если ты спросишь,
Из какой я части света,
Где я жил и что я видал,
Загляни в мой портфель:
Тебе ответят на это
Черный хлеб — мой обед
И книга: Маркс, «Капитал».
Я — поэт,
Понимаю поэзии дело,
Не развлекаюсь разговорами о лазури.
Моя самая любимая газелла —
«Анти-Дюринг».
Я — поэт,
Я ронял стихотворные темы
Больше, чем капель осень роняла,
Но, прежде чем запеть
Мои марксистские поэмы,
Я должен стать
Знатоком «Капитала»…
Я — старый волк футбола…
Когда форварда Уругвая
(Еще в начале нашего века)
Были ордой ребятишек веселых,
Я на землю бросал
Самых тяжелых,
Самых огромных хавбеков…
Я — старый волк футбола.
И когда мяч из центра
Несется в лоб,
Я его отбиваю:
Гоп!..
И он, пролетая под штангой ворот,
Попадает в разинутый
От удивленья рот
Голкипера,
Влетает в его желудок…
Это мой метод защиты.
Мы — поэты…
Ну…
Мы сказали уже об этом.
ТОСКА. Перевод М. Петровых.
Возвратиться к морю хочу.
В необъятном зеркале моря
Отразиться хочу.
Возвратиться к морю хочу.
Плывут корабли к черте горизонта, плывут корабли.
О, если б печалью моей паруса напрячься могли!
Весь день стоять бы на вахте и берег видеть вдали!
За это жизни не жаль, и уж если уйти с земли —
Я, как луч, прежде чем в глубине исчезнуть,
Засветиться в волне хочу.
Возвратиться к морю хочу.
Возвратиться к морю xo4yt
КАСПИЙСКОЕ МОРЕ. Перевод М. Павловой.
Из горизонта в горизонт
Бежит лиловых волн орда,
Бежит каспийская вода.
И Каспий говорит с песком
Ветров знакомым языком,
Он говорит и весь кипит…
Кто сказал, черт возьми,
Что Каспий — озеро, что в нем вода мертва,
Морская праздная вода,
Где волн лиловая орда?
В Каспийском море друг плывет…
Э-э-эй, враг плывет…
Волна — гора,
Челнок — джейран,
Волна — арык,
Челнок — ведро.
Подлетит челнок,
Отлетит челнок,
Упадет с хребта
Одного коня
И опять взлетит
На коня челнок!
И туркмен-рыбак,
Скрестив ноги, сидит, за рулем следит,
На башке папаха черным-черна,
Не папаха, нет, —
Взял барана он и, вспоров живот, на себя надел…
Шерсть барана черна,
На бровях она…
Подлетит челнок,
Отлетит челнок,
И рыбак в челне, как туркменский божок,
Скрестив ноги, сидит, за рулем следит,
Но не думай, что волнам покорен он,
Он уверен в себе,
Он — как идол каменный в челноке,
Как божок, сердит, за рулем сидит,
На волну не глядит,
В борт челна
Волна, расколовшись, стучит…
Подлетит челнок,
Отлетит челнок,
Упадет с хребта
Одного коня
И опять взлетит
На коня челнок…
«Эй, гляди, как вихрь подгоняет челн!
Берегись коварства каспийских волн,
Ты смотри, чтоб ветер не наделал бед!..»
Черт с ним, с ветром, — пусть!
Нам один закон!
Пусть злит ветер орду оголтелых волн —
Кто на море рожден,
В нем погибнет он!
Подлетит челнок,
Отлетит челнок,
Подлетит челнок…
Отлетит челн…
Вверх…
Вниз…
Челн…
КАК КЕРЕМ[173]. Перевод Л. Мартынова.
[173].
Здесь воздух давит, как свинец.
Кричу,
Кричу,
Кричу:
— Идите! —
Людям
Я кричу, —
Свинец
Расплавить
Я хочу!—
Он говорит:
— Зачем кричишь?
Себя ты в пепел превратишь!
Вот, как Керем,
Сгоришь, сгоришь!
Здесь много бед.
Подмоги нет.
Оглохли
Уши у сердец.
Здесь воздух давит, как свинец. —
Я говорю
В ответ ему:
— Пусть, как Керем,
Сгорю,
Сгорю!
Ведь если я гореть не буду
И если ты гореть не будешь,
И если мы гореть не будем,
Так кто же здесь
Рассеет тьму?
Здесь воздух, как земля, тяжел.
Здесь воздух давит, как свинец. —
Кричу,
Кричу,
Кричу,
Кричу:
— Идите! —
Людям я кричу. —
Свинец
Расплавить
Я хочу!
ВЕЛИКАН С ГОЛУБЫМИ ГЛАЗАМИ. Перевод Д. Самойлова.
Был великан с голубыми глазами,
Он любил женщину маленького роста.
А ей все время в мечтах являлся
Маленький дом,
Где растет под окном
Цветущая жимолость.
Великан любил, как любят великаны,
Он к большой работе
Тянулся руками
И построить не мог
Ей теремок —
Маленький дом,
Где растет под окном
Цветущая жимолость.
Был великан с голубыми глазами,
Он любил женщину маленького роста.
А она устала идти с ним рядом
Дорогой великанов,
Ей захотелось
Отдохнуть в уютном домике с садом.
— Прощай! — сказала она голубым глазам.
И ее увел состоятельный карлик
В маленький дом,
Где растет под окном
Цветущая жимолость.
И великан понимает теперь,
Что любовь великана
Не упрятать в маленький дом,
Где растет под окном
Цветущая жимолость.
* * *
«Самое лучшее море…». Перевод Б. Слуцкого.
Самое лучшее море:
То, где еще не плавал.
Самый лучший ребенок:
Тот, что еще не вырос.
Самые лучшие дни нашей жизни:
Те, что еще не прожиты.
И самое прекрасное из сказанных тебе слов:
То, что я еще скажу…
ДОН-КИХОТ. Перевод Д. Самойлова.
Рыцарь бессмертной юности
В пятьдесят расслышал разум, что бьется в груди,
И в июльское утро пошел воевать
За истину, красоту и добро.
Перед ним — мир, полный глупых, зазнавшихся чудищ,
Под ним — Росинант, печальный и храбрый.
Я знаю, если тебя одолела тоска,
Если сердце весит кило и тысячу грамм,
Ничего не поделаешь, друг Дон-Кихот, все равно
Отправишься к ветрякам.
Ты прав, Дульцинея прекраснее всех,
И ты это крикнешь в лицо торгашам,
И тебя швырнут наземь и оттузят,
Но, рыцарь нашей жажды, ты непобедим,
Ты будешь гореть в своих тяжелых латах,
И станет Дульцинея прекраснее во сто крат.
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МЮНЕВВЕР. Перевод М. Павловой.
Листья и ветки — ало и зелено,
Милая, нам расставаться не велено.
Зеленое — алому, листья — плодам,
Я больше тебя никому не отдам.
ЯПОНСКИЙ РЫБАК
Японский рыбак был молод и смел,
Был облаком в море убит рыбак.
Его земляк эту песню мне спел.
…Был желтый вечер. Зажгли маяк.
Поймали рыбу, кто съест — умрет,
И кто коснется нас — умрет.
Как черный гроб, плывет баркас,
Кто вступит на баркас — умрет.
Поймали рыбу, кто съест — умрет,
Умрет не сразу, нет, — на нем
Гнить будет мясо день за днем…
Поймали рыбу, кто съест — умрет.
И кто коснется нас — умрет,
Коснется наших рук простых,
Омытых солью волн морских.
И кто коснется нас — умрет,
Умрет не сразу, нет, — на нем
Гнить будет мясо день за днем.
И кто коснется нас — умрет.
Любовь моя, меня забудь!
Как черный гроб, плывет баркас,
Кто вступит на баркас — умрет,
Упало облако на нас…
Любовь моя, меня забудь!
Не обнимай — ношу змею,
Она вкрадется в грудь твою…
Любовь моя, меня забудь!
Как черный гроб, плывет баркас,
Любовь моя, меня забудь!
Наш сын родится без отца,
Гнилей протухшего яйца…
Как черный гроб, плывет баркас,
Качая мертвую траву…
О люди! Где вы? Вас зову!
Я вас зову!
* * *
«Я устал, капитан, и меня ты не жди…». Перевод Д. Самойлова.
Я устал, капитан, и меня ты не жди,
А в журнал судовой пусть пишет другой.
Минареты, чинары и порт впереди.
Не со мной приплывешь ты в порт голубой.
* * *
«Растет во мне дерево, — вы увидеть его могли бы…». Перевод Д. Самойлова.
Растет во мне дерево, — вы увидеть его могли бы, —
Оно происходит от солнца и к солнцу стремится,
Качаются его листья, как огненные рыбы,
А плоды щебечут, как веселые птицы.
На звезду, которая плавает во мне,
Давно спустились путешественники из ракет,
Говорящие на языке, что снится во сне,
На котором приказа и просьбы нет.
Во мне есть белая дорога,
Муравьи волочат зернышки и палки,
По ней праздничных машин проезжает много
И не встречаются катафалки.
Во мне время стоит, как вода,
Благоухает, как цветок на груди,
А мне наплевать, что сегодня — пятница или среда,
Что большее позади, а меньшее впереди.
ДВЕ ЛЮБВИ. Перевод А. Ибрагимова.
Двух женщин не любят одновременно?
Неправда.
Такое бывает.
В городе измороси ледяной
Лежу на кровати в гостинице.
По потолку надо мной
Грузовиков тяжелей
Тучи, вижу, ползут.
Справа вдали
Высится дом
В сто, может быть, этажей,
Над ним — золотая игла.
По потолку надо мной,
Вижу, ползут облачка,
Как баржи — арбузами,
Солнцем груженные.
Взгляд обрати к окну —
И запляшут отблески вод на лице.
Где я сейчас: на речном берегу
Или у моря?
Рядом, в цветистой росписи,
Поднос — не пойму, что на нем:
Клубника ли, черный тут?
На лугу ли я, среди нарциссов,
В березовой роще заснеженной?
Смеются и плачут две женщины
На двух языках.
Любимые, как вы встретились?
Ведь вы незнакомы друг с другом.
Где наше свиданье, скажите:
На площади Баязита[174],
В парке ли Горького?
В городе измороси ледяной
Лежу на кровати в гостинице.
Глаза покалывает слегка.
Мелодия слышится издалека:
Вначале — баян, за баяном — ут[175].
В сердце, разорванном пополам,
По двум городам тоска.
Вскочить бы с постели
И под дождем
На вокзал.
— Эй, машинист,
Отвези меня, брат.
— Но куда?
БАКУ НОЧЬЮ. Перевод А. Ибрагимова.
Ночью, к беззвездному морю,
В кромешную темноту
Сбегает Баку — золотое пшеничное поле.
Стою на горе,
Зернышки света лицо мое искололи,
Песне, тихой, как воды Босфора, я вторю.
Стою на горе,
Уплывает, покачиваясь, на плоту,
Сердце, истерзанное разлукой,
Опережая воспоминанья, —
Плывет по беззвездному морю
В кромешную темноту.
ВМЕСТЕ С ЛЕНИНЫМ. Перевод Е. Винокурова.
Окунаются в жизнь так,
Как летом в солнечный свет.
Зачем я живу? Для чего?
Мы хотим получить ответ.
Остаться молодым навсегда.
Быть молодым,
Быть молодым, —
Как будущие года.
Красное знамя одно
На все времена!
Голубь белый один.
Зеленая земля одна.
Из одной песни с Лениным быть,
Из одной строки, из одной реки,
Из одного окна.
* * *
«Разлука машет железным прутом…». Перевод А. Ибрагимова.
Разлука машет железным прутом
И меня по лицу по лицу
Не могу увернуться
Убегаю разлука за мной
Мертвой хваткой вцепилась и держит
Ноги мои подсекаются
Разлука не дни не дороги
Мостик она между нами протянутый
Узкий как волос и острый как нож[176]
Узкий как волос и острый как нож
Мостик она даже если мы рядом
И тесно сомкнуты наши колени
ЛИЦА НАШИХ ЖЕНЩИН. Перевод А. Ибрагимова.
Нет, не Христа родила Мария,
Мария не мать Христа,
Мария — просто мать,
И ребенок, плод ее чрева,
Просто сын человеческий.
Не потому ли во всех своих ликах
Так прекрасна Мария
И, словно собственный, дорог нам сын Марии?
Лица наших женщин — повести наших мук.
Наши муки и неудачи — острый плуг,
Лица женщин, нам дорогих, бороздящий.
Радости наши — в женских глазах
Отблескивают, как зори в озерах.
На женских лицах — наши мечты.
Хоть отвернись — перед нами стоят любимые,
Всех ближе к истинной нашей сути,
И дальше всех от нее.
* * *
«Я утром проснулся, и что-то меня обуяло…». Перевод Д. Самойлова.
Я утром проснулся, и что-то меня обуяло,
Надвинулось и смешалось, как зло и добро, —
Дерево, глина, стена, стекло, одеяло
И свет, потускневший, как старое серебро.
И пошли на меня — билет трамвайный,
И половинка угасшего сна, и прерванная дрема,
И вражеская страна,
Называемая гостиницей привокзальной,
И недописанные стихи, и желтая солома.
Пошло на меня белолобое время,
И память, и дождь, и покинутая тобой простыня,
И весть от нас двоих, и нашей разлуки бремя…
Я нынче проснулся, и все это надвинулось на меня.
АВТОБИОГРАФИЯ. Перевод Б. Слуцкого.
Эта автобиография написана 11 сентября 1961 года в Восточном Берлине.
Родился в 1902
Но возвращался туда где родился
Возвращаться не люблю
Трех лет от роду в Алеппо состоял внуком паши
Девятнадцати лет в Москве студентом Комуниверситета
Сорока девяти лет снова в Москве гостем ЦК партии
И с четырнадцати лет в поэзии состою поэтом
Одним знакомы виды трав
Другим виды рыб
А мне виды разлук
Одни знают наизусть имена звезд
А я имена расставаний
Спал в больших тюрьмах и в больших отелях
Отведал наверно все блюда на свете
И знаю вкус голода между прочим и вкус голодовки
Мне было тридцать когда меня хотели повесить и не повесили
Мне было сорок восемь
Когда меня хотели наградить премией Мира
И я получил эту премию
Мне было тридцать шесть
Когда за полгода я прошел четыре метра
По бетонному полу одиночки
Мне было пятьдесят девять
Когда за восемнадцать часов
Я перелетел из Праги в Гавану
Ленина не видел живым
В двадцать четвертом стоял в почетном карауле
А в шестьдесят первом продолжал ходить к Ленину
В мавзолей его книг
Меня пытались оторвать от моей партии
Не вышло
Низвергались идолы но осколки
Меня не раздавили
1951
В море вдвоем с молодым товарищем
Я шел на смерть
1952
С разорванным сердцем
Четыре месяца лежа на спине
Я ожидал смерти
Испытал безумную ревность
К любимым
Не испытывал зависти ни к кому
Даже к Чаплину
Иногда обманывал женщин
Никогда друзей
Пил но не стал пропойцей
Свой хлеб слава богу
Зарабатываю только своим горбом
Врал потому что стыдился за другого
Врал чтобы не обидеть другого
Врал иногда и без всякой причины
Ездил в поезде летал на самолете
У большинства человечества для этого нет денег
Ходил в оперу
Большинство человечества не слышало этого слова
Но зато с двадцать первого года
Не ходил в места
Куда ходит большинство человечества
В мечеть в церковь к знахарям и гадалкам
Хотя бывало гадал на кофейной гуще
Печатаюсь на тридцати — сорока языках
В тридцати — сорока странах
В моей Турции
По-турецки
Печатать меня запрещено
Раком не болел
Впрочем это не обязательно
Министром не буду
Собственно говоря и не хочется
На войне не был
В бомбоубежище не спускался
Никогда не бегал
От пикирующего самолета
Но зато влюбился шестидесяти лет от роду
Короче говоря товарищи
Если сегодня я подыхаю как собака от разлуки
Зато я жил как человек
И поживу еще
И кто знает
Что переживу
Что испытаю
ПОД ДОЖДЕМ. Перевод М. Петровых.
Под дождем по московскому тротуару, колышась
На тонких зеленых ногах, идет весна, —
Теснимая каменными домами, машинами и пешеходами.
Сегодня с утра плохой оказалась моя кардиограмма.
Минута, которую ждут, когда б ни настала, —
Нежданною будет она,
Придет одиноко и не вернет
Того, что уже миновало.
Первым концертом Чайковского звучит под дождем тишина.
Без меня ты по лестнице всходишь устало.
На балконе верхнего этажа гвоздика в стакане
Стоит одна.
Под дождем по московскому тротуару, колышась
На тонких зеленых ногах, идет весна.
Возле меня ты сидишь и, не видя меня, улыбаешься
Грусти, туманящейся вдали.
Вёсны тебя от меня куда-то уже увели.
И однажды, быть может, ты не вернешься, —
Под дождем затеряешься где-то,
И вот уже не видна.
* * *
«— Поспеши ко мне, — велела…». Перевод А. Ибрагимова.
— Поспеши ко мне, — велела.
— Посмеши меня, — велела.
— Полюби меня, — велела.
— Погуби себя, — велела.
Поспешил.
Посмешил.
Полюбил.
Погубил.
* * *
«Я — коммунист…». Перевод Б. Слуцкого.
Я — коммунист.
Каждый вершок во мне — страсть.
Страсть: увидеть, обдумать, понять.
Страсть: свет, бегущий через миры.
Страсть: перебросить качели со звезды на звезду.
Страсть: обливаясь потом, выплавить сталь.
Я — коммунист.
Каждый вершок во мне — страсть.
ОРХАН ВЕЛИ. Перевод А. Ибрагимова.
Орхан Вели (1914–1950). — Родился в Стамбуле. Окончил анкарский лицей. Несколько лет посещал факультет философии университета. Затем работал в отделе переводов министерства просвещения Турции.
Орхан Вели — автор сборников «Чудак» (1941), «То, от чего я не могу отказаться» (1945) и др.
КРУТОЙ ПОДЪЕМ.
Каждый вечер, каждый вечер одно и то же.
Выходим из фабрики — и в гору.
Будь на том свете
Дорога хоть чуть положе, —
Смерть не такая уж и страшная штука.
ГРУСТЬ.
На любимых людей
Иногда и таил бы досаду,
Да любовь научила
Растворять все обиды
В печали.
ПО ВОЗРАСТАЮЩЕЙ СТЕПЕНИ.
Люблю красивых женщин,
Люблю фабричных работниц,
Красивых фабричных работниц
Люблю еще горячей.
РАННИМ УТРОМ.
Ветвистым деревцем пятерни
Озерко притеню,
Взгляд подниму к тучам:
Гремя колокольцами, как верблюды, они
Мчатся наперерез
Дню.
ПРОДАВЕЦ ПТИЦ.
Эй, продавец птиц!
Птиц нам не надо — только мигни,
Целую стаю наловят мальчишки.
Лучше продай нам облачко
За горсть мелочишки.
СЛАВА БОГУ.
Слава богу, дома я не один:
Туфелек слышится легкий постук,
Тихие вздохи колышут воздух.
Слава богу, я не один.
МОЯ ТЕНЬ.
Опостылела — просто спасу нет!
Вечно путается под ногами.
Хоть немного пожить бы врозь,
Каждый — Сам по себе.
ГЛАЗА МОИ.
Где же, где глаза мои?
Кто их мог украсть?
Не шайтан ли их — в плетенку,
И на рынок потихоньку
Шасть?
Где же, где глаза мои?
НАМОГИЛЬНАЯ НАДПИСЬ I.
Перестрадал бедняга немало;
Худшие муки — из-за мозолей.
Даже собственная некрасивость
Не угнетала его так сильно.
Пока ботинки не терли ног,
Не поминал он Аллахова имени.
Был грешен, конечно, но в меру.
Мир Сулейману-эфенди.
НАМОГИЛЬНАЯ НАДПИСЬ II.
Так вопрос перед ним не стоял:
Быть или не быть.
Однажды вечером лег —
И не проснулся.
Тело обмыли и после намаза
Опустили в могилу.
Заимодавцам придется
Простить все долги почившему.
Сам же он никому
Не мог ссудить ни куруша.
НАМОГИЛЬНАЯ НАДПИСЬ III.
Винтовку снесли на склад,
Обноски отдали другому.
Ни крошки хлеба — в его котомке,
Стерлись губ отпечатки с фляги.
Подхватил и унес
Набежавший ветер:
Даже имени не уцелело, —
Сохранилось только двустишье,
Нацарапанное над плитой:
«Нестерпимы мученья разлуки,
Лучше смерть нам пошли,
Всеблагой!»
СТИХИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ СТАМБУЛУ.
АПРЕЛЬ.
Ты влюблен, ты не в силах
Писать стихи.
Стынет капелька на пере.
Но и как не писать?
Ведь апрель на дворе.
ЖЕЛАНИЯ И ПАМЯТЬ.
Желать — одно,
А вспоминать — другое.
Как жить, скажите,
В городе бессолнечном?
БУКАШКИ.
Не раздумывай,
Захоти — да и все.
С букашек бери пример.
ПРИГЛАШЕНИЕ.
Жду.
Приезжай же в такую погоду,
Чтоб и не вспомнилось о возвращенье.
МОИ КОРАБЛИ.
Лишь распахну букварь —
Парусные корабли
Плывут в чужедальные страны,
Плывут, в карандашных набросках,
Под алыми вымпелами.
Бумажное море, бурли!
Девичья Башня[177]
В моем букваре, —
И корабли.
ЭТИ ДИВНЫЕ ДНИ.
Доконали меня эти дивные дни.
Вот в такую погодку
Я службу оставил в конторе,
И куренье мне стало в охотку;
В такую погодку
Полюбил я, блуждал сам не своп,
Хлеб домой приносить забывал
И острее бывал
Мой недуг стиховой.
Доконали меня эти дивные дни.
ПРАЗДНИК.
Получен весь хлеб по карточке,
Уголь выбран по всем талонам.
Обезденежил ты? Ну и что же?
До завтра, считай, уже дожил,
А там что пошлет Аллах:
Авось не оставит в беде.
Крепись, мое сумасбродное сердце!
ПАРОВОЗНЫЙ ГУДОК.
Нет в этом городе у меня
Ни зазнобы, ни просто знакомых.
Я один.
Суетня, толчея.
Только заслышу гудок паровозный,
Сразу из глаз —
Два ручья.
ДАРОМ.
Жизнь нам дается даром.
Как не ценить даровщины?
Даром — небо и тучи,
Даром — холмы и лощины.
Дождь и распутица — даром.
Даром — дымки выхлопные,
Даром — узоры лепные
Над входами в кинотеатры
И вывески над тротуаром.
Вот брынза и хлеб — за денежки;
Даром — вода натощак.
Свобода — ценой головы;
Рабство бесплатно, за так.
Жизнь нам дается даром.
РАДИ ОТЧИЗНЫ.
Чего не сделаешь ради отчизны!
Кто жизнь отдает, кто — другим в назиданье —
Речь произносит на заседанье.
ДЫРЯВЫЕ СТИХИ.
Кафтан твой дыряв, и минтан[178] твой дыряв.
Карман твой дыряв, и пола, и рукав.
Совсем прохудился ты, брат,
В решето превратился ты, брат.
СТИХИ О БЕЗДЕНЕЖЬЕ.
Мимо провозят айву из Стамбула, мимо везут гранаты.
Любимая нежно ко мне прильнула, глаза ее — словно агаты,
Глаза ее плутоваты,
А карманы мои пустоваты.
Заимодавцы ломятся в двери: денежки им подавай.
Вай, вай!
Дела мои плоховаты.
ФАЗЫЛ ХЮСНЮ ДАГЛАРДЖА. Перевод М. Ваксмахера.
Фазыл Хюсню Дагларджа. — Родился в 1914 г. в Стамбуле. Окончил военное училище. Служил в турецкой армии. В 1950 г. вышел в отставку. Работал в министерстве труда. В 1960 г. открыл книжный магазин, владельцем которого является и по сей день.
Первый свой сборник — «Мир, начертанный в воздухе» — Фазыл Хюсню выпустил в 1935 г. С того времени вышло более сорока его поэтических сборников, среди них «Ребенок и бог» (1940), «Муравей из Сиваса» (1951), «Асу» (1955), «Хайди» (1969) и др.
В 1947 г. Дагларджа был удостоен золотого венка на ежегодном поэтическом фестивале в югославском городе Струге.
МУРАВЕЙ ИЗ СИВАСА[179].
[179].
Струился бурный
Кызылырмак,
А под столбом телеграфным
Спокойный, как время,
Шел муравей
Из Сиваса.
На том берегу реки
Громко ржали
Гнедые кони.
Муравей их песен
Не слышал,
Не знал, куда они скачут.
Шорох его спокойных шагов
Был слышен
Травам.
Долгой дорогой голода
Шел по земле
Муравей из Сиваса.
Он шагал уверенным шагом, и было ясно,
Что знакомы ему
Долины, горы и воды.
Он покинул других муравьев.
К другим муравьям
Шагал он.
Неутомим, усерден и работящ,
Он был такой же, как муравьи
В Африке, в Китае, в Париже.
По черной земле
Шел муравей,
От причуд судьбы независим.
Не ведал ни дум,
Ни судебных тяжб,
Но бессонницу все же ведал.
По черной земле
За пшеничным зерном
Шел муравей из Сиваса.
ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ НАМ.
Угасает еще один день
Борьбы и работы,
Наши руки в грязи,
Гудят от усталости ноги,
Мы собираемся на чердаке —
Ахмед, Мехмед, Мустафа, Али,
И где-то вдали затухают
Отголоски дневной суматохи,
И словно и не было вовсе
Ни хозяина,
Ни объявлений в газете,
Ни Фатьмы, ни Айше, —
Все уходит куда-то,
И нашими безраздельно
Становятся
Хлеб и ночь.
РОЖДЕНИЕ.
Рождает — сейчас или завтра, —
В дыхании пальмовых листьев,
Рождает в высоких муках,
В великое время
Ночи,
Гор, камней
И потоков,
Травы, и огня,
И ветра,
Рождает в лесах африканских —
Человек чернокожий рождает
Черную плоть живую,
И в ладонях ее горячих
Расправляет крылья
Свобода.
НА СТРАЖЕ.
Что все мы братья, все мы братья,
Что все мы первенцы Земли,
Мы проглядели,
Прозевали,
Мы мимо истины прошли.
Что все мы братья, все мы братья
И хлебом вскормлены одним,
Об этом нам
Шептали травы,
Но не поверили мы им.
Что все мы братья, все мы братья,
У всех у нас одна звезда,
Мы до сих пор
Не понимаем,
Хоть смотрим в небо иногда.
БЕЗРАБОТНЫЙ.
«Уж такая судьба у меня», — говорил
Тот, кто под небом открытым жил,
И работы три года уже не имел,
И хлеб во сне только ел.
От голода злого он мучился так,
Что собственный съел кулак.
Легкий ветерок прохладу принес,
Прохладе собака подставила нос,
Но голода людей, к сожаленью, пока
Утолять не умеет рука ветерка.
А он так мучительно есть хотел,
Что губы свои он съел.
В ужасе вздрогнула ночь сама,
И безработного скрыла тьма,
И ни люди, ни звери, ни даже Аллах
Не видали, как корчился он в кустах.
А он так яростно жить хотел,
Что свое он дыханье съел.
ЦВЕТОК.
За окнами ночь густела,
Я был одинок, одинок,
А в темноте раскрывался
Сна моего цветок.
Он раскрывался медленно,
Он спящим цветком казался,
Он далеких воспоминаний
Лепестками касался.
Казалось, он рос без прошлого
И был от меня далек,
Но к будущему тянулся
Тоненький стебелек.
Теперь он, должно быть, раскрылся
Или, может быть, спит, как ты,
И ночь над ним раскрывает
Цветок темноты.
В ДЕНЬ СВЕТОПРЕСТАВЛЕНИЯ.
В день светопреставления спросят меня:
«Почему ты самым первым пришел?»
А я отвечу: «Я очень спешил,
Я надеялся увидеть ее».
В день светопреставления спросят меня:
«Почему в мозолях руки твои?»
А я отвечу: «Потому что для нее
Я огромные песни слагал».
В день светопреставления спросят меня:
«Почему твое сердце в крови?»
А я отвечу: «Наверно, потому,
Что все еще люблю ее».
В день светопреставления спросят меня:
«Ты глаза свои куда девал?»
А я отвечу: «Мы расстались с ней,
И глаза мои остались у нее».
ТЯЖЕСТЬ.
Вы долгую жизнь проживете,
Если не понимаете,
О чем говорят горы,
О чем с темнотою шепчутся звезды,
О чем на рассвете толкуют птицы,
Если не любите
Землю, скалы и реки,
Ночи, дни, вечера
И мысли,
Если не улыбаетесь
Облаку, морю, лесу…
Вы долгую жизнь проживете.
ОКТАЙ РИФАТ. Перевод А. Ибрагимова.
Октай Рифат. — Родился в 1914 г., в семье губернатора Трабзона. Окончил анкарский лицей. Учился на юридическом факультете Анкарского университета, затем на факультете политических знаний Парижского университета. По возвращении на родину работал в департаменте печати. Занимается адвокатской деятельностью.
Октай Рифат — один из основоположников новой поэзии. Он автор книг: «Стихи о нашей жизни и смерти, о любви и бродяжничестве» (1945), «Есть руки у свободы» (1966), «Стихотворения» (1969), «Новые стихотворения» (1973) и др.
БЛАГОДАРНОСТЬ.
Спасибо вам,
Мое пальто, ботинки,
Порхающие на ветру снежинки.
Тебе спасибо, день,
В слепящей белой мгле.
Я счастлив, что ступаю по земле,
Но радуюсь и небу над полями,
И звездам, неизвестных мне названий,
И вам, вода и пламя.
ЛАСТОЧКА.
Увижу столб телеграфный,
Тотчас о ласточке вспомню,
И душа порывается в странствие;
А ведь некогда ласточка
Наводила на мысли о доме.
ЦВЕТЫ.
На подоконнике моем — домашний сад:
Цветы, омытые голубизной, стоят.
И вижу: с зонтиком цветастым на мой зов
Прекраснейшая изо всех цветов
Спешит ко мне сквозь летний зной и чад.
Не вспоминать, не думать ни о ком!
Но вновь и вновь спирает горло ком.
КАРАВАН.
Есть у всех у нас рот и нос,
Есть у всех голова на плечах.
Всем нам ясно, как божий день,
Где правда, где ложь в речах.
Караван все в пути и пути.
Наши баи — верхом, мы пешком.
Отощали мы, сил нет идти,
Кто завшивел, кто стал плешаком.
Ах, родные края широки,
Ах, родные края велики.
Бродят жирные овцы по ним
И откормленные телки.
Мы народ трудовой, землячок,
Но едим не инжир с молоком,
Черствый хлеб мы едим, да такой,
Что его не разбить и киркой.
Нет, как видно, счастливой нам доли,
На ладонях — мозоли, мозоли.
Друг, скажи, отчего, отчего
Все нутро изнывает от боли.
«Чтоб вы сдохли! — бормочет шайтан. —
Для чего вам и жить, окаянным?»
Отвяжись ты, проклятый смутьян!
Жизнь — какая ни есть — дорога нам.
ВЕРА В СВОБОДУ.
Вера в свободу, меня согрей.
Согрей меня в эту ночь ледяную.
Одеяло все в дырах, сбилась подстилка.
А на улице — мрак,
А на улице — ветер,
Гнет и насилье,
Убийство и ссылка.
Вера в свободу, придвинься ближе.
Согрей меня в эту ночь ледяную.
В своих объятьях меня согрей.
Прижмись ногами к ногам вплотную,
Своим покрывалом окутай скорей.
Вера в свободу,
Вера в свободу,
Согрей меня в эту ночь ледяную.
ГОЛУБЕЦ.
Вы уверяете, что этот голубец
Нафарширован сплошь
Свободой, равенством и братством.
Кто вам поверит?
Разве что глупец.
В нем — только ложь!
УЛИЧНЫЕ ТОРГОВЦЫ.
Разносчики, звонкие, как соловьи,
Войдите. Распахнуты двери мои.
С корзинами вашими, где помидоры,
Где яблоки, где виноград и гранат,
Внесите и солнце. Видеть я рад
За вашими спинами синие горы.
А ты, мальчуган, продавец новостей, —
Любитель проказ и веселых затей, —
Ты, гордо украсясь мальвовой веткой,
На велосипеде шайтаном летишь.
Верни мне ушедшее детство, малыш
В дырявых ботинках и с черной каскеткой.
Лишь ночью, когда в голубеющий жгут
Совьется дымок над трубою, — уйдут
Молочник, на чьем ишаке терпеливом
Каталась весь день, гомоня, детвора,
И бубличник, — чтоб возвратиться с утра!
Удачи Халил Ибрагим ниспошли вам!
НА МОЕЙ ОСИ.
Вы на моей оси вращаетесь — не мир.
Одно мое лицо — ваш день, другое — ночь.
НОЧИ И ДНИ.
Ночи — при лампе, а дни — на рыбацкой вышке
Или с сетями; от близости моря
Заголубели глаза.
ЦИРКАЧ.
Ты стоишь на пороге. На дереве кот затаился.
Облако стынет на крыше. Зеленое, с прожелтью,
Небо купается в море. Пора начинать!
Враскачку выходят мои слоны цирковые,
Волки — под ними, местами меняются рыбы
С оленями. Я урезаю свой день. Полумесяцем
Увенчан огромный, в серебряных блестках, шатер.
Раскачиваясь на трапеции алых лучей,
Внезапно взвиваюсь под купол и — легкий листок —
На запад переношусь — и опять на восток.
Сгущайся же, тьма, все плотней и плотнее сгущайся,
Близкий восход возвещая.
РАЗОЧАРОВАНИЕ.
Если вкус потерял ко всему, словно болен,
Если каждый кусок застревает в горле,
Если слезы как ливень, и по мелочам
Раздражаюсь, обидчивый, мнительный, нервный, —
Если вдруг я темнею в досаде и гневе, —
Если даже на море смотрю безразлично, —
Это ты виновато, прогнившее общество, — ты
С мрачным лицом палача.
ПЕРВОЕ ОБЛАКО.
Первое облако выплеснулось из тьмы,
Тень уронило — светлее, чем солнце, — на стол.
Только что синий — зарделся небесный простор.
Кто это брызнул гранатовой кровью на стол?
Пламя любви, пережившей разлуку и годы,
Лица нам всем опаляло. Пахнуло прохладой,
Розы осыпались лепестками на стол.
Вспыхнула лампа. Гореть ей всю ночь, до рассвета.
Верную дружбу мы выложили на стол.
ЯБЛОКО.
Я в этом городе самый приметный.
Безбожник, чье имя у всех на устах.
Живу, как на старой картине, поблекший.
День мой расставил силки за окном.
Богатый улов попадает в них:
Женщины, дети, хромцы-попрошайки,
Кошки и птичьи трескучие стайки,
Немного листвы и немного света.
Смотришь — и в памяти четкий оттиск.
А вот и нежданный гость примахал,
Яблоко ест, нахал.
ГОРОЖАНИН И КРЕСТЬЯНИН.
Вижу: сидит погруженный в раздумье.
Глаза — как у раненой лани. Щебечут
Ласточки на проводах. Облака.
Убаюкивают колыханием сонным
Купы миндальных деревьев под солнцем.
Всем он готов поделиться, крестьянин:
Любовью и сыром соленым из торбы.
Легкий толчок — распахнулась калитка.
За нею, по склону, сады и беседки.
Сбил три инжира я длинной камышиной.
Упали и лопнули: алая кровь
С крошкой табачной смешалась — и кофе.
Козьей тропинкой, туманной и тесной,
Следом за песней, взбираемся в горы,
К людским поселеньям. Небо все ближе,
В воздухе — запах раздавленных трав.
ГОЛУБЬ.
Внезапно, будто вспугнутый котом,
Из-под карниза вылетает голубь;
Он вьется в вышине — за кругом круг.
А мы, с рогаткой старой наготове,
Полуохотники-полудобыча,
В засаде притаились — и ни звука.
Пушинками струится с неба радость.
Но времени колеса повернулись —
И вот уже наш сад въезжает в вечер,
А солнце лижет красным языком
Поджатые в полете лапки птицы.
ФИНЛЯНДИЯ.
ЭЙНО ЛЕЙНО.
Эйно Лейно (Армас Эйно Леопольд Леннбом, 1878–1926). — Поэт, прозаик, драматург, переводчик. Стихотворения Эйно Лейно отличает невиданное до него в поэзии Финляндии богатство размеров, легкость, с которой он пользовался финским языком для выражения самых разнообразных чувств и состояний души, музыкальность, широта тем.
Основные сборники стихов: «Мартовские песни» (1895), «Сто и одна песня» (1898), «Священная весна» (1901) и др. Автор нескольких романов, повестей и рассказов, а также нескольких серий пьес, в том числе — пьесы на сюжет «Калевалы». Перевел на финский язык «Божественную Комедию» Данте, «Сида» Корнеля, «Федру» Расина, «Жертвопесни» и «Садовника» Тагора, произведения Гете, Шиллера, Гейне, А. Франса и др. На русском языке издана книга Эйно Лейно «Избранное» (1959), куда вошли стихи и пьесы.
СЕРДЦЕ. Перевод с финского В. Брюсова.
1.
«Сердце! Что пилишь?
Или четыре
Пилишь доски?
Будет меж ними
Сладостно мне почивать!»
«Режу железо,
Цепи ломаю,
Чтобы твой дух,
Волен, вознесся,
Волен — несчастный твой дух!»
2.
«Сердце! Что шепчешь?
Или о дивной
К солнцу тропе,
Той, над горами,
К звездам далеких небес?»
«Песню пою я
Пропастей мрачных,
Смерти и мук,
Мук несказанных,
Песню о счастии гордых!»
ЭДИТ СЁДЕРГРАН. Перевод со шведского И. Бочкаревой.
Эдит Сёдергран (1892–1923). — Родилась в Петербурге; ее ранние стихи отмечены влиянием Гейне, а также К. Бальмонта и И. Северянина, позднее — Вильхельма Экелунда и немецких экспрессионистов. В свою очередь, личность Сёдергран и ее творчество уже в конце 1910-х годов оказали сильное влияние на современных ей финских поэтов, в том числе — на Эльмера Диктониуса. Ее поиски в области свободного стиха создали предпосылки для развития новой поэтики в Финляндии в 20-х годах, а с 30-х годов ее стихи играют важную роль в формировании новой поэзии Швеции.
СЕВЕРНАЯ ВЕС НА.
Воздушные замки растаяли, как снега.
Грезы мои ушли, как вешние воды.
Ничего не осталось из того, что люблю —
Только синее небо и редкие бледные звезды.
Тихо шевелится ветер в деревьях.
Пустота отдыхает. Вода не слышна.
Ель вековая не спит, и грезится ели —
Белое облако поцеловала она.
ДВЕ ДОРОГИ.
Не ходи больше старой своей дорогой,
Там грязно;
Проходят мужчины, они говорят об удаче,
Глаза у них ненасытны,
А дальше на этой дороге лежит мертвая женщина,
И стервятники рвут на куски ее тело.
Ты ведь уже нашел другую дорогу,
Там чисто;
Проходят женщины в черном, они говорят о страданье,
И одинокий ребенок играет цветами мака,
А дальше на этой дороге бледный святой
Попирает ногой побежденного им дракона.
НИЧЕГО НЕТ.
Оставь, малыш, этого нет на свете,
Повсюду бегущие рельсы, дымы, леса.
Где-нибудь в дальних странах
Небо синей и на каменных стенах — розы,
Или пальмы, а ветер теплей, чем у нас.
Ну и что?
Все равно ничего нет, кроме заснеженных елей.
Все равно ничего нельзя целовать от горячего сердца,
Вот почему сердца остывают с годами.
Но ты мне ответил, малыш, что кровь у тебя пылает,
Что смерть — лучше бесцветной жизни.
Смерть? А ты знаешь ее тошнотворный запах?
Знаешь, что смерть от своей руки — стократ тошнотворней?
Пока ты живешь, сумей полюбить ползучие дни болезни
И жгучие годы жажды —
Они мгновении, как цветенье пустыни.
ЦЫГАНКА.
Я цыганка, чужачка, я неизвестно откуда,
В темных руках принесла я карты и тайны.
Тянется день за днем, однообразно, пестро.
Упрямо смотрю я в лица людей:
Знают они, что карты мои обжигают?
Знают они, что фигуры на картах — живые?
Знают они, что каждую карту мечет судьба?
Знают они, что у каждой карты, которая падает из моих рук, —
Вереница значений, уходящая в бесконечность?
Никто не знает, что эти руки исступленно чего-то ищут.
Никто не знает, что эти руки давным-давно ниспосланы в мир.
Что эти руки знают на ощупь каждую вещь на земле,
Но и во сне они тянутся, чтобы схватить.
Других таких рук нет на свете.
Эти странные хищные руки,
Сильные, в кольцах, —
Я их прячу под красным платком из упрямства или от скуки.
Эти темные очи глядят в бесконечной тоске.
Эти красные губы горят в негасимом огне.
Эти праздные руки вершат свое дело,
Когда отблески зарева освещают черную ночь.
ДЕРЕВЬЯ МОЕГО ДЕТСТВА.
Деревья моего детства стоят высоко над травой
И головами качают: «Что с тобой сталось!»
Стволы как упреки: «Тебе здесь не место!
Ты ведь была ребенком и должна знать все,
А не можешь справиться с пеленами болезни[180].
Ты — человек, чужой и враждебный.
А ребенком ты говорила с нами,
И мудрыми были твои глаза.
Мы откроем тебе тайну твоей жизни.
Ключ ко всем тайнам — в малиннике на пригорке.
Будем хлестать тебя, сонную, по лбу —
Очнись, полумертвая, хватит спать».
ЭЛЬМЕР ДИКТОНИУС.
Эльмер Диктониус (1896–1961). — Поэт, прозаик, переводчик, критик. Писал на шведском и финском языках. Один из создателей пролетарской поэзии в скандинавской литературе. На формирование идейных взглядов Диктониуса большое влияние оказала его дружба с Отто Куусиненом.
Поэтические сборники Диктониуса: «Мое стихотворение» (1921), «Колючее пламя» (1924), «Каменный уголь» (эту книгу отказались издавать в Финляндии, и она вышла в коммунистическом издательстве в Швеции в 1927 г.), «Трава и гранит» (1936), «Ноябрьская весна» (1951) и др. Диктониус перевел на шведский язык произведения финских классиков Алексиса Киви и Эйно Лейно. На русском языке был издан в СССР сборник стихотворений Диктониуса «Колючее пламя» (1969), опубликовано несколько рассказов.
ПРЕДЧУВСТВИЕ. Перевод со шведского О. Чухонцева.
В глубинах мозга зреет семя,
Высасывая жизни суть,
И я уйду в последний путь,
Принявши смерть, как воскресенье.
Я знаю — ни один цветок
Не встанет над моей могилой,
Лишь снег падет, да ветер стылый,
Но и под снегом бродит сок!
ХИТРОУМНЫЕ. Перевод со шведского Л. Тоома.
В больших городах живут хитроумные люди.
Они мостят мостовые бетоном,
Чтоб не могли пролетарии
Возводить из торцов баррикады.
Они продают билеты в метро
По такой высокой цене, чтоб рабочим
Было не по карману
Добираться до арсеналов,
До которых пешком не дойти.
В центре они разбили
Бульвары такой ширины,
Чтобы в ряд умещалось двадцать орудий.
Радуйся, пролетарий! Твои города
Прибрали к рукам хитроумные люди.
НАШ ПРОВИАНТ. Перевод со шведского Юнны Мориц.
Сколько нас? Горстка? Две?
Но, видимо, больше, чем надо,
Если мы до истерик ссоримся и никак не столкуемся,
Кто какие наденет калоши
В тот назначенный час, когда
Мы пойдем по скользкой тропе в небесное царствие.
Будто в таком пути
Нужнее всего калоши?
Ведь придется идти босиком,
Сбивая подошвы в кровь.
Иначе
Никак не дойти.
Босые ноги, ясная голова, четкая цель —
И сердце свое не забудь под жилетом:
Вот наш единственный транспорт
И наш провиант.
ВОРОТА. Перевод со шведского И. Бочкаревой.
Стары и серы
Ворота вечности.
Стоят на торной дороге.
Заросли бурьяном.
Море ржи,
Васильковые брызги.
А выше идут облака —
Наверное,
В дальние страны.
И люди здесь не нужны.
КАТРИ ВАЛА.
Катри Вала (1901–1944). — Своим творчеством Катри Вала дала толчок возникновению нового течения в финской поэзии, главные черты которого — открыто демократическая направленность и жизнеутверждающее начало. Катри Вала была одним из основателей Общества финско-советской дружбы; активно боролась против фашизма и милитаризма.
Сборники стихов Катри Вала: «Далекий сад» (1924), «Синяя дверь» (1926), «На причале земли» (1930), «Возвращение» (1934), «Горит дерево гнезд» (1942). На русском языке издана книга избранной лирики Катри Вала «Далекий сад» (1966).
ПЕРВЫЙ СНЕГ. Перевод с финского Новеллы Матвеевой.
Я забыла о белизне,
Глядя на густые краски осени,
И однажды утром белизна
Расстелилась передо мной.
Я остановилась, удивленная:
На моей щеке снежинки
Ласково распались
В прохладный запах.
И покой белизны, как напиток,
Утолил мою жажду.
Будто бы творец, листая книгу жизни,
Закрыл осеннюю страницу,
Написанную золотом и кровью,
И открыл другую, новую страницу:
Белую равнину.
Чтобы зимнее солнце
Бледными лучами
Написало на ней прохладные песни:
Песни,
Подобные снежинкам.
РАЗРЫВ. Перевод с финского Юнны Мориц.
Мы решили забыть о своей любви
И решили врозь по земле скитаться,
Не вспоминая имен друг друга.
Какое безумие в этом, боже!
Разве рубец от сорванной ветки
Может исчезнуть потом бесследно!
Громко смеясь поблекшими ртами,
Мы разорвали красную лилию
И растоптали горящий цветок.
Но красная лилия умирать не хотела.
Было страшно смотреть на ее усилия.
Пламенея, дрожала она под ногами,
И поднимался растерзанный стебель,
Как вопли немого о помощи неба.
И свежий снег покраснел от пролитой крови,
И деревья окутал кровавый туман.
В красном тумане мы взгляды скрестили,
Это были взгляды убийц,
И мы отвернулись одновременно —
Были ужасны наши глаза.
БОГ И Я. Перевод с финского Новеллы Матвеевой.
Я целый день листала две большие книги
О бабочках, цветах, о золотых жуках…
Я читала, затаив дыханье,
И когда на миг очнулась, —
Увидела, как ты, создатель,
Через мое плечо заглядываешь в книгу.
И вдруг
Я тебя полюбила.
Наверно, ты был еще молод,
Когда все это создал…
Как счастлив ты был,
Когда,
Сверкая алмазами
И крупинками золота,
Все это
Выпархивало из твоих искусных пальцев!
Как много создал ты красивых безделушек!
…Потом ты создал человека,
А человек придумал много зол:
Различных партий, армий…
Как это надоело!
О, если бы ты все еще был молод!
И, только что создав цветы и мотыльков,
Подошел ко мне, таинственно сияя,
И взял бы меня за руку, как старший брат — сестру,
И повел бы меня смотреть
Твои творенья!
Я глядела бы во все глаза.
А ты —
Ты был бы чуточку польщен.
Я листаю две большие книги,
А ты, создатель,
Глядишь откуда-то издалека
И печально улыбаешься, вспоминая время,
Когда еще был ты молод.
НОЧНОЕ НЕБО. Перевод с финского Новеллы Матвеевой.
Синее поле небес
Бурями вспахано,
Звездным овсом серебристым
Засеяно —
Зябким и редким
Звездным овсом…
Кто
Жнецом назовется?
Кто возьмется за лунный серп?
ФРАНЦИЯ.
СЕН-ПОЛЬ РУ.
Сен-Поль Ру (псевдоним; наст. имя — Поль-Пьер Ру; 1861–1940). — С начала 80-х годов участвовал в изданиях символистов, но, в отличив от них, проявлял интерес к современности, к общественному и техническому прогрессу. Автор поэмы «Лазарь» (1886), сборников «Козел отпущения» (1889), «Святилище странника» (в трех частях — 1893, 1904, 1907), «Древности» (1908) и яр. Творчество Сен-Поля Ру послужило связующим звеном между прогрессивными устремлениями позднего символизма и передовой поэзией XX в. В 1940 г. гитлеровцы ворвались в дом поэта в Бретани, тяжело ранили его дочь, уничтожили все его поздние произведения; через несколько дней Сен-Поль Ру умер. Трагическая смерть престарелого поэта в результате фашистского вандализма послужила одним из толчков к консолидации литературы Сопротивления во Франции.
НАДГРОБНОЕ СЛОВО ПОЭТАМ. Перевод В. Козового.
Без спешки, господа могильщики, без спешки!
Не торопитесь, ибо этот гроб не то что прочие, где коченеет прах, спеленатой покоящийся глыбой: в нем заколочено сокровище, навечно укрытое жемчужными крылами, какие пламенеют среди ночи на нежно-млечных ангельских плечах.
Без спешки, господа могильщики, без спешки!
Не торопитесь, ибо он наполнен, этот короб, стозвучным хором внятного
Содружества вещей: гирлянды, пчелы, ароматы, цикады, гнезда, плоды, шипы,
Сердца, колосья, гроздья, когти, клекот, чешуя, химеры, сфинкс, уборы, зеркала,
Амфоры, чаши, кольца, трели, тирс, аккорды, бубенцы, колокола и колокольцы,
Павлиний крик, ветрило, посох и ярмо, сума и диадема, ферула, цепь Е стрелы, меч
И крест, ошейник, змеи, траур, молния и щит, улитка, урна и трофеи, сандалии,
Котурны, паруса, зарница, лавры, пальма, радуга, роса, улыбка, слезы, солнце,
Птицы, поцелуи, — и все это так зыбко, что — лишь одно неверное движенье, — истаять
Может или же разбиться.
Без спешки, господа могильщики, без спешки!
Не торопитесь, ибо, как ни мало оно — по росту человека, — это вместилище смогло
Под покрывалом собрать бесчисленные сонмы и в тишине бездонной сочетало, быть
Может, больше образов и лиц, чем храм, арена, форум и дворец; не всколыхните
Символ их нетленный, дабы не потревожить покой вселенной.
Без спешки, господа могильщики, без спешки!
Не торопитесь, ибо, апостол света, был он Прекрасной верным паладином, которой
Он служил, не внемля ни наветам, ни ропотам ослиным и глумливым; и вы отравите
Единой душу горьким зельем, коль слишком торопливо уложите ее возлюбленного в
Землю.
Без спешки, господа могильщики, без спешки!
Не торопитесь, ибо он был исполнен, братья, не только наших доблестей, но также
И пороков; и в этом тлене суждено нести вам все ступени человеческой природы —
До высшей и последней, где, столкнув два этих антипода, он высек, гений, искру
Той звезды, что рано или поздно, нас вывести должна к победе и плоды ее златит
Уже за дымкой горизонта.
Без спешки, господа могильщики, без спешки!
Не торопитесь, ибо он был, поэт, возможно, божеством, и мы соприкасались с ним,
Его жезла не замечая; он расточал у наших стоп небесный жемчуг и иссоп, а мы,
Пируя, чешую и желчь ему, шуту, швыряли; да, богом был он, чья утрата в нас
Пробудила бездны мрака, и потому-то, нет сомнений, ваши орудия печали должны с
Минуты на минуту повлечь затмение светила.
Без спешки, господа могильщики, без спешки!
Но что это, по совести признайтесь: не видимость ли злая? Ведь прошли мы чередой
По горестной аллее не за останками, о праха казначеи; вы в эту яму ворох роз
Сейчас опустите, и, значит, довелось увидеть нам не погребенье, нет — апофеоз! и
Нам позволено отсюда узреть перед собою чудо. Скажите же, могильщики, ведь этот
Герой не расставался с жизнью, — нет, он не примет смертного венца, пока душа его
Как прежде дышит там, в его строках и на его страницах, и будет чаровать сердца
Земли наперекор гробницам и векам.
Без спешки, господа могильщики, без спешки!
Смиренный, он хотел последовать закону всех существ, отдать последний вздох и
Умереть, как все мы, — дабы затем, гордясь божественной короной человека, перед
Толпой ожить коленопреклоненной; вам говорю, внимайте и молчите, здесь перед
Вами он воскреснет, наш Учитель, среди окаменевших лиц, чей мир смоковница
Хранит и кипарис, — воскреснет и стряхнет он времени приметы, чтоб, возвратясь
Домой, мы с этого момента его прообраз находили в граните памяти людской; чтоб
Завтра среди роз на постаментах славы он был во весь свой рост изваян величаво
Неколебимо-трепетной судьбой.
Без спешки, господа могильщики, без спешки!
АНРИ ДЕ РЕНЬЕ.
Анри де Реньеа (1864–1936). — В «Старинных и романтических стихах» (1887–1890), «Пейзажах» (1887) и др. выступил как последователь парнасцев и символистов. Ощущение скоротечности всего сущего, стремление опоэтизировать и увековечить хрупкие формы бытия характерны для сборников «Глиняные медали» (1900) и «Город вод» (1902). В сборниках «Крылатая сандалия» (1906), «Неугасимое пламя» (1928) и др. звучит идеализация былых эпох. А. де Ренье является также автором многих романов и сборников новелл.
ЭПИТАФИЯ. Перевод Бенедикта Лившица.
Я умер. Я навек смежил глаза свои.
Вчерашний Прокл[181] и ваш насельник, Клазомены[182],
Сегодня — только тень, всего лишь пепел тленный,
Без дома, родины, без близких, без семьи.
Ужель настал черед испить и мне струи
Летейских вод? Но кровь уж покидает вены.
Цветок Ионии, в пятнадцать лет надменный
Узнав расцвет, увял средь вешней колеи.
Прощай, мой город! В путь я отправляюсь темный,
Из всех своих богатств одной лишь драхмой скромной
Запасшись, чтоб внести за переправу мзду,
Довольный, что и там в сверкающем металле
Я оттиск лебедя прекрасного найду,
Недостающего реке людской печали.
* * *
«Приляг на отмели. Обеими руками…». Перевод М. Волошина.
Приляг на отмели. Обеими руками
Горсть русого песку, зажженного лучами,
Возьми и дай ему меж пальцев тихо течь.
А сам закрой глаза и долго слушай речь
Журчащих волн морских, да ветра трепет пленный,
И ты почувствуешь, как тает постепенно
Песок в твоих руках. И вот они пусты.
Тогда, не раскрывая глаз, подумай, что и ты
Лишь горсть песка, что жизнь порывы воль мятежных
Смешает, как пески на отмелях прибрежных.
ОСЕНЬ. Перевод И. Эренбурга.
Люблю тебя, осень, твой пышный венец,
И золото листьев, и их багрянец —
Апрель развернул их в сияющий день,
И август под ними искал себе тень,
В осенние полдни, ноябрь, это ты
То медью, то золотом кроешь листы.
Идешь ты по комьям изрытой земли,
И шаг твой стихает то здесь, то вдали.
Средь скучных туманов, тревог и забот
В тебе неостывшее лето живет.
Под дымкой осенней твоей тишины
Я чую уснувшее сердце весны.
САД ПОД ДОЖДЕМ. Перевод Э. Линецкой.
Окно открыто. Дождь струится,
И капли бережно стучат,
Чтоб не спеша успел напиться
Дремотный, посвежевший сад.
Дождь деловито моет ивы,
Играет влажною листвой,
И расправляет плющ лениво
Затекший позвоночник свой.
Трава трепещет. На дорожке
Шуршит песок, как будто там
Незримые шагают ножки
По гравию и по цветам.
Сад вздрагивает и бормочет,
Доверчиво грозой пленен,
А ливень тонкой сетью хочет
Связать с землею небосклон.
Закрыв глаза, стою, внимая,
Как мокрый сад поет в тиши,
Как льется свежесть дождевая
Во тьму взволнованной души.
ОРАНЖЕВАЯ ЛУНА. Перевод Э. Линецкой.
Наш долгий день окончился сияньем
Оранжевой луны меж тополей
И сонным, успокоенным дыханьем
Реки, и влажных листьев, и полей.
Не знали мы, когда брели по зною,
И била молотками кровь в виски,
И пажити щетинились стернею,
И мучили сыпучие пески;
Не знали мы, когда любовь всходила,
Когда она сжигала все дотла,
Когда она уже едва чадила,
Что дорога нам будет и зола,
Что душный день овеется дыханьем
Реки, и влажных листьев, и полей
И кончится задумчивым сияньем
Оранжевой луны меж тополей.
ПОЛЬ КЛОДЕЛЬ.
Поль Клодель (1868–1955). — Многолетнее пребывание на дипломатической службе (Китай, Япония, США и другие страны), знакомство с культурой и философией Дальнего Востока во многом повлияли на формирование поэта (сб. «Познание Востока», 1900; «Познание Времени», 1903). Не отрицая традиционной метрики, он пытался расширить ее возможности, превращая свои стихи в некое подобие торжественной литургии («Пять больших од», 1904–1908, и др.). Написал также ряд драм.
«Ты победил меня, возлюбленный! Мой враг…». Перевод Бенедикта Лившица.
Ты победил меня, возлюбленный! Мой враг,
Ты отнял у меня все способы защиты,
И ныне, никаким оружьем не прикрытый,
О Друг, я предстаю тебе и сир и наг!
Ни юный пыл Страстей, ни Разум, ни Химера,
На ослепленного похожая коня,
Мне не были верны: все предало меня!
И в самого себя во мне иссякла вера.
Напрасно я бежал: Закон сильней меня.
Впусти же Гостя, дверь. Раскройся пред единым,
О сердце робкое, законным господином,
Который бы во мне был больше мной, чем я.
О, сжальтесь надо мной, все семь небес! Заране
На зов архангельской трубы явился я.
Всесильный, праведный, предвечный судия,
Я жив и трепещу в твоей суровой длани!
ВЕРЛЕН. Перевод М. Кудинова.
I. СЛАБЫЙ ВЕРЛЕН[183].
[183].
Ребенок слишком большой и взрослеющий трудно, и полный угроз
И загадок,
Бродяга, с размашистым шагом, Рембо, что пускается в путь,
Порождая везде беспорядок,
Покуда свой ад не отыщет — такой совершенный, какой еще может
Земля даровать,
С палящим солнцем в лицо и с извечным приказом молчать.
Вот он появился впервые среди литераторов этих ужасных, в кафе,
Где царила беспечность,
Пришел, ничего не имея сказать, не считая того, что им найдена
Вечность,
Ничего не имея сказать, не считая того, что мир наш — не тот.
Лишъ один человек — среди смеха, и дыма, и кружек, и этих
Моноклей и спутанных грязных бород, —
Лишь один взглянул на ребенка и понял, кто перед ним,
Он взглянул на Рембо — и все кончено было отныне: растаял,
Как дым,
Современный Парнас и с ним вместе лавочка эта,
Где, как валики для музыкальных шкатулок, изготовляют сонеты.
Все разбито, все стало ничем — ни любимой жены, ни прежних
Объятий,
Только б вслед за ребенком этим идти… Что сказал он в угаре
Мечты и проклятий?
Наполовину понятно, что он говорит, но достаточно и половины.
Вдаль глаза его синие смотрят, и если беду навлекают, то в этом
Они неповинны.
Слабый Верден! Оставайся отныне один, ибо дальше не мог ты идти.
Уезжает Рембо, не увидишь его никогда, и в углу твоем можно
Найти
Только то, что осталось теперь от тебя — нечто полубезумное,
Правопорядку грозящее даже,
И бельгийцы, собрав это нечто, в тюрьме его держат, под стражей.
Он один. Он лишился всех прав и душой погрузился во мрак.
От жены получил он решенье суда: расторгается брак.
Спета Добрая Песня, разрушено скромное счастье его.
На расстоянии метра от глаз, кроме голой стены, — ничего.
Мир, откуда он изгнан, — снаружи. А здесь только тело Поля
Верлена,
Только рана и жажда чего-то, что не ведает боли и тлена.
Так мало оконце вверху, что и свет в нем душу томит.
Неподвижно весь день он сидит и на стену глядит.
Место, где он теперь заключен, от опасности служит защитой,
Это замок, который на муки любые рассчитан,
Он пропитан весь кровью и болью, как Вероники одежды…[184]
И тогда наконец этот образ рождается, это лицо, словно проблеск
Надежды,
Возникает из глуби времен, эти губы, которые не говорят,
И глаза эти, что погружают в тебя свой задумчивый взгляд,
Человек этот странный, который становится господом-богом,
Иисус, еще более тайный, чем стыд, и поведавший сердцу о многом.
Если ты попытался забыть договор, что тогда заключил,
О несчастный Верлен, как же ты не умел рассчитать своих сил!
Где искусство — добиться почета со всеми своими грехами?
Их как будто и нет, если скрыть их сумели мы сами.
Где искусство — по мерке житейской, как воск, Евангелье мять?
Грубиян безобразный, ну где тебе это понять!
Ненасытный! Немного вина в твоем было стакане, но густ был
Осадок на дне,
Тонкий слой алкоголя — и сахар поддельный в вине,
Было сладости мало — но желчи хватало вполне.
О, как винная лавка редка по сравненью с больничной палатой!
И как редок печальный разгул по сравненью с твоей нищетою
Проклятой!
Двадцать лет в Латинском квартале была она так велика, что
Скандалом казалась скорей.
Нет земли и отсутствует небо, — ни бога нет, ни людей!
И так до конца, покуда тебе не позволено будет с последним
Дыханьем
Погрузиться во тьму, повстречаться со смертью согласно с твоим
Пожеланьем:
У проститутки в каморке, прижавшись лицом к половице,
В наготе своей полной, подобно ребенку, когда он родится.
II. НЕИСПРАВИМЫЙ.
Он был матросом, не взятым на борт корабля и внушающим
Местным властям спасенье.
В кармане его — табака на два су, билет до Парижа, бельгийская
Справка из мест заключенья.
Теперь он моряк сухопутный, бродяга, чей путь километров лишен.
Адрес — не установлен, профессии — нет. «Поль Верлен,
Литератор…» Известно, что он
В самом деле стихи сочиняет: но Франс к ним суров, и потом
Вслед за ним повторяли:
«По-французски пишут затем, чтобы вас понимали».
И, однако, настолько забавен чудак, что однажды его описал он
В романе своем[185].
Для студентов же этот чудак — знаменитость, его иногда угощают
Вином.
Но вот то, что он пишет, читать невозможно без раздраженья:
Он нередко размер нарушает, слова у него не имеют значенья.
Не для него литературные премии, не для него благосклонной
Критики взгляд.
Разве можно любителя этого ставить с профессионалами в ряд?
Каждый лезет с советами… Сам виноват, если с голоду он умирает.
Мистификатор несчастный, он в сети свои никого не поймает.
Деньги? На профессуру их тратят немало… А тут, как на грех,
Много этих господ, что читать о нем лекции будут потом, наградят
Орденами их всех.
Человек этот нам неизвестен, мы не знаем, кто он такой.
Старый лысый Сократ[186] недоволен, ворчит он, тряся бородой;
Потому что полфранка стоит абсент, а ему, чтоб напиться, надо
Вчетверо больше платить.
Но ведь пьяным быть лучше, чем на любого из нас походить.
Потому что отравлено сердце его с той поры, как его погубил
Голос женщины, или ребенка, или, может быть, ангела, что с ним
В раю говорил.
Пусть Катюль Мендес будет в славе, а Сюлли Прюдом — великим поэтом[187],
Отказался он от диплома из меди и не жалеет об этом.
Пусть другие оставят себе удовольствия и добродетели, женшин,
Сигары, почет и дела.
С безразличьем татарским в каморке валяться он будет в чем мать
Родила.
Всех торговцев вином он по имени знает, он в лазарете — как дома.
Но умереть — это лучше, чем походить на сограждан знакомых.
Так восславим все вместе Верлена, теперь, когда нет уж его.
То, чего не хватало ему и что было дороже всего,
Мы ему в состоянии дать, ибо все мы теперь стихи понимаем его,
Распевают их наши девицы,
И композиторов наших великих аккомпанемент за их пеньем
Струится.
А человек этот старый отправился в путь, он взошел на корабль,
Приплывший из тьмы
И у черных причалов его ожидавший, хотя ничего не заметили мы,
Ничего, кроме паруса, что раздувался и хлопал, и мощной кормы,
За которой вскипала шумная пена.
Ничего, кроме голоса женщины, или ребенка, или, может быть,
Ангела, звавшего тихо Верлена.
БАЛЛАДА. Перевод И. Шафаренко.
Все, от тирских купцов[188] и до тех, кто еще и сегодня
Отправляется морем торговые делать дела
На плавучих громадах — плодах инженерного воображенья,
Все, кого белоснежные чайки провожают качаньем крыла, —
Так платок еще долго, белея, трепещет вдали, а рука, что им
Машет, уже недоступна для зренья, —
Все, кто землю покинул свою, чтоб назад уже не возвращаться,
Пожиратели синих пространств, — что им узкий морей лоскуток?—
Кто однажды из чаши пригубил, с ней больше не в силах расстаться;
Стоит сделать лишь первый глоток.
Моряки с затонувших судов, чьи названия в траурных списках, —
Крейсеров экипажи, внезапно достигшие вязкого дна,
И рыбачий патруль, и матросы подлодок, от раковин склизких,
Все, кто в море летит кувырком, когда киль вздыбит кверху волна, —
Их возвышенный жребий и долг петлей горизонта очерчен,
К славе путь им не надо искать — сам идет к ним соленый поток!
Рот пошире открой — и упьешься дымящимся смерчем;
Труден только лишь первый глоток.
Что они говорили в ту ночь, пассажиры в удобных салонах
И бедняги из третьего класса, что в трюме тихонько поют, —
В ту последнюю ночь под рычанье валов разъяренных,
Когда крик «Погибаем!» качнул переборки кают?
«С чем расстался однажды, о том не храни сожаленья.
Начинать ни к чему, если срок этой жизни истек.
Хорошо вновь найти тех, кто дорог. Но лучше — забвенье!
Нужно сделать лишь первый глоток!»
Посылка
Ходит море вокруг, то вздымаясь, то вновь опадая,
В сердце давняя боль утихает; дней сочащихся близок итог.
Это вечное море! Погрузимся в него, не страдая!
Труден только лишь первый глоток!
ФРАНСИС ЖАММ.
Франсис Жамм (1868–1938). — Бесхитростная и чистая мелодия, пронизывающая книгу стихов «От заутрени до вечерни» (1898), выгодно отличала голос поэта от выспреннего версификаторства поздних символистов. Чувство единения с природой, поэтизация простой сельской жизни — таков строй этого сборника, углубленный в книгах «Траур вёсен» (1901), «Прогалины в небе» (1906) и др. С 1921 г. Жамм жил в глухой деревушке Аспарен, в Стране Басков, где им были созданы мемуары, а также классически прозрачные «Четверостишия» (1923–1925).
«Кто-то тащит на убой телят…». Перевод И. Эренбурга.
Кто-то тащит на убой телят,
И они на улице мычат.
Пробуют, веревку теребя,
На стене лизать струю дождя.
Боже праведный, скажи сейчас,
Что прощенье будет и для нас,
Что когда-нибудь у райских врат
Мы не станем убивать телят,
А, напротив, изменившись там,
Мы цветы привесим к их рогам.
Боже, сделай, чтоб они, дрожа,
Меньше б чуяли удар ножа.
ЗЕВАКИ. Перевод Бенедикта Лившица.
Проделывали опыты зеваки
В коротких панталонах, и шутник
Мог искрой, высеченною во мраке,
Чудовищный баллона вызвать взрыв.
Взвивался шар, наряднее театра,
И падал в ахающую толпу.
Горели братья Монгольфье отвагой,
И волновалась Академия наук.
* * *
«На днях повалит снег. Пытаюсь прошлый год…». Перевод Э. Линецкой.
На днях повалит снег. Пытаюсь прошлый год
Припомнить — все мои печали и заботы.
Но если б у меня тогда спросили: «Что ты?» —
Сказал бы: «Ничего, до свадьбы заживет».
Я взаперти сидел и думал. Жар в камине,
Снег тяжело валил, шло дело к январю.
Зря думал. Вот опять сижу один, курю —
Все точно как тогда. А года нет в помине.
Как тонко пахнет старый мой комод.
А я был просто глуп, не понимал упорства
Таких вещей и чувств. Ведь, право же, позерство
Пытаться то изгнать, что в нас давно живет.
Целуемся в молчанье, плачем тоже, —
Зачем же мысли нам? Зачем потоки слов?
Все ясно и без них. Знакомый звук шагов
Речей сладчайших слаще и дороже.
Мы звездам имена даем, нам невдомек —
Им не нужны названья и приметы;
Не стоит подгонять прекрасные кометы,
В безвестность торопить и сокращать их срок.
Опять зима, но где те горести, заботы?
Припомню и опять забуду прошлый год,
И если б у меня теперь спросили: «Что ты?» —
Сказал бы: «Ничего, до свадьбы заживет».
* * *
«Осенние дожди, с утра застлала мгла…». Перевод Э. Линецкой.
Осенние дожди, с утра застлала мгла
Весь горизонт. Летят на юг перепела,
И рыщет хриплый ветер по оврагу
И гонит, как метлой, дрожащего бродягу.
С окрестных косогоров и холмов
На крыльях медленных спустились стаи дроф;
Смешные чибисы уже отсуетились
И где-то в камышах, в сырых ложбинках скрылись;
Чирки-коростельки, как будто неживые,
Ни дать ни взять — игрушки заводные,
Дня через три над нами пролетят;
А там, глядишь, и цапли воспарят,
И утки взмоют легким полукругом
И затрепещут над пустынным лугом.
Придет пора — и странный ржавый клич
Раздастся в небесах, — то журавлиный клин;
Промчится хвостовой и сменит головного…
А мы, Вьеле-Гриффен, поэты, мы готовы
Принять весь мир, по в нем жестокость и разлад,
И режут к праздникам в деревне поросят,
Они так страшно, так пронзительно визжат,
И будничная жизнь порой не лучше ада.
Но и другое есть — с улыбкою по саду
Идет любимая — сиянье, и прохлада,
И прелесть. Но еще есть старый-старый пес,
Он болен, и лежит, уткнувши в листья нос,
И грустно смерти ждет, и весь — недоуменье…
Какая это смесь? И взлеты, и паденья,
Уродство, красота, и верх и низ…
А мы, недобрые, ей дали имя — Жизнь.
* * *
«Отара грязная, и зонт линяло-синий…». Перевод Э. Линецкой.
Отара грязная, и зонт линяло-синий,
И от тебя всегда попахивает сыром…
Ты посох вырезал из остролиста сам
И с ним взбираешься по склону к небесам
Вслед за лохматым псом. Трусит твой ослик бодро,
И на худой спине позвякивают ведра.
Минуешь пахарей, минуешь кузнецов, —
Подъем кончается. Там воздух свеж и нов,
Там овцы на лугу, как белые кусты,
Там растянул туман на пиках гор холсты,
Там сипы важные — их шеи странно голы, —
И горы в дымчато-закатном ореоле,
И созерцаешь ты спокойно до зари,
Как над безбрежностью там божий дух парит.
СИНДБАД-МОРЕХОД. Перевод Ю. Денисова.
В садах, где персики омыты ясным светом,
Как слезы, падают тяжелые плоды,
И, в грезах слушая прохладный плеск воды,
Жарою истомлен, Багдад недвижим летом.
Томится полудень, и словно спит дворец,
Гостей ждут кушанья в больших прохладных залах.
Достоинство тая в движениях усталых,
К друзьям идет Синдбад — богач, моряк, мудрец.
Баранина вкусна, и сладостна прохлада,
Здесь бытие течет неспешно, без тревог.
Льет воду черный раб на мраморный порог,
И спрашивают все: «А что там, у Синдбада?»
Дает роскошный пир прославленный Синдбад,
Синдбад умен и щедр, а мудрые счастливы.
Чудесной повести все внемлют молчаливо
О том, как плавал он и как он стал богат.
Курится в залах нард — благоуханья славы,
И жадно ловит их Синдбада тонкий нос.
Недаром соль сквозит в смоле его волос,
Ведь шел на смерть Синдбад, чтоб знать людей и нравы.
Пока он речь ведет, на золотой Багдад,
На пальмы сонные струится солнце знойно
И гости важные разумно и спокойно
Обдумывают то, что говорит Синдбад.
ПОЛЬ ВАЛЕРИ.
Поль Валери (1871–1945). — Первые поэтические опыты Валери, отмеченные влиянием Малларме, печатались еще в начале 90-х годов. Однако изобразительные средства, унаследованные от символизма, не удовлетворяли поэта, и он на целых двадцать лет уходит в «монастырь собственной души», чтобы разработать самостоятельную художественную систему, которая мыслилась ему в виде некоего «нового классицизма», обогащенного методами, заимствованными из области философии и точных наук. Воплощением этих концепций явилась поэма «Юная парка» (1917). Позже были опубликованы сборники «Альбом старых стихов» (1920) и «Чары» (1922). Предельная сгущенность поэтического языка, усложненность синтаксиса, искоренение окостеневших словосочетаний и замена их новыми словесными формулами, призванными «выразить невыразимое», — все это делало иоэзию Валери весьма трудной для понимания. В 1925 г. он избирается членом Французской Академии.
МОРСКОЕ КЛАДБИЩЕ. (Фрагменты). Перевод В. Парнаха.
Спокойный кров, где бродят голубицы,
Мелькнет из-за сосны, из-за гробницы.
Здесь полдень строит из огня и снов
Тебя, о море, в вечном обновленье.
Моя награда после размышленья —
Широко созерцать покой богов.
О, храм Минервы, постоянство клада,
Громада отдыха, обличье лада,
Бровастая вода, Глаз, ты таишь
Так много сна под пламенным покоем.
Мое молчание! Глубинным строем,
Мильоном черепиц спит Крыша крыш.
Плоды истаивают в наслажденье,
В восторг преобразив исчезновенье
Во рту, где гибнет эта красота.
Так я дышу моим грядущим дымом,
А небеса поют сердцам палимым
Метаморфозы каждого куста.
Затвор священный, где сгорают души,
Сиянью отданный обрывок суши,
Строй факелов, мне этот остров мил,
Одетый в камень и во мрак растений,
Где столько мрамора лобзает тени
И море верное спит у могил.
Большое море с даром прорицанья,
Хламида из сверканья и мерцанья,
Вся в идолах и солнца и луны,
Верховный змей, своею синью пьяный,
Кусает хвост своей же плоти рваной[190]
Среди отгулов, полных тишины.
Подуло. Жить! Попробуем! Так надо!
Вдруг книгу мне огромная прохлада
Захлопнула, звеня в морской пыли.
Летите, ослепленные страницы!
Ломайте, радостные вереницы,
Кров, где еще пасутся корабли!
ПОГИБШЕЕ ВИНО. Перевод Бенедикта Лившица.
Когда я пролил в океан —
Не жертва ли небытию? —
Под небом позабытых стран
Вина душистую струю,
Кто мной тогда руководил?
Быть может, голос вещуна
Иль, думая о крови, лил
Я драгоценный ток вина?
Но, розоватым вспыхнув дымом,
Законам непоколебимым
Своей прозрачности верна,
Уже трезвея в пьяной пене,
На воздух подняла волна
Непостижимый рой видений.
ДРУЖЕЛЮБНЫЙ ЛЕС. Перевод М. Кудинова.
О чем-то непорочном размышляя,
Плечом к плечу мы по дорогам шли,
Среди цветов неведомых земли
Шли об руку, молчанье сохраняя.
Казалось, будто мы обручены,
В ночи, что от лугов зеленой стала,
Где мы дары делили небывалой,
К безумцам расположенной луны.
Потом вдали мы умерли на ложе
Из трав и мха, теней не потревожа,
Ни вздохов леса, давшего нам кров.
И в вышине, средь вечного сиянья,
Мы, горько плача, встретились без слов,
О верный мой товарищ по молчанью.
СИЛЬФ[191]. Перевод М. Кудинова.
[191].
Неведом, незрим,
Я запах цветка,
В струе ветерка
Едва ощутим.
Неведом, незрим,
Случайность иль дух?
То здесь, то гоним,
Возник — и потух.
Ни смысла, ни слов?
Для лучших умов
Эдем заблуждений.
Неведом, незрим…
Лишь миг — и за ним
След скрытых томлений.
ПОЛЬ ФОР.
Поль Фор (1872–1960). — В юности был воинствующим символистом, основал «Свободный театр», осуществивший первые постановки пьес М. Метерлинка. С 1896 по 1958 г. издал около сорока томов «Французских баллад», написанных в виде «замаскированных» под прозу стихов. Поэзия Фора национальна по форме и гуманистична по сути, она пронизана отзвуками средневековых баллад, интонациями народных песен, для нее характерно напускное простодупше, за которым нередко таится глубокий философский смысл, сочетание трогательного лиризма с лукавым юмором. В 1912 г. Фору был присвоен титул «короля поэтов».
ПЕСЕНКА МАЙСКОГО ЖУКА. Перевод Ю. Стефанова.
Майский жук жужжит на воле. Дагобер
Томится в школе. Он построил Сен-Дени[192].
Близятся каникул дни.
Майский жук жужжит на воле. Шарлемань
Томится в школе. Принял в Риме он венец.
Скоро мытарствам конец!
Майский жук жужжит на воле. Жанна д’Арк
Томится в школе. На костер ее ведут.
Побежим удить на пруд.
Майский жук жужжит на воле. Ришелье
Томится в школе. Он полез на Монтобан[193].
Мы полезем на каштан!
Майский жук жужжит на воле. Робеспьер
Томится в школе. Он взошел на эшафот.
Мы затеем хоровод.
Майский жук жужжит на воле. Бонапарт
Томится в школе. Перед ним Бородино.
Дать звонок пора давно.
Майский жук жужжит на воле. Мсье Дюту
Томится в школе. Хоть учитель мсье Дюту,
И ему невмоготу.
Майский жук жужжит на воле. Франция
Томится в школе. Ах, как тошно взаперти!
Майский жук, лети, лети!
ВЕЧНОСТЬ. Перевод Ю. Стефанова.
Люди, не верьте смерти. Бывает,
Надежда спит. Лишь ветер в закатном
Свете колосьями шевелит. В колосьях
Вечность звенит.
Прислушайтесь. Звон стихает. Значит,
Времени больше нет. Ветер уснул. Поднимает
Голову бог. Начинает оплакивать средь
Ветвей летнюю ночь соловей.
Прислушайтесь. Стихли стоны соловья,
А колокола проснулись. И над зеленой
Землей от села до села призывные звоны
Эти опять летят на рассвете.
Люди, не верьте смерти.
ПЕСЕНКА ОБО ВСЕМ ПО ПОРЯДКУ. Перевод Ю. Стефанова.
Бог начал с яблока, потом он создал древо,
А под конец — Адама с Евой. И всем пред —
Шествует плодам тот плод, что ел в раю Адам.
Бог создал, почесав в затылке, сначала ночь,
А после тьму, сперва признанье в страсти
Пылкой, а уж потом — и страсть саму.
Бог создал рыб и пароходы, потом шторма,
А следом — воды. Сперва был создан пьяный
Ной, а после — гроздий сок хмельной.
А ту, в которую влюбился без памяти
Сегодня я, создать он прежде умудрился,
Чем создал самого себя.
* * *
«Эта девушка умерла, от любви умерла она…». Перевод Ю. Денисова.
Эта девушка умерла, от любви умерла она.
Положили в землю ее, а заря занималась, бледна.
Одиноко лежала она и нарядней была, чем весна.
Одиноко лежала в гробу и в могиле осталась одна,
А они, веселясь, ушли, чтобы радость испить до дна,
Распевая: «Своя судьба, видно, каждому суждена».
Эта девушка умерла, от любви умерла она,
А они все в поля ушли, чтоб собрать урожай сполна.
СТАРЫЙ НИЩИЙ. Перевод Ю. Денисова.
Я видел добряков, вельмож, людей труда,
Но шляпу полную не видел никогда.
Оплевана, она стоит передо мною,
Наш с ней невесел вид, мы мокнем под стеною.
Дитя! Ты бросил грош. Я тронут, одинокий,
И слезы серебрят мои худые щеки.
Есть змеи-женщины и есть мужчины-звери.
Я многое узнал, стучась в чужие двери.
Стоптал я башмаки, мои устали ноги,
Я тропки исходил и пыльные дороги.
Я видел в двадцать лет добрейшую из фей,
Но нет ее давно, и плачу я по ней.
Жестокого ружья мне ненавистен вид:
Огонь и грохот, дым — и вот олень убит.
Застигнутый грозой, бродил в лесах я черных,
И ввысь неслась листва — метла небес просторных.
Я видел Жанну д’Арк, что в бой войска водила,
И в облаках над ней — святого Михаила.
Он целовал ее и мчался вновь вперед.
Я видел, как в реке венок любви плывет.
Я многое видал! И пляшущих пастушек,
И в небе радугу, и ливни из лягушек.
И только одного не видел, господа, —
Я шляпу полную не видел никогда.
ХОРОВОД. Перевод Ю. Стефанова.
Если бы девушки всей земли руку
Друг дружке дали, вокруг океана
Тогда б они веселый танец сплясали.
Если бы парни всей земли захотели
Стать моряками, над океаном они б навели
Мост своими руками.
Если бы люди всей земли решили
За руки взяться, вокруг всей земли до упаду б
Могли все в хороводе мчаться.
ШАРЛЬ ПЕГИ.
Шарль Пеги (1873–1914). — Сын столяра, окончил лицей в родном Орлеане. В юности активный участник социалистического движения, блестящий публицист («О социалистическом городе», 1897). В 1908 г. обращается к католицизму; патриотические мотивы его поэзии, воспоминания о героическом прошлом Франции обретают молитвенный характер, облекаются в форму «мистерий» («Мистерия милосердия Жанны д’Арк», 1911; «Мистерия невинно убиенных младенцев», 1912). Завораживающая монотонность стиха, звучащего как литургическое песнопение, бесхитростность образов, с незначительными изменениями переходящих из строки в строку, бесконечные вариации двух-трех основных тем характеризуют сборники «Ковер св. Женевьевы и Жанны д’Арк», 1912; «Ковер богоматери», 1913; «Ковер Евы», 1913. 5 сентября 1914 г. Пеги погиб в битве на Марне.
ПАРИЖ — ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ. Перевод А. Кочеткова.
Двойной корабль войны вдоль стройных колоннад.
Когда-то в сто бойниц гора сторожевая,
Теперь — большой завод, живая кладовая,
Под вой зеленых жерл скопившая свой клад.
Отцы тебе несли горячих песен ад,
Ты щедро расцветал, их жизни выпивая,
Когда на гордый бак, гремя, скакала стая
Визгливых штуцеров и гулких каронад[194].
Но мы тебе несем с последним приговором
Сердца, раскрытые всем бедам и ветрам,
Сердца, взалкавшие по всем морским просторам.
Последние бойцы угасших орифламм[195],
Зеленых демонов, оскаленных дозором,
Мы весело сожмем подножье Нотр-Дам.
ПАРИЖ — ГРУЗОВОЙ КОРАБЛЬ. Перевод А. Кочеткова.
Двойной бездонный трюм на двух уступах Сены,
Фрахтовщик пурпура и драгоценных мирр,
Корабль, грузивший хлеб и правосудный мир,
Гордыню терпкую и кроткий дух вербены, —
Ты скорбью отягчен, как золотом Офир[196];
Страданьями отцов тяжки твои накрени.
Раздутей нет боков над чашей водной пены
Перегрузил нутро тысячелетний пир.
Но мы тебе несем, вослед угасшей вере,
Суровую тоску с тревогой пополам
И опаленный стяг безвыходной потери;
Его мы вознесем — превыше орифламм,
Раздутых гневом бурь при Септиме Севере —
И спущенных навек к подножью Нотр-Дам.
ЧЕТВЕРОСТИШИЯ. (Из цикла). Перевод В. Орла.
Радость услышала весть —
Пустилась вскачь.
Честь услышала весть —
Пустилась в плач.
*
На сердце то вина,
То вновь веселье.
Вина — стакан вина,
Веселье — зелье.
*
Беда со мной нежна
И от меня — ни с места.
Беда — моя жена.
Моя невеста.
*
И днем и ночью — беда,
Челобитчица.
И в мякоти вязкой плода
Обидчица.
*
Судьба и расклад костей
Твои братья.
А тлен и распад костей —
Твое платье.
*
Сердце, вечная боль
Тебя сосет.
Сердце, конечная боль
Тебя спасет.
*
Мимолетное сердце
Недолголетне.
Мимоходное сердце —
Молвы и сплетни.
*
От первой кончины —
До смерти последней.
От плача в гостиной
До плача в передней…
*
Святые, день настает.
Заря на стрежне,
Но безмятежности прежней
Недостает.
*
Святые, день настает.
Он в самом начале,
Но сколько печали
Над нашей любовью встает.
*
Святые, день настает.
Над нашей любовью
По изголовью
Солнечный луч ползет.
*
А ливень грохочет
О сеть черепиц,
И хочет не хочет,
А падает ниц.
*
Беда сидит у порога,
У стылого очага.
И спит на кровати порока,
На илистом дне бочага.
*
Ты, сердце, снова льешь,
Меня изведав,
Бесчисленную ложь
Твоих изветов.
*
Сердце, камнем идешь ко дну,
О мореход!
Сколько раз просчиталось на дню,
О счетовод!
*
Радость прошла стороной,
Тропинкой,
Играя в дороге одной
Травинкой.
*
Радость прошла в стороне,
Окольно.
Робкая радость. Этого мне
Довольно.
*
Сердце, умытое алой водой,
Бесплотно.
Земля, не омытая талой водой,
Бесплодна.
*
Муки раскаянья
Из-за мук совести.
Муки совести
Из-за мук раскаянья.
ТРИСТАН КЛЕНГСОР.
Тристан Кленгсор (наст. имя — Леон Леклер; 1874–1966). — Поэт, живописец, композитор, искусствовед, журналист. Продолжая традиции Верлена, в ранних своих сборниках («Червонный валет», 1908; «Цыганские песни», 1913) боролся с образной системой парнасцев и символистов, превратившейся в набор пустых трафаретов; одним из первых во Франции широко использовал свободный стих, не скованный нормами традиционной метрики, но в то же время далекий от нарочитой «расхлябанности» иных сюрреалистов. Поэтизация обыденного, тонкий юмор, напевность и изящная простота лучших его стихов, вошедших в итоговый сборник «Цветник Тристана Кленгсора» (1962), роднит их с народными песнями, мелодии которых легли в основу его музыкальных сюит «Песни Матушки моей Гусыни» и «Деревенские песни».
ОСЕННИЕ МЕЧТЫ. Перевод М. Кудинова.
Шапокляк у господина профессора гладкий
И при этом совсем не радует взгляда,
А на черном рединготе морщатся складки,
От низа до тощего зада.
Господин профессор в парке сидит
На скамье, окрашенной в цвет неприятный,
У его жилета поношенный вид,
А на пальцах чернильные пятна.
Меланхоличная осень, чей вечер тих,
Пожелтевшие листья на землю роняет.
Господин профессор смотрит на них
И о чем-то мечтает.
У господина профессора на длинный нос
Надеты очки в оправе старинной,
И копну его желтых потускневших волос
Прорезывают седины.
А когда-то господин профессор был молодым
И, по всей вероятности, был франтоват и беспечен.
Но теперь он мечтам предается своим,
Созерцая осенний вечер.
Господин профессор размышляет о Розе,
О мадам Розе, розовощекой своей экономке.
Господин профессор в задумчивой позе
Все мечтает о чем-то, сидя в сторонке.
Мальчишка стащил платок у него из кармана,
Издалека забытый мотив долетает,
В старом парке фонтан журчит неустанно,
Господин профессор мечтает.
АННА ДЕ НОАЙ.
Анна де Ноай (1878–1933). — Дочь потомка валашских господарей и греческой актрисы, Анна де Ноай сочетала в себе и своем творчестве энергию и страстность, унаследованную от родителей, с утонченной культурой высших слоев французского общества, в которых прошла ее жизнь. Ее близкими друзьями и завсегдатаями ее литературного салона были Морис Баррес и Марсель Пруст, Франсис Жамм и Жан Кокто. Известность получила после выхода сборников «Неисчислимое сердце» (1901) и «Тень дней» (1902) — пылких пантеистических гимнов природе, молодости и красоте. Столь же напряженным, но более трагичным накалом страстей пронизаны «Помрачения» (1907). Скорбные, окрашенные религиозностью раздумья о вечности и смерти отразились в сборниках «Живые и мертвые» (1921) и «Честь страдания» (1927).
ПРИНОШЕНИЕ ПРИРОДЕ. Перевод И. Кузнецовой.
Природа мудрая, опора небосвода,
Никем так не были любимы никогда
Предметов вкрадчивость, свет ласковый восхода,
Земля, что жизнь дарит, и быстрая вода.
Равнины, и пруды, и леса очертанья
Влекли меня к себе сильней, чем взор людской:
И припадала я к величью мирозданья,
И запах месяцев я трогала рукой.
Из ярких солнц твоих корона золотая
Мой украшала лоб, и гордый, и простой;
И подражала я труду крестьян, играя,
И, плача от любви, я целовала зной.
Я подошла к тебе без страха и сомненья,
Приняв добро и зло, творимое тобой,
И обретала я и мысль и наслажденья
В лукавой, как зверек, душе твоей живой.
Подобная цветку с пчелою в сердцевине,
Рождала аромат и песни жизнь моя;
И в сердце поутру, как в маленькой корзине,
Боярышник и плющ тебе дарила я.
Смиренна, как вода, куда глядится ива,
Я знаю жар твоих томящих вечеров, —
Он в существах земных рождает молчаливо
Божественный огонь и нетерпенья зов.
Тебя, как жизнь саму, я обняла руками.
Ужель наполнит тьма мой взор на склоне лет,
И я уйду, простясь и с ветром и с цветами,
В страну, где не гостят любовь и солнца свет…
МАКС ЖАКОБ.
Макс Жакоб (1876–1944). — В юности сблизился с кружком сюрреалистов, подружился с Пикассо и Аполлинером. Вслед за несколькими книжками для детей («История короля Кабула I», 1904; «Солнечный великан»), 1904) выпустил навеянный бретонским фольклором сборник «Берег» (1911). Творчество Жакоба, необычайно разнообразное по жанрам, неотделимо от его личности: безбожник и мистификатор, принявший в 1915 г. католичество, эксцентричный весельчак, чуть ли не четверть века проживший отшельником в монастыре Сен-Бенуа-сюр-Луар, он был автором «Бурлескных и мистических сочинений отца Матореля» (1911) и благочестивых «Религиозных размышлений» (изд. в 1948 г.), каламбурного «Рожка с игральными костями» (1917) и всерьез написанного «Астрологического зерцала» (изд. в 1946 г.). Арестованный гестаповцами, Жакоб погиб в 1944 г. в концлагере Дранси.
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУТЕШЕСТВИЮ. Перевод М. Кудинова.
Поезда! И по узким туннелям езда…
Эти розовые кабаре,
Где ведут свою жизнь цыгане,
Превратились теперь в острова
С вальсом розовым на поляне.
Едут мимо в своих авто,
Едут хрупкие дамы-рантьерши,
Словно в ящиках из-под лото.
Я тебя приглашаю, Элиза,
Совершить путешествие тоже
К тихим паркам или к дворцу
Венецианского дожа.
Мы цветы нарвем до обеда,
Бросив наши велосипеды
У враждебной ограды, чей стиль
Современен, как автомобиль.
Мы украсим своими руками
Велосипеды ветвями,
Поглядим, как струится вода,
Мятой пахнущая иногда.
Может быть, в машине пунцовой
К этим рекам вернемся мы снова,
Чтоб на воды их бросить взгляд,
Когда стукнет нам шестьдесят.
В том грядущем, весьма далеком,
Даже конь может стать ненароком
Наподобие птицы крылат…
Близ железной дороги ныне
Продаются четыре пустыни,
Обращаться к владельцу, чье имя
Господин Шокарно.
18, Бульвар Карно.
Написано В 1903 Г.
ВОЙНА. Перевод В. Ковового.
Ночные окраины, где бульвары в снегу; грабители здесь — солдаты; на меня бросаются со смехом и саблями, меня раздевают; я спасаюсь бегством, чтобы тотчас угодить в другое каре. Что это — двор казармы или какой-то харчевни? сколько сабель! сколько уланов! снежит! в меня тычут иглу: это — яд, чтоб убить меня; череп скелета под креповым флером впивается в мой мизинец. Мутные фонари роняют на снег свет моей смерти.
* * *
«Однажды вечером, мечтою…». Перевод И. Шафаренко.
Однажды вечером, мечтою
Воспламенившись, как огнем,
Вы, глянув в зеркало простое,
Лик ангела узрите в нем,
И, распустив привольно гриву
Струистых золотых волос,
Вообразите вы, — о диво! —
Что вас амур ко мне унес!
Нет, нет, о вашем верном муже
Я больше слышать не хочу!
Влюблен я, и крылат к тому же,
И к небу вас взлетать учу.
О, муза лжи и ослепленья,
Нам, пастухам, ты в душу влей
К заботам будничным презренье,
Как у надменных королей!
СУПРУЖЕСТВО. Перевод М. Кудинова.
I.
«Я за богатого пойду», —
Красивая сказала.
— Смотри, не попади в беду,
В богатстве счастья мало. —
«Возьму красивую, — сказал
Богатый, — хоть крестьянку».
— Смотри, рогатым бы не стал,
Попавшись на приманку.
II.
— Тебя из грязи я извлек.
— Давно уж тощ твой кошелек.
— А кто беду на нас навлек?
Ты навлекла! — Нет, ты навлек!
Ты стар, и скуп, и недалек.
— А у тебя ни свежих щек,
Ни пухлых губ, и грудь висит,
И отвратителен твой вид…
— Ах, так! А кто меня ревнует
И запереть меня грозит?
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЭСТЕТОВ. Перевод М. Кудинова.
В Париже
На лошади рыжей,
В Лиможе
На лошади тоже,
В Невиле
На черной кобыле,
Ах, как хорошо, хорошо!
В самом деле, как хорошо!
Ту-ту!
Для дочки моей, Ивонны —
Колоколов перезвоны.
Кого в Перпиньяне не стало?
Не стало жены генерала.
Кого в Ла-Рошели не стало?
Не стало невесты капрала.
А в Эпинале кого?
Не скажем пока ничего.
Ту-ту!
Ну, а в Париже, ответь мне скорей,
Что ты подаришь Ивонне своей?
Я подарю тебе, дочка,
Платьице с оторочкой,
Сумку на красном шнурке,
Чтобы носить на руке,
Зонтик из белого ситца,
Чтобы от солнца укрыться,
Шапочку с лентой зеленой,
Туфельки цвета лимона,
Разные украшенья,
Чтобы носить в воскресенье.
Ту-ту!
Для дочки моей, Ивонны —
Колоколов перезвоны.
Стали в Париже звонить —
Надо постель постелить.
Стали звонить в Лиможе —
Спать отправляюсь я тоже.
Стали в Ножане звонить —
Свет нам пора погасить.
Нет! Погоди! Ты должен
Автомобиль мне купить,
И чтобы был он из жести,
И не стоял бы на месте,
И поднимал бы он пыль,
Этот автомобиль.
Посторонитесь! С отцом своим вместе
Катит Ивонна!
Ту-ту!
ЗЕМЛЯ. Перевод Ю. Денисова.
Унесите меня выше сумрачных свечек Земли!
Унесите меня от кларнетов отравных Земли!
Мир лишь там, в небесах, где не водятся змеи Земли.
Вся Земля — словно грязный разинутый рот,
Где зевота, икота и смех — все в зловонье живет.
Сонный кашель Земли после нудного дня душу мне истерзал.
Унесите меня! Увлеките меня, чтоб земное я бросил жилье!
О Земля, я цепляюсь за старое знамя твое.
Пусть великого ветра пронзает меня острие!
Я себя истерзал, сам с собой беспощадно воюя,
И фургоны дилемм за собою повсюду везу я.
Тим засну я, откуда я Землю увижу…
Вам завидую, феникс, и гриф, и орел.
Дайте мне ваш порыв, ваши вольные мощные крылья,
Чтоб, над громом взлетев, в небесах безграничных парил я!
ЛЕОН-ПОЛЬ ФАРГ.
Леон-Поль Фарг (1876–1947). — Его творчество является как бы соединительным звеном между поздним символизмом и сюрреалистами, которые считали его своим предтечей. Стихи и лирическая проза Фарга отличаются музыкальностью (не случайно один из его сборников называется «Для музыки», 1918), причудливым сочетанием нежности и едкой иронии, наблюдательности и безудержной фантазии, вкусом к полутонам, ко всему неопределенному, трудно уловимому. Поэтическая проза Фарга собрана в книгах «Пространства» (1929) и «При свете лампы» (1930).
ПОСЛЕСЛОВИЕ. Перевод М. Кудинова.
С вершины дерева скользит, шурша средь веток,
Рука, покрытая узором золотистым.
Все листья и цветы друг друга понимают.
В вечернем сумраке я видел медяницу.
Диана[197] над прудом свою надела маску.
Как ласковый призыв темнеющего неба,
Атласный башмачок мелькает на лужайке.
Ладьи ночные вдаль готовятся отплыть.
Другие будут приходить к скамье железной,
Чтоб видеть это все, когда меня не будет.
Закат забудет тех, кто так его любил.
Уже ничей призыв не озарит нам лица.
Ничье рыдание в душе не отзовется.
Погаснут наши окна, незнакомцы
По серой улице пройдут неторопливо,
И голоса,
Другие голоса затянут песню,
Глаза другие отуманятся слезами
Под новой кровлей. Будет все
Исчерпано, все будет прощено,
И свежей станет боль, и новым лес,
И, может быть, неведомым друзьям
Бог счастье даст, обещанное нам.
* * *
«Вечер клонится изнеможенно…». Перевод В. Козового.
Вечер клонится изнеможенно, и деревья, у самой дороги снов — как тяжелые птицы, голова под крылом, — засыпают. Луна плачет в листве — как взгляд сквозь дрожащие пальцы… В ней она топит свои ледяные щедроты. Она следует, рядом с берегом, за бегущей струей. Она в ней колышется: будто огромный лебедь растерял свои перья на ровной глади, где кто-то баюкает небо…
На крутом повороте — дозор тростников, куда луна вонзает свои занозы. Протяжное дуновение ветра, который время от времени гонит из гнезд воспоминания и имена… и оно чистит от чешуи воду и листья… Тогда полуночник и сторож этих горячечных стран — длинная серая ящерица, в которой укрылась древняя чья-то душа, — издает странный звук, голосом дальним, напоминающим инструмент и обряд дикарей, — ибо она различает движение неких существ, каких видеть нам не дано, — тех, что уходят за горизонт, где прошлое уснуло под пеплом.
ОСКАР-ВЕНЦЕСЛАВ ДЕ ЛЮБИЧ-МИЛОШ. Перевод А. Ларина.
Оскар-Венцеслав де Любич-Милош (1877–1939). — Родился в литовской аристократической семье, в юности переехал в Париж, где окончил Школу восточных языков. Известность обрел после выхода книги стихов «Семь одиночеств» (1906), пронизанной отзвуками древних легенд и навеянной впечатлениями от путешествий по Востоку, раздумьями над судьбами былых эпох и культур. В дальнейшем порывает со «светской» поэзией, обращается к мистическим мотивам («Элементы», 1911; «Ars Magna», 1924; «Арканы», 1926). Выступал как переводчик и популяризатор литовского народного творчества («Дайны», 1928; «Сказки и присказки старой Литвы», 1930).
«Все мертвые пьяны от грязного дождя…».
Все мертвые пьяны от грязного дождя
На кладбище забытом в Лофотене,
И таянья часы стучат в корнях растений,
Внутри гробов прогнивших в Лофотене.
Под шум вороньих крыл, шуршащих у могил,
Весна поит водой тела в грязи и тлене;
Под мерный смех ветров, который тих и мил,
Уютно спится мертвым в Лофотене[198].
Я, быть может, навеки отдален
От моря, от надгробий в Лофотене,
Но мне не знать покоя — я влюблен
В тот уголок земли, в его немые пени.
Истлевшие тела, людей усопших тени
На кладбище бездомных в Лофотене —
Названье городка влечет и дразнит слух —
Скажите мне, земля легка ли вам, как пух?
— Ты лучше б рассказал веселый анекдот:
Душа шампанского, смотри, исходит в пене.
Чего-то легкого размякший разум ждет.
И слушать не хочу о странном Лофотене.
Ну ладно. Пусть камин огнем обводит тени,
Пусть моросящий дождь вплетется в стук ветвей.
— Вы, мертвые, и те, что в Лофотене, —
Мертвы, но, видит бог, меня вы не мертвей.
* * *
«В юдоли детства, снова обретенной…».
В юдоли детства, снова обретенной,
В селении, где все сердца мертвы,
Где ровный стук сердец как заведенный,
Где шорох крыл шумит: они мертвы,
Где рокот вод речет: они мертвы,
Я — в зыби времени — больной и сонный.
Плывут любви потоки огневые
Из недр огромных глаз в печали сонной —
В юдоли детства, снова обретенной…
— А день роняет дождь над пустотой.
Как мягок взор, угаснувший навеки.
Как странно: ты смогла меня узнать —
Мерцали серафические веки,
Смеющиеся, голубые веки,
И в бликах тьмы блуждали света реки;
И ты, которой неоткуда знать
Мое лицо страдальца и калеки,
Ты, зыбкая, смогла меня узнать,
Ты, воплощенье неги в человеке, —
Огромные, как ночь, твои мерцали веки…
— А день роняет дождь над пустотой.
Я слышу хора мощный унисон —
Откуда этих древних звуков груда?
Печальница, ты совершаешь чудо:
Наполнен ими доверху мой сон.
В какой листве, шуршащей в унисон,
В какой тиши услышу я, откуда
Возьму я снова этих звуков чудо,
Как светоч озаряющее сон?
— А день роняет дождь над пустотой.
ВИКТОР СЕГАЛЕН.
Виктор-Амбруаз Сегален (1878–1919). — Был корабельным врачом, много путешествовал, подолгу жил в Китае и Тибете, занимался археологией и этнографией. В сборнике «Незапамятное» (1907) отражены впечатления от пребывания на Таити. В книге стихов «Стелы» (1912), отмеченном влиянием Сен-Жон Перса и П. Клоделя, сказался интерес Сегалена к древним культурам Дальнего Востока.
САБЕЛЬНЫМ КЛИНКОМ. Перевод В. Ковового.
Все мы, на наших конях, ведать не ведаем о посевах. Но все земли, какие можно
Вспахать и пройти в траве на рысях, —
Мы их прошли.
Мы не приучены воздвигать ни стенные ряды, ни храмы. Но все города, какие можно
Выжечь дотла, ни храмов, ни стен не щадя, —
Мы их выжгли.
Мы бережно чтим наших жен, которые все из самой высокой знати. Но тех, каких
Можно свалить, и подмять, и взять, —
Мы их взяли.
Наше клеймо — острие копья; наш парадный наряд — броня, на которой стынет роса;
И шелк наш — из конского волоса. Другой, понежнее, какой можно продать, —
Мы его продали.
Без границ и порой без имен, мы не царим, мы проходим. Но все то, что колют и
Бьют, то, что рубят и что дробят…
Все, без разбора, что сабельным можно клинком, —
Мы это смогли.
ГИЙОМ АПОЛЛИНЕР.
Гийом Аполлинер (наст. имя — Вильгельм Аполлинарий Костровицкий; 1880–1918). — Родился в Риме, в юности перебрался в Париж, где подружился с Пикассо, Сандраром, Жакобом. Первая значительная книга поэта, «Алкоголи» (1913), вобрала в себя многоголосицу большого города, напевность народной речи и смелые словесные эксперименты самого Аполлинера, стремившегося к обновлению французской лирики, искавшего собственный художественный метод, который он именовал «новым реализмом». Многие месяцы провел на фронте, в окопах, был тяжело ранен, перенес трепанацию черепа. В сборнике «Каллиграммы. Стихи войны и мира» (1918) Аполлинер протестует против бессмысленного разрушения и озверения, создает лирическую хронику трагедий войны и в то же время продолжает поиски новых поэтических форм. Сложное и противоречивое творчество Аголлинера оказало глубокое воздействие на судьбы всей европейской поэзии XX века.
Наиболее полное русское издание стихов Аполлинера (в переводах М. П. Кудинова, статья и примечания Н. И. Балашова) вышло в 1967 г. (Москва, «Наука»).
ЗОНА. Перевод В. Микушевича.
И ты пресыщен древностью всегдашней
Ревут стада мостов перед пастушкой Эйфелевой башней
Твой нудный хлам домашний Греция и Рим
Вредит автомобилям допотопный грим
Лишь контрастирует со всяческим старьем
Религия простая как аэродром
В Европе все старо лишь христианство ново
Моднее папа Пий новатора иного
А ты хоть видят окна твой позор
Исповедальни сторонился до сих пор
Афишам певчим ты внимаешь на рассвете
Вот где поэзия а прозу ты найдешь в газете
Там уголовщина за 25 сантимов
Там человечество для нелюдимов
Вот эта улица названье ни при чем
Трубой звучала солнце было трубачом
Проходят здесь кто помоложе кто постарше
Рабочие директора красотки секретарши
Сирена утром трижды поднимает вой
А в полдень, лает колокол над головой
Здесь лязг и скрежет визг и стон
Как попугаи, вывески кричат со стен
Мне нравится индустриальный стиль
На этой улице в Париже, между авеню де Терн и улицей
Омон-Тьевиль
Вот молодая улица и ты малыш
Ты в голубом и белом ходишь, не шалишь
Ты мальчик набожный твой друг Рене Дализ[199]
Душой и телом с ним вы церкви предались
Газ в девять гаснет в синеве заснуть невмочь
В часовню школьную крадетесь, молитесь всю ночь
И в глубине прозрачной аметиста
Христовой славе никогда не замутиться
Вот лилия спасающая души
Вот факел (чьих волос всемирный вихрь не тушит
Весь бледный весь в крови сын матери болезной
Густое дерево молитв над бездной
Крест-накрест в мировом пространстве честь и вечность
При всех своих шести лучах звезда спасенья
Бог мертвый в пятницу и смерть поправший в воскресенье
Взлетевший в небо выше чем любой пилот
Христос поставил мировой рекорд высот
Зеница ока Иисус Христос
И глянув из-под век двадцатый век рванулся
Как Иисус вознесся птицей обернулся
Из бездны бесы смотрят и кричат Бахвал
Вон эпигон последыш Симона-волхва[200]
Вопят летает стало быть подлет
Ликуют ангелы встречая самолет
Енох Икар Илья-пророк[201]
Вокруг аэроплана целый сонм порой
И расступаются благочестиво рея
С Причастием Святым завидев иерея
И самолет садится распластав крыла
А в небе ласточкам-касаткам нет числа
Вороны соколы сычи и чибисы
Летают марабу фламинго ибисы
Летает птица Рок[202] прославлена молвой
Играя черепом Адама первой в мире головой
Крича влюбленный в горизонт летит орел
Колибри крохотные чуть побольше пчел
И однокрылые вдвоем, летая[203]
Красуются посланцы стройные Китая
Летит голубка непорочная душа
Павлин и птица Лира следом свита хороша
И сам себя рождающий костер
Взлетев из пепла Феникс крылья распростер
Все три сирены прилетели вскоре
Покинув с песней гибельное море
Так все пернатые в лазури нерушимой
Братаются с летающей машиной
Затерян ты в толпе затерян ты в Париже
Автобусы мычат они тебе всех ближе
Берет за горло скорбь любовная тебя
Ты нелюбимый понимаешь ты скорбя
Ты в монастырь ушел бы в старину
Молитву ты скрываешь как свою вину
Смеешься над собой твой смех огонь в аду
Сверкает жизнь твоя вся золотая на виду
Она картина в темноте вообрази
Ступай в музей рассматривать ее вблизи
Париж на тротуарах женщины в крови
Нет вспоминать не надо это все закатом красоты зови
Из пламени смотрела на меня Небесная Царица в Шартре
Кровь Иисусова как наводненье на Монмартре
Я болен от высоких этих слов
Любовь постыдная болезнь и к смерти я готов
Бессонницей тебя своею близью истязает
Казнит и вынуждая жить не исчезает
Ты в Средиземноморье ва прибрежье теплых вод
Там где цветут лимоны круглый год
Друзья с тобою в лодке на волне упругой
Из Ниссы друг друг из Ментоны из Турби два друга
В испуге смотрим под водою спрут
Там рыбы среди водорослей Спасовы подобия плывут
Гостиница под Прагой в садике покой
Ты счастлив роза на столе перед тобой
Тебе бы написать еще страницу прозы
Но только бронзовка заснула в сердце розы
Свой образ видел ты в камнях Святого Витта[204]
И был печален словно жизнь твоя разбита
Ты словно Лазарь день тебе слепит глаза
Часы еврейского квартала вдруг пошли назад
Так жизнь твоя назад ползет неторопливо
В Градчанах[205] вечер отзвук чешского мотива
В корчмах наверное запели
Среди арбузов ты в Марселе
И в Кобленце отель и там проходит время
Ты под японской мушмулою в Риме
Увлекся в Амстердаме ты дурнушкою одной
Студент из Лейдена готов назвать ее женой
Снимают комнату Cubicula locanda[206]
Я там провел три дня а дальше Гауда
Тебе в Париже горький опыт уготован
Ты перед следователем ты арестован
В тоске и в радости ты видел много стран
Пока не распознал ты старость и обман
Любил страдая в двадцать лет и в тридцать лет
Я как безумный жил а жизни больше нет
Боишься на свои ладони ты взглянуть
Оплакивай себя свою любовь и жуть
Вот эмигранты молятся ты смотришь со слезами на глазах
Младенцев грудью кормят на вокзале Сен-Лазар
Вокзалы пахнут ими люди едут устают
Поверив как цари-волхвы в звезду свою
Попробуй золотые россыпи открой
Разбогатев тогда вернешься в отчий край
С собою красный пуховик семья берет
Он словно сердце наши грезы тоже бред
А некоторые от переездов одурев
На улице Розьер остались жить в дыре
По вечерам на свежем воздухе евреи
Как пешки шахматные двигаются редко
Их жены в париках не закрывая двери
Бескровные сидят в лавчонках для порядка
Ты перед цинковою стойкой в грязном баре
Дешевый кофе пьешь как люмпен-пролетарий
Вот ресторан для посетителей ночных
Все эти женщины не хуже остальных
И безобразных женщин любишь и страдаешь из-за них
Вот это дочь сержанта из Джерсея родом
Не разглядел я рук шершавых оказавшись рядом
Мне жаль девчонку весь в рубцах у ней живот
Улыбка сводит мне как судорога рот
Один ты утром все одни
Бидон молочника на улице звенит
Ночь удаляется как ласковая жница
Притворщица Фердина Лия-ученица
И ты глотаешь этот жгучий алкоголь
Жизнь пьешь как водку пьют испытывая боль
Идешь домой в Отей во сне тебе виднее
Полинезийский бог среди богов Гвинеи
Загадочный Христос других существований
Христос приниженных и смутных упований
Прости прости
Зарезанное солнце
МОСТ МИРАБО. Перевод Н. Стрижевской.
Под мостом Мирабо тихо катится Сена
И уносит любовь
Лишь одно неизменно
Вслед за горем веселье идет непременно
Пробил час наступает ночь
Я стою дни уходят прочь
И в ладони ладонь мы замрем над волнами
И под мост наших рук
Будут плыть перед нами
Равнодушные волны мерцая огнями
Пробил час наступает ночь
Я стою дни уходят прочь
Уплывает любовь как текучие воды
Уплывает любовь
Как медлительны годы
Как пылает надежда в минуту невзгоды
Пробил час наступает ночь
Я стою дни уходят прочь
Вновь часов и недель повторяется смена
Не вернется любовь
Лишь одно неизменно
Под мостом Мирабо тихо катится Сена
Пробил час наступает ночь
Я стою дни уходят прочь
СУМЕРКИ. Перевод Бенедикта Лившица.
В саду где привиденья ждут
Чтоб день угас изнемогая
Раздевшись догола нагая
Глядится Арлекина в пруд
Молочнобелые светила
Мерцают в небе сквозь туман
И сумеречный шарлатан
Здесь вертит всем как заправила
Подмостков бледный властелин
Явившимся из Гарца феям[207]
Волшебникам и чародеям
Поклон отвесил арлекин
И между тем как ловкий малый
Играет сорванной звездой
Повешенный под хриплый вой
Ногами мерно бьет в цимбалы
Слепой баюкает дитя
Проходит лань тропой росистой
И наблюдает карл грустя
Рост арлекина трисмегиста[208]
ПРОЩАНИЕ. Перевод Э. Линецкой.
Я сорвал этот вереск лиловый
Осень кончилась значит в путь
На земле нам не встретиться снова
Запах времени вереск лиловый
Но я жду тебя Не забудь
ОСЕНЬ. Перевод Э. Линецкой.
Сквозь туман пробираются месят осеннюю грязь
Колченогий крестьянин и бык и не видно в тумане
Как деревни дрожат на ветру боязливо скривясь
И печальную песню тихонько мурлычет крестьянин
Стародавнюю песню о перстне о верной любви
О разлуке о сердце разбитом о черной измене
Осень осень ты лето убила и лето в крови
И маячат в осеннем тумане две серые тени
КОЛОКОЛА. Перевод Э. Линецкой.
Цыган-красавец милый друг
Уже трезвонит вся округа
Казалось ни души вокруг
И так любили мы друг друга
Но спрячься хоть на дно реки
Колоколам все сверху видно
Теперь их злые языки
Гудят и треплются бесстыдно
Катрины их в деревне три
И булочница с толстым мужем
Урсула Сиприен Мари
Хотя мы с ней как будто дружим
Начнут смеяться поутру
Куда глаза от них я спрячу
А ты уедешь Я заплачу
И может быть умру
ЛУННЫЙ СВЕТ. Перевод Бенедикта Лившица.
Безумноустая медоточит луна
Чревоугодию всю ночь посвящена
Светила с ролью пчел справляются умело
Предместья и сады пьяны сытою белой
Ведь каждый лунный луч спадающий с высот
Преображается внизу в медовый сот
Ночной истории я жду развязки хмуро
Я жала твоего страшусь пчела Арктура
Пчела что в горсть мою обманный луч кладет
У розы ветров взяв ее сребристый мед
В ТЮРЬМЕ САНТЕ[209]. (Из цикла). Перевод Э. Линецкой.
[209].
Раздели отобрали вещи
Тюремный двор тюремный дом
А за спиною смех зловещий
«Что сделали с тобой Гийом»
Не скажут Лазарю «Воскресни»
Прикажут «В гроб живым ступай»
О девушки мои о песни
Моя весна прощай прощай
* * *
Я здесь забыл кто я такой
Кем был когда-то
Я номер я двадцать второй
Из двадцать пятой
Струится солнце сквозь окно
Как сквозь рогожу
И на моих стихах оно
Мне корчит рожу
Скользит светящийся пучок
А надо мною
Упрямо кто-то в потолок
Стучит ногою
* * *
Так медленно проходят дни
Как будто дроги на кладбище
Пройдут ты крикнешь «Где они»
Но не отыщешь и не взыщешь
Пройдут как все другие дни
* * *
Шумы города внятно слышу
Но в моем тюремном окне
Вижу только покатую крышу
И враждебное небо над ней
День прошел Наступает вечер
Отблеск лампы в тюремном окне
Добрый разум мой тихий свете
Мы с тобою наедине
ГОСТИНИЦЫ. Перевод Э. Линецкой.
Комнаты вдовые
Всяк в себе живет
Постояльцы новые
Плата вперед
Требует хозяин
Деньги в срок
Маюсь как Каин
Верчусь как волчок
За окном тучи
Мой сосед-чудак
Курит вонючий
Английский табак
Просьбам не внимает
Ночной изувер
Мой столик хромает
Точь-в-точь Лавальер[210]
В гостиничном лоне
Ночью и днем
Как в Вавилоне
Все мы живем
Дверь на запоре
Зови не зови
Порознь в горе
Порознь в любви
* * *
«Моя молодость ты заношена…». Перевод Э. Линецкой.
Моя молодость ты заношена
Как вчерашний венок ты брошена
И я чувствую приближенье
Дней неверия и презренья
Не природа холсты декораций
Реки клюквенной крови текут
Под ветвями где звезды пылятся
Одиноко проходит шут
Луч упал холодный и жесткий
На лицо твое на подмостки
Хлопнул выстрел Крик в тишине
Ухмыльнулся портрет на стене
И в картине стекло разбилось
И невнятен напев или зов
То ль случится то ли случилось
То ли мысль то ли отзвук слов
Моя молодость ты заношена
Как вчерашний венок ты брошена
И я чувствую приближенье
Дней раздумий и сожаленья
РЫЖАЯ КРАСОТКА. Перевод А. Ревича.
Пред вами человек не чуждый здравых мыслей
Я жизнь постиг и смерть насколько мог постичь ее живой
Немало испытал и горестей и радостей любви
Способен был кого-то в чем-то убедить
Немало языков освоил
И странствовал немало
Был на войне как пехотинец и артиллерист,
Был ранен в голову и трепанирован под хлороформом
И лучших из друзей утратил в этой сече
Постиг я современность и былое в той мере
В какой постичь способен человек
Мне надоело думать о войне которая идет
Меж нами и во имя нас друзья
Хочу я быть судьей в той давней распре традиции с открытьем
Порядка с Риском
Вы чьи уста подобье уст Господних
Уста которые и есть порядок
Имейте снисхожденье к нам не сравнивайте нас
Искателей и следопытов
С великими в ком образец порядка
Ведь мы вам не враги
Хотим открыть для вас обширный дивный край
Где тайны пышный цвет дается прямо в руки
Где столько новых красок и огней невиданных доныне
И тысячи видений бестелесных
Ждут воплощенья
Хотим разведать область доброты безмолвный необъятный материк
А также время которо. е направить можно вперед и вспять
Так снизойдите ж к нам сражающимся на границе
Грядущего и бесконечного
Грехи простите нам и заблужденья
А лето близится оно приходит разом
Весна моя прошла и юность позади
О солнце о пора когда так пылок разум
Я жду приди
Как форма строгая приди ко мне приди же
И вот она уже явилась и пьянит Влечет
Меня к себе сильнее чем магнит
И обретает вид
Одной красотки рыжей
Ведь этих медных прядей пыл
Как молния чей свет застыл
Так пламенеет луч случайный
На золотистой розе чайной
Что ж смейтесь надо мной
Вы ближние и все на свете люди
Ведь обо многом я не смею вам сказать
А обо многом вы и слушать не хотите
Так снизойдите же ко мне
* * *
«Милый друг я пишу вам в армейской столовой…». Перевод Э. Линецкой.
Тристану Дерему воскресший.
Милый друг я пишу вам в армейской столовой
Воет ветер а небо иссиня-лилово
И враждебно Ни строчки от вас целый год
Вы на смерть шлете ваших героев и вот
Я беря с них пример ездовой при расчете
Орудийном Здесь лучше служить чем в пехоте
Девяносто сто двадцать и семьдесят пять
Моих пушек калибр Кони дивная стать
Друг мой ваши стихи мне прислали сегодня
Как они хороши Ничего благородней
Я не знаю Я каждую строчку люблю
Их прочел весь расчет и мои пуалю[211]
Прослезились Мы едем на фронт Что там дома
Напишите и не забывайте
Гийома
ВАЛЕРИ ЛАРБО.
Валери Ларбо (1881–1957). — Много путешествовал, объездил «пассажиром первого класса» чуть ли не всю Европу. Впечатления от этих поездок отразились в единственном поэтическом сборнике Ларбо — «Стихи для богатого любителя» (анонимно в 1908 г.; переиздан с дополнениями в 1913 г. под названием «А.-О. Барнабут, его стихи и дневник»). Естествення, широкая, свободная от всякой риторичности манера Ларбо напоминает о традициях Уитмена и кое в чем перекликается с приемами раннего Сандрара.
МОЯ МУЗА[212]. Перевод В. Парнаха.
[212].
Я воспеваю Европу, ее железные дороги, и театры,
И созвездья ее городов, а между тем
Я приношу в моих стихах добычу из Нового Света:
Обтянутые ярко раскрашенной кожей щиты,
Меднолицых девушек, челноки из благовонного дерева, попугаев,
Стрелы с зеленым, синим, желтым опереньем,
Ожерелья из девственного золота, странные плоды, разные луки,
И все, что Колумб вез в Барселону.
Мои стихи, мои золотые стихи,
В вас сила и порыв тропической флоры и фауны,
Все величие родных гор,
Крылья кондоров, рога бизонов.
Моя муза, мое вдохновение — креольская дама
Или уносимая всадником страстная пленница,
Связанная, брошенная поперек седла
Вместе с драгоценными тканями, золотыми вазами и коврами.
И ты побежден своей добычей, о льянеро[213]!
В моих стихах друзья узнают мой голос,
Мои интонации, обычные после обеда.
(Достаточно уметь поставить ударение где нужно.)
Мной управляют непобедимые законы ритма.
Я их не понимаю сам, но чувствую: это они.
О Диана, Аполлон, великие боги,
Взбалмошные и свирепые, вы ли внушаете мне эти песни,
Или это обман, что-то
От меня самого, просто урчание в животе?
MADAME TUSSEAUD’S[214]. Перевод Ю. Стефанова.
[214].
Мне кажется, что вся суть бытия —
В глазах вот этих смирных восковых людей.
Хотелось бы мне провести здесь целую ночь,
Целую зимнюю ночь, замешкавшись в зале,
Где содержат преступников,
Смирных восковых преступников.
Лучатся их лица, а взгляды — тусклы, а тела — а из чего у них
Тела?
Неужто на самих себя они и впрямь похожи?
Почему же их бросили за решетку, повесили или казнили на
Электрическом стуле,
А их немые обличья оставили здесь?
Немые обличья с глазами, что не могут поведать о пережитой жути,
А только встречают повсюду взгляды зевак — без конца, без конца…
Да закрывают ли они глаза хоть ночью?
ТАЛАССА[215]. Перевод Ю. Стефанова.
[215].
Лежа на узком диване в глубине каюты
(Меня, словно девчонка неугомонная — куклу,
Баюкает качка бортовая и килевая, — на море шторм),
Я ощущаю на сердце светлый круг — иллюминатор,
Похожий на витрину магазина, где продается море,
И, в полудремоте, мечтаю
Сложить еще никем не сложенную песнь
Во славу моря.
О Гомер! О Вергилий!
О Corpus Poeticum[216] Севера! Лишь на твоих страницах
Отыщутся вечные истины моря,
Отыщутся мифы, в которых отразился один из ликов времени,
Отыщутся феерии моря, и генеалогии волн,
И вёсны морские, и морские осени,
И затишье морское, простертое плоской зеленой дорогой
Под колесницей Нептуна и хороводами Нереид.
Я ощущаю на сердце светлый круг, он скользит
То вверх, то вниз; его наполняет то серо-зеленый и белый
Средиземноморский пейзаж с краешком неба
Бледного, то,
Низринувшись в круг, одно только небо его заполняет.
Я то погружаюсь в свеченье сине-зеленое и ледяное,
Кипящее пеной, то вдруг
Иллюминатор, ослепший от пенной слюны, слепнет от светлого неба.
Зыбкой линией горизонта ползет
Белый румынский пароход размером с большую игрушку,
Он тащится, как по проселку в колдобинах; винт парохода
Иногда выступает из волн и взбивает в воздухе пену…
Он приветствует нас, приспуская наполовину
Сине-желто-пунцовый флаг.
Судно живет своей жизнью: слышны голоса в коридоре,
Потрескивает обшивка, висячие лампы скрипят,
Машины стучат, доносится запах горелого масла,
Чьи-то возгласы ветер мешает с обрывками трели
Мандолинной: «Sobre las olas del mar»[217] —
Звуки настолько привычные, что кажутся тишиною.
А над мостиком, там, в вышине, ветер протяжный и дикий,
Ветер-пират,
Свищет в снастях и щелкает, словно бичом,
Флагом трехцветным со звездами и полосами.
НЕВЫРАЗИМОЕ. Перевод Ю. Стефанова.
Когда я буду мертв, когда меня причислят к нашим дорогим усопшим
(Сомнительно, чтоб вспомнил обо мне хоть кто-нибудь из тех,
С кем я не раз бок о бок шагал по улицам),
Останется ль тогда в моих стихах хоть что-то
От стольких образов, от стольких взглядов, стольких лиц,
Мгновенно промелькнувших предо мною в толпе бурлящей?
А ведь и я когда-то лавировал среди людских лавин,
Как вы, и застывал, как вы, у каждой из витрин,
Засматривался на красоток, проходящих мимо,
И все шагал, шагал неутомимо
Навстречу славе и радостям земным,
Наивно полагая, что до них подать рукой,
Захлебываясь от восторга, брел среди людского стада,
Ибо стаду принадлежу я сам и все мои желанья.
И если я — увы — хоть чем-нибудь отличен от всех вас,
Так только тем, что мне
Порой среди толпы бывает, как во сне,
Зрим образ
Оболганной, бездомной и гонимой,
Невыразимой,
Незримой Красоты.
ЖЮЛЬ СЮПЕРВЬЕЛЬ.
Жюль Сюпервьель (1884–1960). — Уроженец Монтевидео, Сюпервьель сочетал в своем творчестве французскую поэтическую традицию с темами и образами, навеянными свежестью и очарованием уругвайской природы, среди которой протекло его детство. Поэтическая вселенная Сюпервьеля пронизана космическими токами, связующими воедино «землю людей» и волшебное царство животных («Дебаркадеры», 1922), мир живых и мир мертвых («Невинный каторжник», 1930). Биение человеческого сердца сливается в его стихах с «гармонией сфер», с ритмами всего мироздания («Тяготения», 1925). Откликом на события второй мировой войны, заставшей поэта в Уругвае, явились его скорбные «Стихи о Франции в беде» (1941).
ОЛЕНЬ. Перевод Бенедикта Лившица.
Только трону я коробку
Из сосны высокоствольной,
Как застынет в чаще леса,
Глядя на меня, олень.
Отвернись, олень прелестный,
Продолжай свой путь безвестный:
В темной жизни человека
Не поймешь ты ничего.
Друг мой нежный, друг мой робкий,
Чем могу тебе помочь,
Через щель моей коробки
Устремляя взоры в ночь?
Просекой твои зеницы
В глубь вселенной залегли.
Тонкие твои копытца —
Целомудрие земли.
В день, когда морозы злые
Небо льдом скуют, как пруд,
Все олени побегут
Из одних миров в другие.
* * *
«Ночное чудище, лоснящееся мраком…». Перевод Э. Линецкой.
Ночное чудище, лоснящееся мраком,
Прекрасный зверь в росе других галактик,
Ты кажешь морду мне, протягиваешь лапу
И недоверчиво отдергиваешь вновь.
Но почему? Я друг твоих движений темных
И проникаю в глубь клубящегося меха,
И разве я не твой собрат по мраку
Здесь, в этом мире, где, захожий странник,
Держу стихи перед собой, как щит?
Поверь, тоска молчания понятна
Нетерпеливому, заждавшемуся сердцу,
Что в двери смерти горестно стучит.
Услышав робкие удары в стенку,
Смерть перебоями его предупреждает:
— Но ты — из мира, где боятся умереть. —
Глаза в глаза вперив, неслышно пятясь,
В бестрепетную мглу ушло, исчезло…
И небо вызвездилось, как всегда.
* * *
«Вдали мой слышать зов научишься ли ты?..». Перевод Ю. Денисова.
Вдали мой слышать зов научишься ли ты?
Не слух склонить к земле — склониться сердцем надо!
Чтобы прийти ко мне, найди в себе мосты!
Я жду, я от дорог не отрываю взгляда.
Пусть разделяют нас Атлантики просторы,
Пустыни, и леса, и цепи диких гор, —
Расступятся леса, равниной станут горы,
Лишь в сторону мою ты обратишь свой взор!
ГОРОД ЗВЕРЕЙ. Перевод В. Козового.
Открылась дверь, вошли олени.
Но где такое может быть?
Вдали от наших поселений,
Куда опасно нам ходить.
Там город, где полно зверья,
Где человека нет в заводе.
Горят во тьме, стадами бродят
Там когти, шерсть и чешуя.
Подальше лучше нам держаться,
Ведь звери в нас самих таятся:
Сурок, акула, муравьед
Все разом тянутся на свет.
Не то гляди, уйдем оттуда
С клыком моржа, с горбом верблюда
Иль с длинным хоботом слона,
Которому река нужна.
Душа померкнет в тот же час,
И тело в шкуре вмиг забьется,
И гибель человека в нас
Всю жизнь оплакивать придется.
* * *
«В лесу, где время замерло…». Перевод В. Козового.
В лесу, где время замерло,
Огромный рубят ствол.
Зияющей колонной
Над бездыханной кроной
Пустой дрожит провал.
Кружите, вейтесь, птицы,
Ищите гнезд следы
В воспоминанье стройном
И ропоте беды.
ПАРИЖ. Перевод М. Ваксмахера.
Париж, открытый город,
Твоя душа живая,
Томясь, исходит кровью,
Как рана ножевая.
И стук чужих шагов
Тревожит наши стены,
И на мерцанье Сены
Глядят глаза врагов.
Как будто в яме черной,
Под окрики штыка,
Струится удрученно
Французская река.
Века французской славы,
Отлитые в гранит,
Ваш облик величавый
Великий гнев таит.
Нависшая над вами
Невыносима тень —
И гаснет ваше пламя,
И меркнет ясный день,
И льется с неба мрак.
Ведь было бы изменой
Струить лазурь над Сеной,
Когда в Париже враг.
НОЧЬ. Перевод Ю. Денисова.
Когда хочу, чтоб сон меня преобразил,
Но прежним остаюсь, опять без сна, без сил,
Без слова жалобы, без жизни в теле старом,
И мозг сожжен дотла невидимым пожаром,
Тогда посмертный «Я», меня ввергая в дрожь,
Твердит: «Как медленно и долго ты живешь!
Что держит здесь тебя? Чего ты ждешь от жизни,
Когда разбиты мы и тяжело отчизне?»
Молчу, но он во мне, а я хочу один
Исчезнуть, скрыться там, в неведомой Пальмире!
В себе душу того, кто всех угрюмей в мире,
И погружаюсь в ночь, ее ничтожный сын.
ФРАНЦИЯ ВДАЛИ. Перевод Ю. Денисова.
Ищу страну родную,
Тяну к ней руки жадно.
В пустыне неоглядной
Ищу ее, тоскуя.
На ощупь, тень живая,
Иду в простор устало,
Поляну узнавая,
Где мне роса сверкала.
Меня вела печаль
Туда тропой былою,
Где серебрилась даль
Прозрачною росою.
Ласкал я наши горы
И рек родных излуки,
Всей Франции коснуться
Мои стремились руки.
С чужбины блудным сыном
Вернуться морем бурным,
Узреть народ единым
В венце небес лазурном!
Мой край! Ты молчалив.
Поведай, что с тобою!
Но глохнет мой призыв
Под тучей грозовою.
Там, в зеркале страны
В шестиугольной раме
Шли долгими веками
Великие сыны.
Но как могло случиться,
Что в зеркале столетий
Возникли в сером свете
Врагов угрюмых лица?!
ЗАБЫВЧИВАЯ ПАМЯТЬ. (Из цикла). Перевод Ю. Денисова.
Когда уходят все, возможно ль возвратиться?
Когда забыто все, к чему нам розы цвет?
Сто улетевших птиц нам не заменят птицы,
Сидящей на плече. Тьма не заменит свет.
Пускай моей щеки коснутся ваши щеки!
Не бойтесь развернуть своей души крыла,
Чтоб вместе с памятью проснулся мир далекий,
Чтоб возвращенная земля для нас цвела!
Вновь древом станет дуб, а тьма — родной равниной,
Увидим берега любимых с детства рек,
И встанет прошлое из этой тьмы пустынной
Для всех поверивших, что изгнаны навек…
О темная сестра! О память! Лик твой смутный
Пускай предстанет мне хоть грезою минутной!
К ПТИЦАМ. Перевод Ю. Денисова.
Частицы радуги, живые огоньки,
Каракара, сапсан, каранчо, ару, гокко[218],
Развейте, разметав, рассейте сон, жестоко
Вцепившийся в мои духовные зрачки!
Ведь это вы, вьюрки? Ведь это вы, тинаму?
Взволнуйте крыльями, предвестники побед,
Оцепенение, отринувшее свет,
Меня в апатию влекущее упрямо!
Я так хочу разбить времен застойных гладь!
Пусть небеса бурлят в неистовых полетах
Мильонов ласточек, крикливых, желторотых!
Свободу я зову и духа благодать!
Я заскорузлые хочу разбить печали!
Хочу, чтоб стаи птиц на зов слетелись мой
И, взвившись в небеса, мне радостью цветной
Сквозь облачность души, как солнце, просияли!
ФРАНСИС КАРКО.
Франсис Карко (наст. имя — Франсуа Каркопино-Тюзоли; 1886–1958). — Родился в Новой Каледонии, в семье колониального служащего. В 1910 г. обосновался на Монмартре, среди поэтов и живописцев; воспоминаниям об этой поре посвятил ряд эссе. В 1912 г. примкнул к школе «фантазистов», определившей его тогдашнюю поэтическую манеру: сплав старофранцузских песенных традиций с новшествами в духе Аполлинера, саркастического лиризма Вийона с тончайшими интонациями Жерара де Нерваля («Богема моей души», 1912; «Кисло-сладкие песенки», 1913). В поздних сборниках («Маленькая сентиментальная сюита», 1936; «Иссякший источник», 1946) Карко более сдержан и просветлен; не повышая голоса и делая вид, будто речь идет о пустяках, он говорит о подлинных человеческих ценностях и глубоких чувствах.
КИСЛО-СЛАДКАЯ ПЕСЕНКА. Перевод Бенедикта Лившица.
Ах, я люблю тебя! А ты,
Ужель ты не в моих поэмах?
Зима приводит сонм упрямых
Скорбей чернее черноты.
Акации дрожат сторожко,
Лишь ветром тронет их слегка.
Ты грелась, сидя без сорочки,
Вся голая, у камелька.
Холодный ливень бился в стекла;
Дрова шипели, чуть горя…
Я жду, чтоб мутная заря
Опять в моем окне возникла!
ЧАС ПОЭТА. Перевод М. Кудинова.
У нее в руке фиалки,
Кончен праздник, и она
На букет глядит свой жалкий,
Подозрительно бледна.
На дворе ни ночь, ни утро,
Все покрыто полумглой,
Бродят тощие собаки
По парижской мостовой.
Это горький час поэта,
Час, когда охвачен он
Беспокойством до рассвета,
И растерян и смущен.
От моей коптящей лампы
Свет ложится на тетрадь,
И забытые фантомы
Оживают в ней опять.
НОЧИ ЗИМНИЕ. Перевод М. Кудинова.
Ночи зимние… Зажегся
Свет над дверью кабачка.
С потолка свисает лампа…
До чего ж любовь горька!
Эти губы и помада,
Этот сладенький мотив…
Сам не знаю, что мне надо,
Что ищу я, загрустив?
Вы танцуете, но счастья
Вам не встретить на пути…
Словно тех, кто мной потерян,
Я пытаюсь вас найти.
О погибшие созданья,
Веселиться б вам всегда!
Звуки вальса, бал в предместье,
А за дверью ждет беда.
Смотрит смерть с кривой ухмылкой,
Смерть кривляется в ночи…
Та, которую прирежут,
«Не виновна я», — кричит.
Не прислушивайтесь к стону
Крови, пролитой на грязь.
Ничего вы не слыхали,
В танце весело кружась.
Ночи зимние… Под ветром
Фонаря трепещет свет.
Сумасшедшие девчонки,
Для которых счастья нет,
Все вам сердце здесь пленяет;
Звуки льются через край,
Вальс вас кружит… И сливает
Воедино грязь и рай.
ПОЛНОЧЬ. Перевод И. Озеровой.
В переулке пустом,
Занавешен дождем,
Ждет гостей дом свиданий.
Плач полночных часов,
Словно скрипнул засов
В глубине сонных зданий.
Кто крадется тайком
Здесь, в ненастье таком?
Тени двух ожиданий…
В переулке пустом
В ночь небесных рыданий.
ПРОЩАЙ. Перевод И. Озеровой.
Вот и старый кабак. Много лет
Дождь осенний его убивает.
Я пришел, но тебя уже нет,
От страданья любовь убывает.
Я страдаю. Когда ты ушла,
Я смеяться учился искусно.
Плачу я без любви, без тепла
И живу с той поры только грустно.
Ты хотя бы на память храни,
Мое сердце, тоски неизбежность,
Ты храни эту древнюю нежность
И от ран почерневшие дни.
Грудь чужую осыплет мой смех,
Лаской губы чужие я встречу,
Их зубами своими помечу…
Все равно ты прекраснее всех.
БЛЭЗ САНДРАР. Перевод М. Кудинова.
Блэз Сандрар (наст. имя — Фредерик-Луи Север; 1887–1961). — Сын швейцарского коммерсанта, он еще в юности бежал из дому, исколесил весь свет, переменил множество профессий, был свидетелем первой русской революции 1905–1907 гг., событиям которой посвящены его поэма «Проза о транссибирском экспрессе и маленькой Жанне Французской» (1913) и роман «Мораважин» (1926). Участник первой мировой войны, он был тяжело ранен, лишился руки. Наряду с Аполлинером был крупнейшим реформатором французской поэзии XX в. Убежденный в том, что она должна избавиться от тяготевших над ней традиционных форм, он смело пользуется жаргоном городского дна, языком афиш и газет, приемами «кадрировки», заимствованными у кинематографа, стремясь слить весь этот разнородный материал в некое подобие современного лирического эпоса. С середины 20-х годов перестает писать стихи.
В 1974 г. в издательстве «Наука» (серия «Литературные памятники») вышел сборник стихов Б. Сандрара «По всему миру и вглубь мира» в переводе М. П. Кудинова.
ПРОЗА О ТРАНССИБИРСКОМ ЭКСПРЕССЕ И МАЛЕНЬКОЙ ЖАННЕ ФРАНЦУЗСКОЙ. (Фрагмент).
В ту пору я только что с детством простился.
Шестнадцать лет мне недавно исполнилось, и позабыть я о детстве
Стремился.
Я был в шестнадцати тысячах лье от места, в котором родился. Я был в Москве, в
Этом городе тысячи трех колоколен и семи
Железнодорожных вокзалов.
Но мне не хватало ни этих вокзалов, ни тысячи трех колоколен,
Потому что юность моя безумной и пылкой была,
И сердце в груди у меня
Пылало, как храм в Эфесе или как Красная площадь в Москве,
Когда солнце садится;
И глаза мои светом своим озаряли сплетения древних путей,
И таким я был скверным поэтом,
Что не смел идти до конца.
На огромный татарский пирог с золотистою коркой
Кремль походил,
Громоздились миндалины белых соборов,
На колокольнях сверкало медовое золото,
Старый монах мне читал новгородскую быль.
Меня мучила жажда.
С трудом разбирал я клинообразные буквы,
А затем, неожиданно, голуби Духа Святого над площадью взмыли,
И руки мои тоже ввысь устремились, как альбатросы,
И все это было воспоминаньем о дне последнем,
О последнем странствии
И о море.
Однако я был очень скверным поэтом
И не смел идти до конца.
Голод мучил меня,
И все дни, и всех женщин в кафе, и все чаши
Хотел я испить и разбить,
Все витрины, все улицы,
Судьбы людские, дома,
Все колеса пролеток, что вихрем неслись по плохим мостовым,
Я в горнило хотел погрузить
И все кости смолоть,
Вырвать все языки,
Все расплавить тела, обнаженные под шелестящей одеждой,
Тела, от которых мутился мой разум…
Я предчувствовал, что приближается красный Христос революции
Русской…
А солнце было тяжелою раной,
Раскрывшейся, словно костер.
В ту пору я только что с детством простился.
Шестнадцать лет мне недавно исполнилось, и позабыть я о детстве
Стремился.
Я был в Москве, где хотел, чтобы пламя меня насыщало,
И мне не хватало ни церквей, ни вокзалов, озаренных моими глазами.
Грохотала пушка в Сибири, была там война,
Голод, холод, холера, чума,
Плыли тысячи трупов животных по илистым водам Амура.
На всех вокзалах я видел, как уходили
Последние поезда,
И никто уже больше уехать не мог, потому что не продавали
Билетов,
И солдаты, которые в путь отправлялись, хотели бы дома
Остаться…
Старый монах мне пел новгородскую быль.
Я, скверный поэт, никуда уезжать не желавший, я мог уехать,
Куда мне угодно;
У купцов еще было достаточно денег,
И они могли попытаться сколотить состоянье.
Их поезд отправлялся каждую пятницу утром.
Говорили, что много убитых.
У одного из купцов сто ящиков было с будильниками
И со стенными часами.
Другой вез шляпы в коробках, цилиндры, английские штопоры
Разных размеров,
Вез третий из Мальме гробы, в которых консервы хранились,
И ехали женщины, было их много,
Женщин, чье лоно сдавалось в наем и могло бы стать гробом,
У каждой был желтый билет.
Говорили, что много убитых.
Эти женщины ездили по железной дороге со скидкой,
Хоть имелся счет в банке у каждой из них.
Однажды, в пятницу утром, наступил наконец мой черед.
Был декабрь на дворе,
И я тоже уехал с торговцем ювелирных изделий: он направлялся
В Харбин.
Два купе у нас было в экспрессе и тридцать четыре ларца
С драгоценностями из Пфорцгейма,
Третьесортный немецкий товар, «Made in Germany»[219],
Но одет во все новое был я торговцем и, поднимаясь в вагон,
Потерял неожиданно пуговицу.
— Помню, я все это помню, потом я не раз еще думал об этом. —
Я спал на ларцах и был счастлив, сжимая в руке никелированный
Браунинг, который вручил мне торговец.
Я был беззаботен и счастлив, и верилось мне,
Что мы играем в разбойников в этой стране,
Что мы украли сокровище в Индии, и на другой конец света
В Транссибирском экспрессе летим, чтобы спрятать сокровище это.
Я должен его охранять от уральских бандитов, напавших когда-то
На акробатов Жюль Верна,
От хунхузов его охранять,
От боксерских повстанцев Китая,
От низкорослых свирепых монголов великого Ламы;
Али-баба мне мерещился, сорок разбойников,
Телохранители горного Старца[220], а также
Современные взломщики
И специалисты
По международным экспрессам.
И все же, и все же,
Несмотря на весь этот пыл,
Как несчастный ребенок, печален я был.
Ритмы поезда,
Шум голосов, стук дверей и колес,
На замерзающих рельсах несущийся вдаль паровоз,
Моего грядущего свернутый парус,
Никелированный браунинг, ругань играющих в карты в соседнем купе,
Образ Жанны,
Мужчина в защитных очках, слонявшийся нервно в проходе
Вагона и взгляд на меня мимоходом бросавший,
Шуршание платьев, Свист пара,
Стук вечный колес, обезумевших на колеях поднебесья,
Замерзшие окна,
Не видно природы,
А позади
Равнины сибирские, низкое небо, огромные тени Безмолвья,
Которые то поднимаются, то опускаются вниз.
Я лежу, укутавшись в плед,
Пестрый,
Как моя жизнь,
И жизнь меня согревает не больше, чем плед
Шотландский,
И вся Европа за ветроломом экспресса
Не богаче жизни моей,
Бедной жизни моей,
Что похожа на плед,
Весь потертый ларцами, набитыми золотом,
Вместе с которыми еду я вдаль,
Мечтаю,
Курю,
И одна только бедная мысль
Меня согревает в дороге.
СЕН-ЖОН ПЕРС.
Сен-Жон Перс (наст. имя — Алексис Леже; 1887–1975). — Родился на острове Гваделупа, изучал литературу и право в Бордоском университете. С1914 по 1940 г. состоял на дипломатической службе; посетил Китай, Японию, Монголию. Впечатления от странствий по Востоку отразились в сборнике стихов «Анабасис» (1924). Разжалованный и лишенный вишистским правительством французского гражданства, в 1940 г. эмигрировал в США, где прожил до 1958 г. Творчество Сен-Жон Перса в годы изгнания — крупнейшее явление не только во французской, но и мировой литературе. Его «Изгнанье» (1942) — это и поэтический дневник эмигранта Алексиса Леже, и философские раздумья поэта Сен-Жон Перса о трагической участи человека, «вброшенного в бытие»; в его «Ветрах» (1946) вихри реальных исторических катастроф неотделимы от пронизывающих планету космических потоков; его «Ориентиры» (1957) — это и призывный свет маяков родного берега, и незримые, находящиеся вне пространства и времени, путеводные вехи, по которым ориентируется человек в «поисках абсолюта». Усложненная, нередко трудная для восприятия поэтическая манера Сен-Жон Перса сродни манере Клоделя; ее можно определить как богатую внутренними рифмами и ассонансами ритмизированную прозу. В 1960 г. творчество Сен-Жон Перса было отмечено Нобелевской премией.
АНАБАСИС. (Фрагмент). Перевод В. Козового.
Все долгое время, покамест мы уходили на запад, что знали мы о вещах
Смертных?.. И вот под собою первые видим дымы.
— Юные женщины! и в природе страны разливается благоуханье:
«…Я возвещаю тебе великую пагубу зноя и стенания вдовьи
Над разметаемым прахом.
Те, кто стареет в сени и власти безмолвья, воссев на холмах, созерцают пески
И дневное сияние в гаванях дальних;
Но сладостью полнятся женские бедра, а в телах наших
Женских словно темная бродит лоза, и от самих себя нет нам спасенья.
…Я возвещаю тебе великое счастье покоя и прохладу листвы в сновидениях наших.
Те, кто вскрывает ключи, вместе с нами в этом изгнании, те, кто вскрывает ключи,
Скажут ли нам ввечеру,
Под чьими руками, давящими гроздь наших бедер,
Влагой полнятся наши тела? (И женщина в зелень с мужчиной легла; она
Поднимается, тело свое расправляет, и голубокрылый уносится дальше сверчок.)
…Я возвещаю тебе великую пагубу зноя, а ночь между тем средь собачьего лая
Доит наслажденье у женщин из бедер.
Но Чужестранец живет под шатром, где подносят ему молоко и плоды. И приносят ему
Ключевой воды,
Чтобы рот и лицо омывал он и чресла.
К ночи рослых служанок приводят ему (о бесплодные, ночь в них пылает!).
И наслажденье, быть может, примет он и от меня.
(Я не знаю привычек его в обращении с женщиной.)
…Я возвещаю тебе великое счастье покоя и прохладу ключей в сновидениях наших.
Открой же мой рот на свету, как медовый тайник между скал, и если во мне
Обнаружишь изъян, да буду я изгнана! если же нет,
Пусть войду под шатер, пусть нагая войду, прижимая кувшин, под шатер,
И долго, сородич могильному камню, будешь ты видеть безгласной меня под деревом
— Порослью вен моих… Ложе тайных речей под шатром, и в кувшине сырая звезда, и
Пусть же я буду во власти твоей! ни единой служанки — для нас под шатром лишь
Кувшин с родниковой водой! (Я умею уйти до зари, не пробудив ни звезды сырой, ни
Сверчка на пороге, ни собачьего лая в пределах земных.)
Я возвещаю тебе великое счастье покоя и прохладу заката на смертных наших
Ресницах…
Но пока еще тянется день!»
ДОЖДИ. (Фрагмент). Перевод В. Козового.
Пускай же слово мне предшествует в пути! И мы еще раз пропоем для проходящих —
Песнь народов, для стерегущих — песнь простора:
VII.
«Неисчислимы наши тропы, и обиталища непрочны. Уста, рожденные во прахе,
Божественную чашу пьют. Вы, омывающие мертвых рукою матери-лазури, о струи
Утренние — в мире, где тернии войны царят, — омойте и живых, пока заря восходит;
Омойте, о Дожди, лицо ожесточенных — и горечь на лице их, и нежность на лице
Их… ибо узки их тропы и обиталища непрочны.
Омойте же, Дожди, для сильных сих твердыню! И вдоль больших столов, под сенью
Своей силы они воссядут — те, кого не пьянило вино людское, те, кого не
Осквернил напиток слез или забвенья, все те, чье имя трубный глас разносит без
Ответа… воссядут вдоль больших столов, под сенью своей силы, в твердыне, что для сильных сих.
Омойте у черты деянья оглядку и неторопливость, омойте на путях вниманья оглядку
И учтивость. Так смойте же, Дожди, бельмо благопристойных, бельмо благоразумных;
Бельмо в глазу людей с достоинством, со вкусом, в глазу у столь достойных и в меру одаренных; так смойте же и пелену с глаз Мудреца и Мецената, с глаз Праведника и Вельможи… с глаз тех, кто соблюдает свято неторопливость и учтивость.
Омойте же благоговенье у Вдохновителей на лицах, благорасположенье у Покровителей в сердцах и скверну велеречья на гстах публичных. Омойте руку тех, кто судит, кто карает, и ту, то саван шьет, и ту, которая младенца пеленает; увечных и слепых, Дожди, омойте стертые ладони и длань нечистую, что, подперев чело, как прежде грезит о поводьях и хлысте… с благословенья Вдохновителей своих и Покровителей своих.
Омойте памяти скрижали, где вся история народов: официальных актов своды, и
Своды хроник монастырских, и многотомные анналы. Омойте хартии и буллы, Наказы
Третьего сословья; статьи Союзов, тексты Пактов и манифесты лиг и партий; омойте, о Дожди, листы пергамента, велени и дести цвета стен больниц и богаделен, под цвет скелетам птиц или окаменелой кости… Омойте, о Дожди! омойте памяти скрижали.
Омойте же в душе людской живого слова дар людской: литые изреченья, святые
Песнопенья, прекраснейшие строки, изящнейшие трофы. Омойте же в душе людей все
Упоение элегий, кантилен; все упоение рондо и вилланел; и радость речи вдохновенной, омойте крылья Афоризма и ожерелья Эвфуизма[221]; и жесткое науки ложе, и ложе царское мечты: в душе открытой, неуемной, в душе вовек непресыщённой омойте, о Дожди! высокий дар людской… в душе у тех, кто дарит миру творенья духа и ума».
ОРИЕНТИРЫ. (Фрагменты).
«И вы, Моря, во снах читавшие безбрежных…». Перевод В. Козового.
И вы, Моря, во снах читавшие безбрежных, оставите ль вы нас однажды вечером под
Рострами Столицы, средь гроздьев бронзовых и камня площадей?
Вся ширь, о сонмище, уже внимает нам на этом склоне беззакатной эры: зеленое
Необозримо, как на заре восток творенья, — Море,
На праздничных своих ступенях, как ода каменная, — Море; канун и праздник за
Нашей гранью, раскат и праздник с твореньем вровень: в самом преддверье нашем —
Море, как откровение небес…
Могильное дыханье розы уже не будет виться у гробницы; живое, не сокроет в
Пальмах мгновение души своей нездешней… О горечь, след твой испарился на наших
Трепетных устах.
Я видел, как в огнях широт великое смеялось ликованье: снов наших праздничное
Море, как пасха восходящих трав и словно празднуемый праздник;
Все Море в праздничных пределах, под соколиной стаей белых облаков, — как чье-то
Вольное угодье, и неделимое владенье, и как поместье диких трав, разыгранное в
Кости…
Испей, о бриз, мое именованье! И пусть звезда моя прольется в зрачков безмерных
Окоем!.. И дротики Полудня у радости трепещут на пороге. И барабаны бездны
Смолкают, уступая флейтам света. И Океан, со всех сторон, свергая тяжесть
Мертвых роз,
На наших гипсовых террасах возносит голову Тетрарха[222]!
* * *
«…Бесконечность обличий, расточительность ритмов…». Перевод М. Ваксмахера.
…Бесконечность обличий, расточительность ритмов… Но ритуала пора настает —
Пора сопряжения Хора с благородною поступью строф.
Благодарно вплетается Хор в движенье державное Оды. И опять песнопенье в честь
Моря.
Снова Певец обращает лицо к протяженности Вод. Неоглядное Море лежит перед ним в
Искрящихся складках,
Туникою бога лежит, когда расправляют любовно ее в святилище девичьи руки,
Сетью общины рыбацкой лежит, когда расстилают ее по прибрежным отлогим холмам,
Поросшим нещедрой травою, дочери рыбаков.
И, петля за петлей, бегут, повторяясь на зыбком холсте, золотые узоры просодии —
Это Море само, это Море поет на странице языческим речитативом:
«…Море Маммоны, Море Ваала, Море безветрия и Море шквала, Море всех в мире
Широт и прозваний, Море, тревожность предначертаний, Море, загадочное прорицанье, Море, таинственное молчанье, и многоречивость, и красноречивость, и древних сказаний неистощимость!
Качаясь, как в зыбке, в тебе, зыбучем, взываем к тебе, неизбывное Море! — изменчиво-мерное в своих ипостасях, неизменно-безмерное в ценности гулкой;
Многоликость единого, тождество разного, верность в коварстве, в дружбе
Предательство, прилив и отлив, терпеливость и гнев, непреложность и ложь, и
Безбрежность, и нежность, прилив и отлив — взрыв!..
О Море, медлительная молниеносность, о лик, весь исхлестанный странным сверканьем! Зерцало изменчивых сновидений, томленье по ласкам заморского моря!
Открытая рана во чреве земном— таинственный след неземного вторженья; сегодняшней ночи безмерная боль — и исцеление ночи грядущей; любовью омытый
Жилища порог и кровавой резни богомерзкое место!
(О неминуемость, неотвратимость, о чреватое бедами грозное зарево, влекущее властно в края непокорства; о неподвластная разуму страсть — подобный влечению к женам чужим, порыв, устремленный в манящие дали… Царство Титанов и время Титанов, час предпоследний, а следом последний, а вслед за последним еще один, вечно — в блеске молнии — длящийся час!)
О многомерная противоречивость, источник раздоров, пристанище ласки, умеренность, вздорность, неистовство, благостность, законопослушность, свирепая
Ярость, разумность, и бред, и еще — о, еще ты какое, скажи нам, поведай, о непредсказуемое!
Бесплотное ты и до дрожи реальное, непримиримое, неприру-чимое, неодолимое, необоримое, необитаемое и обжитое, и еще и еще ты какое, скажи, несказанное! Неуловимое, непостижимое, непререкаемое, безупречное, а еще ты такое, каким ты
Пред нами предстало сейчас, — о простодушие Солнцестояния, о Море, волшебный
Напиток Волхвов!..»
ПЬЕР-ЖАН ЖУВ.
Пьер-Жан Жув (1887–1976). — Раннее творчество Жува, отмеченное влиянием Ромена Роллана, полно пацифистских мотивов («Поэмы против великого преступления», 1916; «Пляска смерти», 1917). Позднее он обратился к психоанализу и католицизму (романы «Пустынный мир», 1927; «Геката», 1928; сб. стихов «Таинственные бракосочетания», 1924; «Небесная материя», 1925). Самый яркий и трагичный сборник Жува, созданный между двумя войнами, «Кровавый пот» (1933), отражает попытку «сошествия во ад» подсознания, стремление «добраться до самых корней бытия и отыскать среди них лик бога». В годы войны, эмигрировав в Женеву, Жув становится одним из духовных вождей французского Сопротивления. Напряженным гражданским пафосом пронизаны его стихи «Парижская богоматерь» (1944) и эссе «Защита и прославление» (1943). Из послевоенных сборников наиболее значительны «Гимн» (1947); «Диадема» (1949); «Язык» (1952).
КУСКУ ТКАНИ[223]. Перевод А. Эфрон.
[223].
Тебя я вижу вновь натянутым, как парус,
Широкий щедрый шелк без складок и морщин, —
Три яруса твоих, и каждый ярус — ярость:
Сладчайшее из чувств, глубокое, как гимн.
Взывавший к сердцу цвет был красным, — нет, вернее,
Увядшим розовым — не розы лепестком,
А несколько иным — тоскливей, лиловее,
Таким, как сквозь века загубленная кровь
Марата. Белый цвел чуть видной желтизной,
Патиной времени с поверхности картины
И смерти кротостью
Закатной полосы смягчал багряный зной.
А синий жёсток был, как очи высоты,
Как непроглядность сфер, в плену держащих бога…
О, беспощадный цвет вдоль древка боевого,
О, неба синева бездонной чистоты!
Но главным был Глагол: тысячеустым словом
Роптала и звала, напутствовала ткань,
Поникшему в борьбе приказывала — встань!
Шептала, как любовь, как злоба, проклинала.
Из золоченых букв, своим смущенных блеском,
Ковался лемех слов, которым власть дана
Вздымать пласты земли, — и содрогалась жалость
От боли, что земля претерпевать должна.
И в выкриках мужчин, и в лепете детей —
Ты, огненный Глагол, начало всех Историй,
Сжигающий дотла оплоты и устои,
Чтоб прах развеять их над ржавчиной цепей.
Честь, выполнив свой долг, попрала муки, страхи.
Великих жертв призыв, пронизывая твердь,
Взмывает с алтаря кровавой, липкой плахи,
И знамя говорит: Свобода или Смерть.
УГАСШИХ СОЛНЦ ОГОНЬ… Перевод Н. Стрижевской.
Угасших солнц огонь — сиянье вечных слов,
И фраза прозвучит примерно так: экстаз
Поющей почвы, крон деревьев, деревень,
Свисающих с перил балконов и террас;
Долины вдалеке, лед на вершинах гор;
О красота земли, уже близка пора
Кончины, вновь горит безжалостный костер
Осенний в вышине и опаляет луг.
В истоме сжала холм в объятиях жара,
И дню невыносим убогий вид лачуг,
В тени каштанов честь уснула вечным сном,
И унесешь в душе, покинув этот край,
Груз рухнувших надежд и гнет безумных чувств.
КОРОЛЕВА НОЧИ. Перевод Н. Стрижевской.
Во мраке душных зал и в коридоров тьме
Где кажется со стен обитых красной тканью
Нисходит на постель разгула смутный страх
Я знаю облик твой глаза и забытье
Я знаю королев ночей и сновидений
Я знаю душу цвет твоих румян ужимки
Бездушие души тяжелый сердца стук
Твое дыханье стон твой шепот и колье
Твоих поддельных ласк способных осквернять
Твой чистый поцелуй в грязи в любой дыре
Твой неподвижный труп невинный и беспечный
Бледнеющий еще
Молочною рекой в которой молоко на солнце высыхает.
* * *
«Дай сумраку гробниц и монастырской кельи…». Перевод Н. Стрижевской.
Дай сумраку гробниц и монастырской кельи
Величье жаркое в молчанье черных роз,
Дай свету засиять слепящим блеском далей,
Что скрыты от людских непосвященных глаз,
И смысл их красоты непостижим для нас,
И дай явить свой лик
Невинной плоти, прочь отбросивши покровы,
В невидимом краю, где в девственных лучах
Невинною, как встарь, она пребудет снова,
И мысли дай слететь на крыльях на вершины
Деревьев, что замрут, склонясь в грядущий миг.
НЕБО. Перевод В. Козового.
Ширь неба ширь ни дна ни тяжести ни воли
Знак и обитель зыбей о единый и синий храм
Вглядись Ничто блаженно-слепое как он там
Томится каменный закованный в юдоли
Печалей словно отдан сиренам мореход
Во власть — безмерность видя и гордую твердыню
Твою безмерность иль абсурд чей горек плод
Тоске его влекомой к цели синей
О символ не эфир но божеский оплот!
* * *
«Высокородная печаль улыбка высота свобода…». Перевод В. Козового.
ВЫСОКОРОДНАЯ ПЕЧАЛЬ улыбка высота свобода
Тебя обрел я наконец на взморье сердца своего
В ночь когда рвется море
В горные державы
В ночь когда ты моложе юности своей
В ночь когда много ты страдал но более ничто
Ничто не тщетно праха нет ни в чем.
ПЬЕР РЕВЕРДИ.
Пьер Реверди (1889–1960). — Родился в Нарбонне, в семье резчика по дереву. Был одним из провозвестников и участников сюрреалистического «бунта» («Осколки неба», 1924; «Источники ветра», 1929). В итоговый сборник «Ручной труд» (1949) вошли стихи 30-х годов, эпохи Сопротивления и первых послевоенных лет. Говоря словами самого Реверди, он всю жизнь «находился на скрещенье двух лезвий — яви и грезы, пытаясь вырваться из мира призрачной действительности, которым довольствуется большинство людей, в область абсолютного и подлинно реального бытия». Отсюда — творческие метания Реверди между крайностями герметической, умозрительной поэзии и стремлением отразить сложную и трагическую красоту мира и человека.
ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА. Перевод Венедикта Лившица.
Весь воздух просверлён
В гнезде
И на изгибе
Над хриплым флюгером близ труб
И этот клад
Еще извивов ряд.
И время чуть задето,
Когда летит авто там где-то вдалеке,
На стыке островов
Бесследно на тропе больших течений ночи
Гремят бубенчики средь улицы,
И шум,
Проходит шествие,
Иль эта кавалькада
Кортеж под аркою круглящейся небес?
Стрела колеблется, отодвигая
Историю и всех, кого забыть легко.
ТРУДНАЯ ЖИЗНЬ. Перевод В. Козового.
Зимой он сидит, притаившись в холоде и тени. Когда дует ветер, он в гуще деревьев делает знаки, помахивая огоньком, который держит на кончиках пальцев. Это — ветхий старик; он, вне сомненья, всегда был таким, и непогода не грозит ему смертью. Когда опускается вечер, он сходит в долину, — ибо днем он живет на склоне холма, скрытый в зарослях: никто не видел, как он выходит оттуда. Его светлячок с наступлением ночи начинает подрагивать на горизонте. Солнце и звуки его пугают; он прячется, дожидаясь укороченных тихих осенних дней, когда под нависшим небом, в воздухе мглистом и нежном сможет он, сгорбленный, семенить, оставаясь неслышным. Это — ветхий зимний старик, который не умирает.
БЕСКОНЕЧНОЕ СТРАНСТВИЕ. Перевод Ю. Денисова.
Удалялись они, ветер в спину им дул,
С пеньем шли вдоль реки по безвестной дороге,
Их молитвам камыш долго вторил в тревоге,
Птичьи крики тревожили сонную тишь.
Будут первыми там, чтоб вовек не уйти,
Шли вперед, за спиной исчезали пути.
Шаг за шагом в туманные дали
Шли по жестким камням и молчали.
У дремучих лесов отдыхали они,
У неведомых вод жажду всласть утоляли.
Пыль вилась из-под ног; в клубах света и пыли,
Как в туманных плащах, вдаль они уходили.
Пилигримы шагали
Средь безвестных пустынь,
Раскрывалась пред ними небесная синь,
Но к пределам земли дальше шли друг за другом,
Ветер в спину им дул и кружил круг за кругом,
Закрывались за ними врата,
Створы черные —
Ночь.
ПЕРСПЕКТИВА. Перевод И. Шафаренко.
Все та же карета
Меня увезла
Вот полночь пробило
Под ясной луной
Я видел лицо ее
Руки и взгляд
К рассвету
О завтрашнем дне говорят
Нас тьмою накроет
Ночной небосвод.
Вот ты появилась
Глаза отвела
Углом повернул
Переулок ночной
Последние звезды
Над садом горят
А знают ли мертвы
Что их там ждет
ПАМЯТЬ. Перевод Ю. Денисова.
Когда покинет этот край она
Тогда и я уеду
Туда где солнце тоже ярко светит
Как здесь там птица петь должна
Всю ночь без сна
А здесь порою
Белесой мглою
Затянет ветер белые вершины
Мы снова будем на песке
Укрыты скалами
А дальше ничего
Лишь облако плывет
И крик несется из окна
Стоят стеною кипарисы
Солон воздух
И влажны волосы твои
Когда отсюда мы с тобой уйдем
Здесь кто-то все ж останется еще
Чтоб нас тут ждать
Чтоб нас понять
Лишь нам двоим верна
Оставленная нами тень
Здесь будет тосковать одна.
ГОЛОСОМ ЧУТЬ ПРИГЛУШЕННЫМ. Перевод М. Ваксмахера.
Охота начата в испуге бьются крылья
Забота палачей все сделать втихомолку
И у тебя в груди сплошная глыба льда
Прозрачная как небосвод в июне
В твоих глазах опавшая листва
И списки красные казненных накануне
Вдоль берега гуляет полумрак
Закат зловеще липнет к парапету
Ни огонька в глухих провалах окон
И чернота густая растеклась
Как кровь
И затопила город
Тревожный трепет оскверненных крыльев
Лишенных тупо
Права на полет
Бездушный ржавый скрежет смерти
Потом покой
Рука в перчатке глины
Рывок последний сердца
Последний вздох судьбы
Горит святое в очаге полено.
1941.
НА ЦЫПОЧКАХ. Перевод Ю. Денисова.
Ничего не осталось
Между пальцами все утекло
Исчезает какая-то тень
Слышен где-то
Шум шагов
Задушить надо голос надрывно и громко звучащий
Он наверное будет стонать ночь и день
Он летит все быстрей
Только вы остановите чудный порыв
О надежда и гордость моя
Ветры вас унесли подхватив
Опадала листва
В это время синицы считали
Капли чистой воды
Лампы гасли и слепнули окон ряды
Нет идти слишком быстро не надо
Можно все поломать громким звуком шагов
ДВЕРЬ НА ЗАСОВ. Перевод А. Эфрон.
Так далеко живу от голосов!
Гул празднеств гаснет постепенно…
Что мелет мельница, какую пену,
Когда источник плача пересох?
Как тяжко тащатся часы
По безысходным лунным побережьям…
Я тихо в тесной теплой щели сплю,
В сгиб локтя головой уткнувшись.
Кругла как мир пустыня света лампы,
Бесчеловечно время,
Ужасно время, выгнанное в ночь,
От призрачной прозрачности бокалов,
Ленивого мурлыканья уюта,
В дождь, в глину, в схватку — стиснув зубы, —
В боль старую, что у твоих корней трепещет…
Я выбрал смерть, достоинство, забвенье.
О, как я далеко, когда перебираю все, что люблю.
В ОСЛЕПИТЕЛЬНОМ СВЕТЕ. Перевод В. Козового.
Движение руки
Как листьев трепетанье
И холодок с реки
И чей-то оклик дальний
В молчании густом
Где ни единой складки
Ладонь рассветных слез и отмелей перчатки
Волна тревожит гладь
Проходит борозда
И небо еле живо
Устало солнца ждать
К дороге дерево клонится вопрошая
Машина как в дыру летит за горизонт
Все стены тянутся и сохнут на ветру
И прячет под мостом лицо тропа глухая
Когда чуть слышен лес
И ночь порхает с ветки
Средь мертвенной листвы где теплится дымок
Заката спящий глаз
Последний отблеск краткий
Стальная нить небес
Роняет крик касатки
ЖАН КОКТО.
Жан Кокто (1889–1963). — Драматург, деятель киноискусства, эссеист, художник, он во всех многообразных сферах своего творчества был прежде всего поэтом. Дебютировал сборниками «Лампа Аладдина» (1909) и «Легкомысленный принц» (1910), отмеченными влиянием Э. Ростана и Анны де Ноай. В последующих книгах отразилось его увлечение футуризмом и дадаизмом («Ода к Пикассо», 1919; «Словарь», 1922), античной драмой, которую он пытался «омолодить», приспособив ко вкусам современности («Антигона», 1928; «Орфей», 1928), экспериментами в области кино (фильм «Кровь поэта», 1930) и, наконец, классическим наследием Ронсара и Дю Белле, Малерба и Мюссе («Цифра семь», 1952; «Светотень», 1954). В итоговый сборник «Стихи» (1956) вошли все основные поэтические произведения Кокто.
СПИНА АНГЕЛА. Перевод Бенедикта Лившица.
Ложной улицы во сне ли
Мнимый вижу я разрез,
Иль волхвует на панели
Ангел, явленный с небес?
Сон? Не сон? Не труден выбор;
Глянув сверху наугад,
Я обман вскрываю, ибо
Ангел должен быть горбат.
Такова, по крайней мере,
Тень его на фоне двери.
СМЕРТЬ АДМИРАЛА. Перевод М. Кудинова.
Мыльная пена.
Брызги.
Грохот.
Ярость. Взбесившейся лошади хохот,
Лошади, убегающей от брадобрея…
Руки — настурции в пламени жарком,
Кровь голубицы, бледные лица
Мумий. Последний залп батареи.
И адмирал, на мостике стоя,
Медленно опускается, как занавес в театре,
И берег аплодирует, вдали чернея.
ПОХИТИТЕЛИ ДЕТЕЙ. Перевод М. Кудинова.
Там, где грязь и крапива вокруг,
Из засады выскочив вдруг,
Для цирка украла цыганка
Графского сына из замка.
В то время как скорбно и пылко,
Обезумев, звала его мать,
Под самым куполом цирка
Ребенок учился летать.
Взлететь может каждый, кто хочет,
Цирк — огромный бумажный змей,
И летают под куполом ночи
Циркачи, что крадут детей.
Эти воры имеют крылья,
Эти воры научат вмиг
Улететь за холмы, что скрыли
Материнский тоскующий крик.
«О дитя, мое сердце разбито!
О, вернись под родительский кров!»
Он не слышит. Он с аппетитом
Уплетает похлебку воров.
Сон подполз с воровской сноровкой,
Оглушил, словно горечь вина,
Голова рядом с миской похлебки
Катится в море сна.
Сон летать приучает его,
Он не видит во сне ничего,
Только статуи видит, что сами
Ввысь взлетают, взмахнув руками.
АКТЕР. Перевод М. Кудинова.
Актер в последний раз ногою бьет о пол,
Актер один. Напряжены все нервы.
Родятся в нем слова, и шлем на них Минервы,
Когда они должны покинуть горла ствол.
Актер скользит с небес. Из люка возникает.
Весь выпачкан актер: он кровь свою теряет,
Затем что каждый день он умирает вновь,
Теряя белую и золотую кровь.
Кровь белая течет из головы актера,
Кровь золотую надо зачерпнуть,
А красная ему прочерчивает путь,
В конце которого ждет смерть с ним разговора.
Актер кричит, в движенье приведен
Прикованным к нему тысячеглазым залом;
Когда актер пронзен лучом или кинжалом,
Богам бросает вызов он.
Сбежал бы прочь актер. Не смеет. Акт за актом
Идет за драмой он, иного нет пути:
Подмостки не дают спасенья обрести,
Чудовищным он связан с ними пактом.
Актер выходит кланяться. Ну что ж…
Партер потрескивает хворостом ладоней,
Покуда занавес, как гильотины нож,
Не срубит голову, склоненную в поклоне.
И вот уж царственная эта голова
Среди следов кровавых ищет тело;
Все рушится вокруг, и ни к чему слова:
Теперь уж машинист здесь примется за дело.
И публика спешит уйти. В ней нет любви,
Одно желание — спастись от катастрофы…
А завтра снова день. Вставай, актер, живи!
И сердце подготовь для завтрашней голгофы.
ИВАН ГОЛЛЬ.
Иван Голль (1891–1950). — См. прим. к Иван Голль. Из французских поэтических книг Голля назовем «Стихи о любви» (1930), «Песнь об Иоанне Безземельном» (1939), «Песни Франции» (1940).
ИОАНН БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЙ ПРИБЫВАЕТ В ПОСЛЕДНИЙ ПОРТ. Перевод В. Козового.
В морях без волн устав бродить бесцельно
В день без зари на корабле без рей
В порт Иоанн заходит Безземельный
И в дом без стен стучит и без дверей
Он на безногой узнает кровати
С беззубым гребнем женский силуэт
Рот без лица без шепота объятья
И без любви — грошовой страсти бред
Он узнает безносые буксиры
Галеры без единого весла
Без женщин тротуары без трактиров
Дворы и ночи напролет без сна
Но сестры вслед не вымолвят ни слова
И не прильнет бледнея мать к окну
Трава не дрогнет у крыльца родного
Что за страна в беспамятном плену?
Из родника он горсть воды сладимой
В сад бездыханный как благую весть
Печальной девушке несет от нестерпимой
Любви к нему повесившейся здесь
Что за бульвар без идолов витринных?
Без томных вздохов сумеречный свод?
Фонарь истлевший в лапах паутины?
Часы где время заживо гниет?
К чему все эти лихтеры тартаны[224]
Где жесть без олова загоны без скота
Мешки без риса танцы без гитаны
Без вкуса хлеб распятья без Христа?
Что значат эти шлюпки в мертвой спячке
Причал без сходней ящики горой
Без дна и эти доки без горячки?
Лишь море ходит в гавани пустой!
Какую же таят они угрозу
Бездымный порт бесследная земля?
Что за маяк безблагодатный?
Что за Скиталец без ветрил и без руля?
ПОЛЬ ЭЛЮАР.
Поль Элюар (наст. имя — Эжен-Поль Грендель; 1895–1952). — Родился в семье небогатого коммерсанта, окончил парижское училище Кольбера. Участник первой мировой войны. Прославление любви, тяга к братству людей, гимн созидательному труду — таковы темы его первых сборников («Долг и тревога», 1917; «Стихи для мирного времени», 1918). В начале 20-х годов сблизился с дадаистами и сюрреалистами; его стихи тех лет («Животные и их люди, люди и их животные», 1920; «Примеры», 1921), исполненные тепла ко всему существующему, в то же время подчас загадочны, герметичны. В интимной и философской лирике 20-х годов («Град скорби», 1926; «Сама жизнь», 1932; «Роза для всех», 1934) призывает к преобразованию мира во имя счастья тружеников. Во время войны вступил в коммунистическую партию, активно участвовал в литературе Сопротивления; стихотворение «Свобода» из книги «Поэзия и правда 1942 года» (1942) стало поэтическим гимном Сопротивления. В сборниках военной поры («Лицом к лицу с немцами», 1942–1945; «Достойные жить», 1944) и послевоенного времени («Лишнее время», 1947; «Суметь все сказать», 1951) гражданская лирика неотделима от лирики любовной. Посмертно (в 1953 г.) Элюару присуждена Международная премия мира.
Основные издания Элюара на русском языке: «Стихи». Сост. О. Савич. Предисл. И. Эренбурга. M., 1958; «Избранные стихотворения». Предисл. и перевод П. Антокольского. М., 1961; «Стихи». Перевод М. Н. Ваксмахера. М., 1971.
«Малышка-девчушка впервые в Париже…». Перевод М. Ваксмахера.
Малышка-девчушка впервые в Париже.
А грохот, как ливень, клокочет и брызжет.
Малышка-девчушка идет через площадь.
А грохот прибоем булыжники лижет.
Малышка-девчушка бульваром идет
Мимо надутых лощеных господ,
И стук ее сердца не слышен Парижу.
ВЕРНЫЙ. Перевод М. Ваксмахера.
Из этой деревни тихой
Идет, трудна и крута,
Дорога к слезам и крови.
Наша душа чиста.
Ночи теплы и спокойны,
А мы для любимых храним
Самую ценную верность — надежду
Живыми вернуться к ним.
РАВЕНСТВО ПОЛОВ. Перевод Бенедикта Лившица.
Твои глаза пришли назад из своенравной
Страны, где не узнал никто, что значит взгляд,
Где красоты камней никто не ценит явной,
Ни тайной наготы тех перлов, что блестят,
Как капельки воды, о статуя живая.
Слепящий солнца диск — не зеркало ль твое?
И если к вечеру он никнет в забытье,
То это потому, что, веки закрывая,
Любовным хитростям ты веришь дикаря,
Плотине моего недвижного желанья,
И я беру тебя без боя, изваянье,
Непрочностью тенет прельстившееся зря.
РАБОЧИЙ. Перевод М. Ваксмахера.
Провидеть в деревьях доски,
Провидеть в горах дороги,
В лучшем возрасте — возрасте силы —
Ткать железо, и камни месить,
И украшать природу
Человеческой красотою,
Работать.
ИСКУССТВО ТАНЦА.
Хрупкий дождь черепицу держит
В равновесии. Балерина
Никогда не научится
Литься и прыгать,
Как дождь.
* * *
«Твои оранжевые волосы…». Перевод М. Ваксмахера.
Твои оранжевые волосы в пустоте вселенной,
В пустоте цепенеющих стекол молчания
И темноты, где мои голые руки твое отражение ищут.
Сердце твое химерической формы,
И любовь твоя схожа с моим ушедшим желанием.
О душистые вздохи, мечты и взгляды.
Но со мной ты была не всегда. Моя память
Хранит удрученно картину твоего появления
И ухода. Время, точно любовь, обойтись не умеет без слов.
* * *
«К стеклу прильнув лицом…». Перевод М. Ваксмахера.
К стеклу прильнув лицом как скорбный страж
А подо мной внизу ночное небо
А на мою ладонь легли равнины
В недвижности двойного горизонта
К стеклу прильнув лицом как скорбный страж
Ищу тебя за гранью ожиданья
За гранью самого себя
Я так тебя люблю что я уже не знаю
Кого из нас двоих здесь нет.
* * *
«Путь молчания…». Перевод М. Ваксмахера.
Путь молчания
От моих ладоней к твоим глазам
И к твоим волосам
Где ивы-девчонки
Прислоняются к солнцу
И шепчутся тихо
И лепестки трепещущей тени
Подбираются к их разомлевшим сердцам.
* * *
«Симметричная гордость жизнь разделенная поровну…». Перевод М. Ваксмахера.
Симметричная гордость жизнь разделенная поровну
Между старостью улиц
И молодостью облаков
Закрытые ставни руки трепещущие
Точно на солнце листва
Руки ручьями струящиеся
И укрощенная голова.
ЧУТЬ ИЗМЕНЕННАЯ. Перевод М. Ваксмахера.
Прощай печаль
Здравствуй печаль
Ты вписана в линии потолка
Ты вписана в глаза которые я люблю
Ты отнюдь не беда
Ибо самые жалкие в мире уста отмечаешь
Улыбкой
Здравствуй печаль
Любовь податливых тел
Неотвратимость любви
Ласка твоя возникает нежданно
Чудищем бестелесным
Головой удрученной
Прекрасная ликом печаль.
КРИТИКА ПОЭЗИИ. Перевод М. Ваксмахера.
Разумеется я ненавижу царство буржуев
Царство шпиков и попов
Но сильнее стократ я ненавижу людей
Которые не ненавидят его
Так же как я
Всей душой.
Я плюю в лицо ничтожнейшему пигмею
Который всем стихам моим не предпочтет
Эту Критику поэзии.
ОДИНОКИЙ. Перевод М. Ваксмахера.
Я бы мог в одиночестве жить
Без тебя
Это кто говорит
Это кто без тебя может жить
В одиночестве
Кто
Жить наперекор всему
Жить наперекор себе
Надвигается ночь
Как прозрачная глыба
Я растворяюсь в ночи.
ТОЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СЕРДЦА. Перевод М. Ваксмахера.
О точность человеческого сердца
Все краски красоты
Отточенные формы
И прочие уловки лишь затем
Чтобы идти прямолинейно к цели
Точность
Неумолимого движения сквозь толщи
Случайных поцелуев и речей
Устойчивость устоев
В умах мужчин и женщин
И странность очертаний облаков
Не выходящая за грани облаков.
ЗАТЕРЯННЫЙ САД. Перевод М. Ваксмахера.
Этот сад выходил на море
Грудью гвоздики
Шуму воды подражал
Шелестел голосами лесными
Сердце сада струило свежесть
Спокойно и щедро
А цветы поднимались мягко
К корням рассвета
Этот сад выходил на сушу
Был он спокойно ласков
И на каждом шагу из чащи
Выплескивались аллеи
Пестрая гамма просек
Вливалась в поток пейзажа
И солнце апрельского цвета
Плыло в зеленом небе.
СВОБОДА[225]. Перевод М. Ваксмахера.
[225].
На школьных своих тетрадках
На парте и на деревьях
На песке на снегу
Имя твое пишу
На всех страницах прочтенных
На нетронутых чистых страницах
Камень кровь ли бумага пепел
Имя твое пишу
На золотистых виденьях
На рыцарских латах
На королевских коронах
Имя твое пишу
На джунглях и на пустынях
На гнездах на дроке
На отзвуках детства
Имя твое пишу
На чудесах ночей
На будничном хлебе дней
На помолвках зимы и лета
Имя твое пишу
На лоскутках лазури
На тинистом солнце пруда
На зыбкой озерной луне
Имя твое пишу
На полях и на горизонте
И на птичьих распахнутых крыльях
И на мельничных крыльях теней
Имя твое пишу
На каждом вздохе рассвета
На море на кораблях
На сумасшедшей горе
Имя твое пишу
На белой кипени туч
На потном лице грозы
На плотном унылом дожде
Имя твое пишу
На мерцающих силуэтах
На колокольчиках красок
На осязаемой правде
Имя твое пишу
На проснувшихся тропах
На раскрученных лентах дорог
На паводках площадей
Имя твое пишу
На каждой лампе горящей
На каждой погасшей лампе
На всех домах где я жил
Имя твое пишу
На разрезанном надвое яблоке
Зеркала и моей спальни
На пустой ракушке кровати
Имя твое пишу
На собаке лакомке ласковой
На ее торчащих ушах
На ее неуклюжей лапе
Имя твое пишу
На пороге нашего дома
На привычном обличье вещей
На священной волне огня
Имя твое пишу
На каждом созвучном теле
На открытом лице друзей
На каждом рукопожатье
Имя твое пишу
На стеклышке удивленья
На чутком вниманье губ
Парящих над тишиной
Имя твое пишу
На руинах своих убежищ
На рухнувших маяках
На стенах печали своей
Имя твое пишу
На безнадежной разлуке
На одиночестве голом
На ступенях лестницы смерти
Имя твое пишу
На обретенном здоровье
На опасности преодоленной
На безоглядной надежде
Имя твое пишу
И властью единого слова
Я заново жить начинаю
Я рожден чтобы встретить тебя
Чтобы имя твое назвать
Свобода.
ЗАТЕМНЕНИЕ. Перевод М. Ваксмахера.
Ну что поделаешь мы жили как в могиле
Ну что поделаешь нас немцы сторожили
Ну что поделаешь в тоске бульвары стыли
Ну что поделаешь сердца от горя ныли
Ну что поделаешь нас голодом морили
Ну что поделаешь мы безоружны были
Ну что поделаешь ночные тени плыли
Ну что поделаешь друг друга мы любили.
МУЖЕСТВО. Перевод М. Ваксмахера.
Парижу холодно Парижу голодно
Париж не ест на улицах каштанов
Париж в лохмотья нищенки оделся
Париж как в стойле стоя спит в метро
На бедняков свалились новые невзгоды
Но мудрость и безумье
Скорбного Парижа
В себя вбирает чистый воздух и огонь
В себя вбирает красоту и доброту
Его изголодавшихся рабочих
Не надо звать на помощь мой Париж
Ты жив ты жизнью удивительной живешь
За наготой за худобой за бледностью
В тебе таится человечность
Она горит в глазах твоих Париж
Прекрасный город мой
Как шпага сильный тонкий как игла
Доверчивый и умудренный ты не можешь
Снести несправедливость
Несправедливость худший хаос для тебя
Ты от него Париж освободишься
Париж мой трепетный далекая звезда
Надежда неугаснувшая наша
Освободишься ты от горя и от грязи
Мужайтесь братья
Нет у нас ни касок ни сапог
Мы ни мундирами ни выправкой не блещем
Но в наших жилах вспыхивает солнце
Наш свет вернулся к нам
Достойнейшие пали ради нас
И вот их кровь клокочет в нашем сердце
И снова утро утро над Парижем
Час избавленья
Ширь весны новорожденной
Тупая сила рабья терпит крах
Рабы враги наши должны это понять
И если понимать они способны
Они восстанут.
1942.
В ИСПАНИИ. Перевод М. Ваксмахера.
Если в Испании есть дерево цвета крови
Это дерево свободы
Если в Испании есть неумолкший язык
Он говорит о свободе
Если в Испании есть чистый стакан вина
Выпьет его народ.
МЫ ДВОЕ. Перевод П. Антокольского.
Мы двое крепко за руки взялись
Нам кажется что мы повсюду дома
Под тихим деревом под черным небом
Под каждой крышей где горит очаг
На улице безлюдной в жаркий полдень
В рассеянных глазах людской толпы
Бок о бок с мудрецами и глупцами
Таинственного нет у нас в любви
Мы очевидны сами по себе
Источник веры для других влюбленных.
ТРИСТАН ТЗАРА. Перевод А. Ларина.
Тристан Тзара (наст. имя — Сами Розеншток; 1896–1963). Выходец из Румынии. В 1919 г. переехал в Париж, где возглавил кружок дадаистов; затем на рубеже 20–30-х годов примкнул к сюрреализму, став одним нз его теоретиков, а позже — резких критиков («Сюрреализм и послевоенные годы», 1947). В ранней лирике («Первое небесное приключение господина Антипирина»; 1916; «25 стихотворений», 1918) сквозь нарочитую заумь пробивается наивная свежесть взгляда на вещи. Участвовал в движении Сопротивления. У позднего Тзара поток метафор, сохраняя оттенок герметичности, отражает раздумья о призвании человека, его долге, его трагедии в счастье («Завоеванные полдни», 1939; «Земля нисходит на Землю»! 1946; «Дозволенный плод», 1956).
ПЕСЕНКА ДАДА.
I.
Эта песня дадаиста
Сердцем истого дада
Стук в моторе не беда
Ведь мотор и он дада
Граф тяжелый автономный
Ехал в лифте невредим
Он мизинец свой огромный
Оторвал и выслал в рим
Лифт за это
Вот беда
Сердцем больше не дада
Вода нужна всегда
Прополощи мозги
Дада
Дада
Отдай долги
II.
Эта песня дадаиста
Ни опти ни пессимиста
Он любил мотоциклистку
Ни опти ни пессимистку
Муж негаданно нежданно
Обнаружив их роман
В трех шикарных чемоданах
Выслал трупы в Ватикан
Не крути
С мотоциклисткой
Ни с опти ни с пессимисткой
Воде нужны круги
Мозги твоя еда
Дада
Дада
Отдай долги
III.
Песенка мотоциклиста
Дадаистого душой
Потому и дадаиста
Что в душе дада большой
Змей в перчатках и белье
Закрутил в горячке клапан
И руками в чешуе
Римский папа был облапан
И скандал
Был большой
Проклял он дада душой
Мозги не с той ноги
Мозги одна вода
Дада
Дада
Чулки туги
СМЕРТЬ ГИЙОМА АПОЛЛИНЕРА.
Мы ничего не знаем
Мы ничего не знали про горе
Пора леденящего холода
Роет глубокие борозды в мышцах
Он предпочел бы радость победы
В тишине умудряющей скорби мы в западне
Изменить не в силах
Если бы снег валил из земли
Если бы солнце ночью всходило
Чтобы нас обогреть
Если бы кронами вниз красовались деревья
— Сплошной плач —
Если бы птицы с людьми поселились чтобы смотреться
В тихое озеро над головами людей
МЫ БЫ СМОГЛИ ПОНЯТЬ
Смерть была бы приятным и долгим вояжем
Бессрочным отпуском плоти из армии форм и костей
АНТОНЕН АРТО.
Антонен Арто (1896–1948). — Дебютировал сборником «Мистические сонеты» (1913), написанным под влиянием Рембо и Лотреамона. Сблизился с Андре Бретоном, сотрудничал в журнале «Сюрреалистическая революция», сыграл ряд ролей в театре и кино. В сборниках «Пуп чистилища» (1925) к «Нервометр» (1927) пытался передать ощущения «развоплощеннсй реальности», противопоставить свое «бессмертное бессилие», «безрассудную безнадежность» мыслям и чувствам «толпы». В 1926 г., порвав с кружком сюрреалистов, организовал «Театр Альфреда Жарри», в котором, используя приемы древних религиозных обрядов, старался возродить магическую функцию ароматического зрелища, превратить театр в средство «освобождения от страха перед бытием». Теоретические обоснования своих взглядов изложил в эссе «Театр и его двойник» (1938). Начинания Арто, идущие вразрез с ведениями времени, не имели успеха.
МОЛИТВА. Перевод А. Ларина.
О дай нам ярый словно угли мозг
Мозг опаленный лезвием зарницы
Мозг ясновидца череп чьи глазницы
Пронизаны присутствием твоим
Дай нам родиться в чреве звездном
Чьи бездны шквал изрешетил
Чтоб ужас нашу плоть пронзил
Когтем каленым смертоносным
Насыть нас днесь Нам сводит рот
Нам пиром будет грохот шквальный
О замени рекой астральной
Наш вялый кровооборот
Рассыпь рассыпь нас уничтожь
Рукою огненной стихии
Открой нам своды огневые
Где смерть еще страшней чем смерть
Наш хилый ум дрожать заставь
На лоне собственного знанья
И в новой буре мирозданья
Нас от сознания избавь
ЗАКЛИНАНИЕ МУМИИ. Перевод В. Козового.
И эти ноздри — кости, кожа, —
Там, где берет начало тьма
Первооснов, и этих губ тесьма,
Под краской стянутых до дрожи,
И медь, которой жизнь поит
Во сне тебя, развеяв кости,
И взгляда призрачного грозди,
Где ты, как в сети, ловишь свет,
О мумия, и руки-спички,
Чтоб ворошить тебе нутро,
В которых гробовая тень
Обличье принимает птички,
И все, во что рядится смерть,
Как в прихотливость ритуала,
И шепоток теней, и медь,
Где черное нутро слиняло, —
Тебя ловлю я в эти сети
Средь выжженных венозных троп,
И медь твоя, как мой озноб, —
Вернейший роковой свидетель.
ЛУИ АРАГОН.
Луи Арагон (род. в 1897 г.). — Учился на медицинском факультете. Принадлежал к группе дадаистов, затем сюрреалистов, с которыми порвал в 1930 г. С 1927 г. — член ФКП, основатель коммунистической газеты «Се суар» (запрещена в 1939 г.). Был гостем Первого съезда советских писателей, одним из организаторов конгресса в защиту культуры. После разгрома Франции летом 1940 г. явился одним из инициаторов создания Национального комитета писателей Южной зоны; выпустил подпольно ряд поэтических сборников, вошедших в золотой фонд литературы Сопротивления («Нож в сердце», 1941; «Глаза Эльзы», 1942, и др.). Прославлению антифашистской борьбы посвящен сборник новелл «Рабство и величие французов» (1945). После войны опубликовал книги стихов и поэмы («Глаза и память», 1954; «Неоконченный роман», 1956; «Меджнун Эльзы», 1963), романы («Коммунисты», тт. 1–6, 1949–1951; «Страстная неделя», 1956; «Гибель всерьез», 1965, и др.), эссе и исследования по вопросам литературы и искусства.
Много сделал для издания и пропаганды во Франции многонациональной советской литературы. В 1957 г. Арагону была присуждена международная Ленинская премия «За укрепление мира между народами». Член Центрального комитета Французской коммунистической партии.
Стихи Арагона неоднократно издавались в русском переводе; в частности, они составили 9-й том Собрания, сочинений Арагона (М., 1960).
ЛЮБОВНИКИ В РАЗЛУКЕ. Перевод Э. Линецкой.
Как двух глухонемых трагический язык
В гремящей темноте, в сумятице вокзалов —
Прощанье любящих, их молчаливый крик
В безмолвной белизне зимы и арсеналов.
И если к облакам лучи надежд летят
Средь баккара ночей, — их огненные руки,
Коснувшись птиц стальных, испуганно дрожат.
Не соловей — поверь, Ромео, полный муки, —
Не жаворонок вам устроил в небе ад.
В сугробах мир поблек, обмяк.
Вдруг замерли деревья, зданья,
Бесцветные, как воздух, как
Бесцветное воспоминанье,
Когда пришло — но в нем рвалось
Из строчек чувств больших дыханье —
Письмо, печальное до слез,
Письмо, печальное до слез.
Зима похожа на разлуку,
Зимой кристаллы льда поют,
И холод вин рождает скуку,
И звуки медленно текут,
Овладевают мной, и плещут,
И, как часы, все бьют и бьют,
И стрелки времени скрежещут,
И стрелки времени скрежещут.
Жена, мой луч и мой родник,
Зачем в письме такая горечь,
Ведь я люблю, зачем же крик, —
Так судно, тонущее в море,
Зовет и мучит дальний зов,
Который ветры на просторе
Глушат шуршаньем рифм и строф,
Шуршаньем всех своих грехов.
Моя любовь, теперь у нас
Осталась только слов помада,
В них по колена день увяз,
Похожий на преддверье ада.
Опять воскрес мечты росток
У башен Жевра, в недрах сада,
Где для меня играл рожок,
Где для тебя играл рожок.
Я сделаю из слов бесценные букеты —
Такие в дар кладут к подножию мадонн —
И подарю тебе прозрачность анемон,
Вероник синеву, сирень и первоцветы,
И пену нежную на ветках миндаля —
На майских ярмарках они чуть розовеют, —
И чаши ландышей — за ними мы в поля
Пойдем, когда… Но тут слова в цвету немеют,
От ветра этого ссыхается земля,
Цветы теряют цвет, фиалки глаз тускнеют.
Но буду для тебя я петь, пока волной
Стучится в сердце кровь и наполняет вены.
«Все это тру-ля-ля», — мне скажут, но смиренно
Я верю: радугой над светлою вселенной
Взойдут слова, что я, простой, обыкновенный,
Твердил тебе, и ты одна поймешь, — нетленны
Лишь потому любовь и солнце над землей,
Что осенью, когда весна была мечтой,
Я это тру-ля-ля спел, как никто другой.
ПАСТОРАЛИ. Перевод В. Левика.
Маркиз там ездит на мотоциклетке,
Там под бебе рядится старый кот.
Сопляк там ходит в дамской вуалетке
И, трам-пам-пам, пожарник помпы жжет.
Гниют на свалке там слова святые,
Слова пустые подняты на щит.
Там бродят ножки дочерей Марии,
И там спина эстрадницы блестит.
Там есть ручные тачки и повозки,
Автомобилей там невпроворот.
Суют во все свой нос там недоноски,
А трус иль плут во сто карат идет.
Видальщины, скажу я без обиды,
Навидишься у этих берегов!
Девиц невидных, потерявших виды,
Бандитов видных, с виду добряков,
Самоубийц, кидающихся в воду,
Тузов без карт, под видом правды ложь,
И жизнь идет там через пень колоду,
И ценности не ценятся ни в грош.
БАЛЛАДА О ТОМ, КАК ПОЮТ ПОД ПЫТКОЙ. Перевод П. Антокольского.
«Нет, колебанье бесполезно.
Все ясно для меня.
Я говорю из тьмы железной
Для завтрашнего дня».
В одной из черных одиночек
Шел разговор всю ночь.
«Согласен, — шепчет переводчик, —
Нам кое в чем помочь?
Жить, как мы все. Пусть на коленях.
Но жить. Согласен жить?
Шепни нам только слово, пленник,
Чтоб волю заслужить.
Шепни хоть на ухо, — и тотчас
Дверь настежь из тюрьмы.
Взвесь и прикинь, сосредоточась:
Не так уж скупы мы.
Смахнуть с земли тебя легко мне.
Легка любая ложь.
Но вспомни, вспомни, только вспомни,
Как белый день хорош».
И тот ответил: «Бесполезно.
Все ясно для меня», —
Так он сказал из тьмы железной
Для завтрашнего дня.
И довод прозвучал последний:
«Как люди ни чисты,
Но платят за Париж обеднен, —
Плати за жизнь и ты».
Шпион ушел с достойным видом,
Скрывая торжество,
И шепчет узник: «Нет, не выдам,
Не выдам никого.
Пусть гибну. Франции известен
Мой лозунг боевой.
За столько слов ее и песен
Плачу я головой».
Опять вошли, ведут под стражей
На немощеный двор.
И рядом вьется скользкий, вражий,
Немецкий разговор.
Но что ни скажут — бесполезно.
Молчал он, честь храня,
Под пулями, во мгле железной
Для завтрашнего дня.
Под пулями успел он фразу
Пропеть: «К оружью, граж…» —
И грянул залп. И рухнул сразу
Товарищ славный наш.
Но «Марсельеза» стала скоро
Той песнею другой,
Той самой лучшею, с которой
Воспрянет род людской.
РАДИО — МОСКВА. Перевод П. Антокольского.
Слушай, Франция! В недрах весеннего леса
Чья там песня вплетается в шелест ветвей,
Чья любовь совершенно подобна твоей?
Слушай, слушай! Откройся доверчиво ей.
Слушай, Франция! Есть на земле «Марсельеза»!
О далекая, как она нас отыскала?
Еле слышимый еле забрезжил мотив.
Так Роланд погибает, за нас отомстив.
Мавры мечутся. Но, Ронсеваль захватив,
Он швыряет вдогонку им горные скалы.
Бьется сердце. С биеньем его совпадая,
Отликается полная слез старина.
Жанна д’Арк сновиденьями потрясена.
А в глазах у нее вся родная страна —
Вся седая история, вся молодая.
Чей язык это? Кто его переиначит?
Не по школе я знаю грамматику ту.
Так стучит барабан на Аркольском мосту[226].
Так Бара и Клебер[227] исстуиленно кричат в темноту.
«Боевая тревога!» — вот что это значит!
Слушай, Франция! Ты не одна. Так запомни!
Не безвыходно горе, ненадолго ночь.
Просыпайся, крестьянская мать или дочь!
Выйди засветло, чтоб партизанам помочь!
Спрячь их на сеновале иль в каменоломне!
До расчета Вальми остаются часы[228].
Просыпайся, кто спит! Не сгибайся, кто тужит!
Пусть нас горе не гложет, веселье не кружит.
Пусть примером нам русское мужество служит.
Слушай, Франция! На зиму нож припаси!
* * *
«Маргарита, Мадлена, Мари…». Перевод М. Алигер.
Маргарита, Мадлена, Мари…
На холодные стекла дышу,
Имена ваши пальцем пишу.
Три сестры — как положено, три.
Пригласили на бал трех сестер,
Был у каждой наряд хоть куда!
Это платье — морская вода,
Это — ветер, то — звездный простор.
Мне покажут в предутренний час,
А иначе уснуть мне невмочь,
Башмачки, что плясали всю ночь
Вальсы венские и падеграс.
Маргарита, Мадлена, Мари…
До чего же одна хороша!
У другой веселится душа,
Ну а третья грустит до зари.
Я сопутствую сестрам, я тут!
Ах, какие в Сен-Сире балы!
У военных перчатки белы.
Вам бокалы они подают.
В трех сестер, словно в трех Сандрильон,
Ты влюбился, безусый Сен-Сир.
Пылкий принц! Эту ночь, этот пир
Завершит, как всегда, котильон.
Жизнь промчится, и бал пролетит.
Ты считал их длиннее вчера?
И растреплются косы с утра
У Мадлены, Мари, Маргерит…
* * *
«На Новом мосту я повстречал…». Перевод М. Алигер.
На Новом мосту я повстречал…
Откуда этот мотив зазвучал?
То ль от метро Самаритэн?
То ли с барки, которую ветер качал?
На Новом мосту слонялся слепой,
Без палки, собаки, нагрудной доски.
Бедняги, отвергнутые толпой,
Несчастные, как они мне близки!
На Новом мосту мне встретить пришлось
Мой смутный облик из давних годов.
Глаза его созданы только для слез,
А губы — только для бранных слов.
Я повстречал на Новом мосту
Эту жалкую нищету,
Когда не заботит тебя ничего,
Кроме страдания своего.
На Новом мосту подымается дым…
Я уже видел его весной,
Когда я был совсем молодым,
На давней заре, на опушке лесной.
На Новом мосту мне стало видней
Сходство с собой до рожденья на свет.
О призрак молодости моей!
О робость моих ребяческих лет!
На Новом мосту предо мной возник
Двадцатилетний невольник лжи.
Несчастный! И ложь пронеслась, как миг,
Ты был миражем и любил миражи.
Я юношу встретил на Новом мосту,
Обветренным ртом он песню пел,
В руках своих он держал пустоту
И сам от песни своей хмелел.
На Новом мосту, где звучат вокруг
Буксиров печальные голоса,
Я встретил жонглера, за ловкость рук
Отдавшего сердце и небеса.
На Новом мосту я видал игрока,
Который сжег свою душу сам,
Потеряв ее из виду, как голубка
Между башнями Нотр-Дам.
На Новом мосту повстречался мне
Мой призрак в начале моем, вдалеке:
Вниз по течению — город в огне,
Песня смолкает — вверх по реке.
На Новом мосту, у тихой реки,
Мне какой-то малыш указал вперед,
И я увидел из-под руки,
Как солнце пятнает зеркало вод.
На Новом мосту меня догнал
Мой ближний — я сам в обличье ином —
И, озаренный закатным огнем,
«Товарищ», — тихо он мне сказал.
На Новом мосту я узнал на миг
Тебя, легкомысленный мой двойник.
И стоял я — уйти мне было невмочь —
В своей тени, отступающей прочь.
На Новом мосту я повстречал,
Присев на одну из щербатых плит,
Напев, что в душе моей отзвучат,
Мечту, что звездой уж мне не горит.
Я встретил слепца, я встретил слепца…
Вчерашний мой день, мне тебя не жаль!
Ты мимо прошел, не подняв лица,
По Новому мосту вдаль…
ОГРОМНЫЙ МИР. Перевод М. Алигер.
Куда бежать из дому,
Чтобы сменить солому,
Если ты сам — огонь?
Если ты сам — солома,
Не надо бежать из дома,
Неся в себе огонь.
Солома так хрупка,
Что размечешь ее слегка —
И ярче горит огонь,
А его бы убавить чуть-чуть.
А его бы — вовсе задуть.
* * *
«Как пахнут черникой…». Перевод М. Кудинова.
Как пахнут черникой
Корзины и мрак!
Нам тайной великой
Казался чердак.
Теней королевство,
Былой аромат.
Внизу, по соседству,
Портретов парад.
Вот кресла хромые,
Приметы игры,
И тени немые,
И сны детворы.
Но кто там? Возможно,
То я… или он…
Пусты и тревожны
Глаза у окон.
Соломинки колки
В полях за рекой,
Где крик перепелки
Рвет летний покой,
Сел ветер у края
Прозрачной воды,
И цапли, шагая,
Глядятся в пруды,
Мне чудится: поезд
Пыхтит вдалеке.
На лозах покоясь,
День спит в ивняке.
Сны августа, тая,
Истомой полны.
Деревья ласкают
Лицо синевы.
Туманные фото
И времени бег…
О ком-то, про что-то
Забыто навек.
* * *
«О гитара гитара в чьем горле упрятано сердце мое…». Перевод Б. Слуцкого.
О гитара гитара в чьем горле упрятано сердце мое
Как собаке усталой мне осталось одно лишь вытье
О гитара советуй люблю я но я не любим
Пусть умолкнут поэты перед плачем чуть слышным моим
На гитаре гитаре
О гитара гитара ночь делает лучшей чем ночь
Кроме слез нет нектара отброшу все прочее прочь
О гитара покоя гитара забвенья мечты
Сжал стакан ты рукою в тот час когда спать должен ты
Без гитары гитары
О гитара гитара ты одна лишь находишь пути
К песне груетной к искусству что крест помогает нести
О гитара голгофы без тебя мне не нужно гитар
Жгите все мои строфы и голос гитара я стар
Гитара гитара гитара
ЖАН КАССУ. Перевод В. Левика.
Жан Кассу (род. в 1897 г.). — Поэт, прозаик, литературовед, искусствовед. Родился в Испании, в семье французского инженера. Окончил филологический факультет Сорбонны. В годы фашистской оккупации вступил в подпольную группу «Музей Человека», был брошен в застенок, где создал «в уме», без карандаша и бумаги, сборник «33 сонета, написанные тайком» — один из самых ярких и трагичных поэтических памятников французского Сопротивления, изданный в 1944 г. нелегально под псевдонимом Жан Нуар. С тех пор редко обращается к поэзии в прямом смысле слова («Роза и вино», 1952; «Баллады», 1956), но поэтическая «закваска» присутствует в его романах, исторических трудах, монументальной «Панораме современных пластических искусств» (1946), литературно-критических работах. Никогда не порывавший духовных связей с Испанией, Кассу является знатоком и популяризатором ее культуры, переводчиком Сервантеса и автором монографии о нем (1936).
«Далекой жизни шум…».
Далекой жизни шум, божеств ушедших тени,
Гудки на улицах, у школы крик ребят,
Слепой автомобиль, бегущий в мир видений,
Под праздник — перезвон, зовущий, как набат,
И гулы, влитые в глубины средостений, —
Кто свел меня в ту глубь, где образы их спят?
Не ночь и не судьба. Какой же злобный гений?
И лица милые ищу я наугад.
Но мне, чтоб этих тайн глубоких причаститься,
С лучами прошлого пришлось навек проститься.
Свет — в ваших голосах. А я — из темноты!
Но я сквозь эту дверь прорвусь в живые сферы,
Как блестки черные, неся в душе цветы
Небес поверженных, светил моей пещеры.
* * *
«Кругом одни щербатые стволы…».
Кругом одни щербатые стволы,
Где пьяных галок сборище галдело,
И крепость тусклым инеем блестела,
Когда вошел я в мир железной мглы.
Здесь нет со мной ни книги, ни души —
Моей души, подруги грешной тела,
Ни девочки, что жадно жить хотела,
Со мною встретясь там, в земной тиши.
На плитах багровела кровь Орфея,
Белели стены, словно чаши лилий,
Косились окна, точно злая фея,
И злые руки стекла затемнили.
От счастья пьян, бессмысленно жесток,
Теперь актер здесь льесу ставить мог.
* * *
«Всегда, спокон веков…».
Всегда, спокон веков, в мученьях умирают
Рабочие. Их кровь течет по мостовым.
Мотор и маховик, меха, огонь и дым,
Болезни, нищета и голод убивают
Рабочего. Под стать булыжникам нагим —
Деревьев нагота. Решетки истлевают
В домах призрения, и годы уплывают
В крови, и каждый год бичом нужды гоним…
Бог справедливости, не в небесах царящий,
Но здесь, в людских сердцах, где ширится гроза!
Прольешь ли благодать на лик земли скорбящей?
Бог сильных, силы бог, внемли, открой глаза!
Безмолвствуют уста, грозят безмолвно очи,
И руки в кандалы зажаты. Но рабочий?..
ФИЛИПП СУПО.
Филипп Супо (род. в 1897 г.). — Окончил факультет права и литературы в Париже. Участвовал в первой мировой войне. В 1919 г. совместно с Л. Арагоном и А. Бретоном организовал журнал «Литература» — первоначально орган дадаизма, затем — сюрреализма. В сборниках «Роза ветров» (1920) и «Вествего» (1922) протест против пошлой буржуазной действительности перерастает в неприятие реального мира, в бунт против разума и логики. В 1930 г. посетил СССР, с энтузиазмом отозвался о строителях первой пятилетки. В сложных по форме послевоенных стихах («Оды», 1946; «Без лишних фраз», 1953) звучат гражданские мотивы. Лучшие романы Супо («Братья Дюрандо», 1924; «Великий человек», 1929) критикуют фальшь человеческих отношений в капиталистическом обществе.
ДЖОРДЖИЯ. Перевод В. Козового.
Я не сплю ночей Джорджия
Я пускаю стрелы в ночь Джорджия
Я жду Джорджию
Я мечтаю о Джорджии
Огонь похож на снег Джорджия
Моя соседка ночь Джорджия
Я в каждый вслушиваюсь звук Джорджия
Я вижу дымок он растет он летит Джорджия
Я крадусь тороплюсь в полутьме Джорджия
Я бегу вот и улица пригород Джорджия
Вот и город он неизменен
Но мне незнаком Джорджия
Я тороплюсь вот и ветер Джорджия
И холод и страх и безмолвие Джорджия
Я бегу Джорджия
Я спешу к тебе Джорджия
Облака невысоко скоро рухнут Джорджия
Я тяну руки Джорджия
Я глаз не смыкаю Джорджия
Я зову Джорджию
Я кричу Джорджия
Я зову Джорджию
Я зову тебя Джорджия
Придешь ли ты Джорджия
Скоро ли Джорджия
Джорджия Джорджия Джорджия
Я не сплю ночей Джорджия
Я жду тебя
Джорджия
ФРАНСИС ПОНЖ. Перевод М. Ваксмахера.
Франсис Понж (род. в 1899 г.). — Участник движения Сопротивления. Произведения 20–50-х годов («Двенадцать малых сочинений», 1926; «Приняв сторону вещей», 1942; «Гвоздика. Оса. Мимоза», 1946; «Сосновая тетрадь», 1947) объединены в трехтомный «Большой сборник» (1961). Творчество Понжа, этого, как его именуют критики, «а-поэта», — полная противоположность традиционной лирике, стремящейся очеловечить природные явления, использовать их как источник образов, воплощающих людские помыслы и страсти. В своих нарочито бесстрастных описаниях Понж старается в прямом смысле слова «принять сторону вещей», отождествить себя с улиткой и галькой, осой и гвоздикой, чтобы, вырвав их из царства немоты, установить, как он считает, подлинную, а не иллюзорную связь человека с окружающим миром.
НЕНАВИСТЬ. (Еще один эшелон).
Отчего в отвращенье
Немеет рука
По какому смещенью
Привычных вещей
Стук копыт за окном
Как бряцанье стаканов
Терзает мне грудь
Поезд чокнулся с адом
И тронулся в путь.
1942.
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ.
Дождь не просто образует линии связи между землей и небесами, существуют связи другого рода, они менее прерывисты и гораздо крепче сотканы, и даже ветер, который колышет эту ткань, не в состоянии ее унести. Если порой, в иное время года, и удается ему оторвать от нее какие-то лоскутки, чтобы закружить их в вихре, в конечном счете оказывается, что он ничего не развеял.
Если вглядеться поближе, замечаешь, что ты — у одной из тысяч дверей в огромную лабораторию, которая вся ощетинилась гидравлическими аппаратами, куда более ложными, чем обычные дождевые колонны, и обладающими изначальным совершенством: реторты, и фильтры, и сифоны, и перегонные кубы одновременно.
Эти аппараты встают на пути дождя, прежде чем он достигает земли. Они встречают
Его множеством чаш, в огромном количестве расположенных на разных уровнях, на
Большей или меньшей глубине, и дождь переливается из одних чаш в другие, и так
До самых нижних, откуда уже наконец орошается почва.
Так они по-своему замедляют ливень и долго хранят его влажность и его благодатность для почвы — после исчезновения метеора. Только они одни обладают властью — заставить сверкнуть на солнце формы дождя, другими словами — выявить с точки зрения радости те основы, которые, будучи поняты слишком буквально, быстро окажутся в лапах печали. Любопытное ремесло, загадочные натуры.
Они растут в высоту, по мере того как идет дождь, но с большей, чем он, размеренностью, с большей скромностью и, благодаря накопленной силе, даже тогда, когда дождь миновал. Наконец, можно найти еще воду в колбах, которые они образуют и несут с краснеющей любовью, — мы зовем эти колбы плодами.
Такова, кажется, физическая функция этого своеобразного ковра, который обладает тремя измерениями и который получил наименование растительности из-за других своих свойств, в частности, из-за той жизни, которая его одушевляет. Но прежде всего мне хотелось бы вот что отметить: хотя способность осуществлять свой собственный синтез и возникать неожиданно там, где их и не просят (даже среди мостовых Сорбонны), роднит растительные аппараты с животными, то есть с бродягами всякого рода, тем не менее в разных местах они образуют прочную ткань, и эта ткань принадлежит мирозданию как одна из его основ.
АНРИ МИШО.
Анри Мишо (род. в 1899 г.). — Уроженец Бельгии, поэт, живописец и музыкант, Мишо, несмотря на формальную верность сюрреализму, стоит во французской литературе XX в. особняком: его творчество не вмещается ни в какие рамки, не поддается никакой классификации. Меткие и точные наблюдения он приносит в жертву безудержной игре фантазии, а диковинные нравы и занятия своих героев, невообразимую флору и фауну вымышленных стран описывает с наукообразной дотошностью. Откровенное издевательство над скудоумием мещанина соседствует у него с добровольным отказом от здравого смысла, тонкая и умная ирония — со зловещим «черным юмором». Необычна и форма его сочинений, больше всего напоминающая раешник: то ритмизированная и оснащенная рифмами проза, то почти лишенный ритма и рифмы стих. Основные сборники: «Кем я был» (1927), «Мои владения» (1929), «Некий Плюм» (1930), «Ночь шевелится» (1934), «Лицом к засовам» (1954), «Великие испытания духа» (1966).
Стихи А. Мишо (в переводе В. Козового) вошли в сборник «Из современной французской поэзии», выпущенный в 1973 г. издательством «Прогресс».
ПЕЙЗАЖИ. Перевод В. Козового.
Пейзажи мирные или унылые.
Пейзажи странствия по жизни, а не виды поверхности земной.
Пейзажи Времени, текущего лениво, почти недвижно, а порою будто вспять.
Пейзажи лохмотьев, исхлестанных нервов, надсады.
Пейзажи, чтоб прикрыть сквозные раны, сталь, вспышку, ело, эпоху, петлю на шее,
Мобилизацию.
Пейзажи, чтобы крики заглушить.
Пейзажи — как на голову натянутое одеяло.
НА ПУТИ К СМЕРТИ. Перевод В. Козового.
На пути к смерти
Моя мать повстречала громадный торос|
Мать хотела шепнуть…
Но было уж поздно;
Громадный ватный торос.
Мать взглянула на нас — на меня и на брата — И заплакала.
Мы сказали ей — совершенно нелепая ложь, —
Что мы всё хорошо понимаем.
И она улыбнулась прелестной, совсем юной улыбкой,
Улыбкой, в которой была она вся, —
Такой милой улыбкой, почти шаловливой;
Потом ее скрыла Тьма.
СТАРОСТЬ. Перевод В. Козового.
Вечера! Вечера! Сколько их — за единое утро в отместку!
Разбросанные островки, обломки, тающие угольки…
Ложишься скопом в постель — распад неотвратимый!
Старость, старость, воспоминанья: арены тоски!
Ненужные снасти, неспешная разборка!
Итак, нас уже выпроваживают!
Взашей! Взашей толкают!
Свинец падения, туманы позади…
И бледная струя несбывшегося Знания.
МОРЕ. Перевод М. Кудинова.
Бесконечное море — вот что мне дорого, вот что я знаю.
В двадцать два года я город покинул и стал моряком.
На палубе, в трюме — повсюду кипела работа.
Я был удивлен.
Мне раньше казалось, что на корабле
Только смотрят на море. Все время смотрят на море.
Началась безработица, и моряки с кораблей уходили.
Я тоже ушел.
Ничего не сказал я: во мне было море и вечно вокруг меня море.
Да! Но какое?
На это мне было бы трудно ответить.
ЖАК ОДИБЕРТИ.
Жак Одиберти (1899–1965). — Поэт, романист и драматург. Его жворчество, включающее в себя все богатство поэтических жанров — от филоеофеко-эпической поэмы до простой лирической песенки, — это неистощимый каскад ритмов, размеров, синтаксических и фонетических находок, фейерверк бесконечно разнообразных, но подчас лишенных глубины образов. Основные сборники: «Род людской» (1937), «Бочки семян» (1941), «Новое начало» (1942).
«Стена изогнута, как подсказала карта…». Перевод Э. Ананиашвили.
Стена изогнута, как подсказала карта, —
По замыслу Вобана[229] или Бонапарта.
В ограде — замок, храм, дома и с двух сторон
Две башни. С насыпи, врисованный, как в фон,
В сияющую гладь марины[230] монотонной —
В обманчивую синь над чашею бездонной,
Наш город кажется мне золотой горой,
И башни — символами мощи, а порой
Лишь парой костылей существ не нашей стати…
Одна ведет на штурм воинственные рати,
Другая тихий звон в горячий полдень шлет,
Вся — скованный порыв, окаменевший взлет
В зенит, за облака, в надмирное сверканье.
Так рвется город вверх и вдаль — хоть в эти зданья
Внесли свой промысел и стряпчий и мясник…
Но как над башней зонт смоковницы возник?
Родится новая смоковница из корня:
Встает свечей побег, чем тоньше, тем упорней,
А то от дерева отломанный сучок
В воде пробудится — и прорастает в срок.
Как в этой вышине, на кладке затверделой,
Заросшей известью, как бы заиндевелой,
Веленью семени послушен, вырос ствол
Древесный — если б не верховный произвол,
Что, естество поправ, позволил угнездиться
Над валом, в воздухе, буддийской сребролицей
Богине-дереву, шатер раскинуть свой
В легчайших облаках, сливаясь с синевой?
Под каждым камнем ключ, минувшего струенье.
В обвале времени век — то же, что мгновенье,
Но человек и стар и юн; ища себя,
Он чтит прошедшее, свой образ в нем любя.
Плита и два цветка на камне — контур тонкий —
Воспоминанье о танцующем ребенке.
Он пляшет. Он любим. Он мертв. Он утвержден —
Плоть золотисто-хрупкая, Септентрион[231], —
В воздушной вечности своей, бесплотный, ныне
Орфея лирой и, быть может, благостыней
Того, кто в храм пришел учить в двенадцать лет.
За валом, в слободе, ремесленникам вслед,
Садовник, новых роз сортами увлеченный,
Солдат, рыбак, чей друг-кормилец — вал соленый,
Все — обитатели предместий и застав,
Все, кто, от злобы и жестокости устав,
От распрь и от вражды, вскипающих все снова,
Скорбят о том, что мы не поняли простого
Урока, пленники железа, слов и числ, —
Пяти исконных чувств забыли мудрый смысл.
Меж башен вписан храм. Он всех строений краше.
На пламенеющем над хорами витраже,
Весь в голубом, Христос парит превыше гор,
И цвета риз его — в окне морской простор,
К востоку — снежных Альп фантомы и миражи,
Близ ангельских высот — зазубренные кряжи.
Сбегает лестницей сапфирная гряда,
Где в дремлющих лесах белеют города,
И вспыхнет вдруг порой окошко — отблеск алый,
Когда светило дня опустится устало
Туда, где к западу встал за Гарупой лес…
Так сходят горы из обители чудес,
И в скатах всхолмленных запечатлелись игры
Вершин — Памир, Кайраз, застывший в позе тигра,
И, волей случая изваянный, гранит
Порой надменное обличив хранит,
Всей крутизной стремясь к Италии лазурной
Летучим очерком всесовершенной урны…
РОБЕР ДЕСНОС. Перевод М. Кудинова.
Робер Деснос (1900–1945). — Первые стихи публиковал в социалистическом журнале «Трибуна молодых» (1917). В сборниках «Траур ради траура» (1924) Е «Свобода или любовь» (1927) формальное экспериментаторство в духе сюрреализма сочетается со стремлением «эпатировать обывателя», вывернув наизнанку и доведя до абсурда основные нормы мещанской морали. Любовь к народному языку, врожденный вкус и тяга к классической ясности заставили Десноса порвать с сюрреалистами. Подлинное свое лицо поэт обретает в сборниках «Судьбы» (1942), «Наяву» (1943), отражающих сложный духовный мир современника, полных философских раздумий о смысле бытия. Активный участник Сопротивления, автор нелегально распространявшихся сатирических стихов, направленных против оккупантов и их приспешников, Деснос был брошен сначала в Освенцим, затем отправлен по этапу в концлагерь Терезин (Чехословакия), rge умер от тифа уже после освобождения, в июне 1945 г. Сб. стихов Робера Десноса (в переводе М. Кудинова) вышел в изд-ве «Художественная литература» в 1970 г.
1936.
В дверь постучи —
Тебе не ответят.
Вновь постучи —
Тебе не откроют.
Вышиби дверь —
И увидишь тогда,
Что путь свободен,
И дом свободен,
И в дом этот можно
Войти без труда.
Так и в любви и в жизни бывает.
Но не всегда.
СИЕСТА.
В послеполуденном глубоком сне моем
Сто тысяч лет прошли быстрее, чем мгновенье,
И вновь реален мир, и плоть обрел я в нем,
Покинув смутные глубины сновиденья.
Но на моих губах имен старинных след
И поцелуев след остался. Я не знаю,
Сегодняшним ли днем иль пеплом прошлых лет
Живет в смятении душа моя земная.
О, грохочи, вулкан, чтоб лава залила
В глубинах памяти несмытую усталость
И чтобы навсегда померкли зеркала
И отражение в их стекла не вгрызалось!
ПЕЙЗАЖ.
Мне грезилась любовь. Люблю я до сих пор.
Но больше нет в любви тех запахов букета,
Что наполняют лес, где расцветает лето
И где у входа спит невидимый костер.
Мне грезилась любовь. Люблю я до сих пор.
Но больше нет в любви тех молний до рассвета,
Когда все рушится, пылают замки где-то,
Когда утерян путь и смотрит мрак в упор.
Нет! К слову этому не подобрать ключи.
То под моей ногой горит кремень в ночи,
Волна вздымается, громада туч на страже…
С приходом старости ты замечаешь вдруг,
Как стало четким все, как ясно все вокруг,
Как ты становишься подобием пейзажа.
* * *
«У края пропасти…».
У края пропасти, где ты исчезнешь вскоре,
На розу посмотри, прислушайся к словам
Той песни, что сама ты пела по утрам,
Встречая дня приход с надеждою во взоре.
Еще мгновение живи! Не всходят зори
В стране забвения. Молчит природы храм.
И, в мир теней войдя и потерявшись там,
Ты не родишься вновь и не увидишь море.
Звезда падучая, став жертвой немоты,
В глубинах времени соединишься ты
С потухшим светом звезд, утративших названье.
И эхо дальнее в безмолвном том краю
Не будет повторять: «Люблю тебя, люблю!»
И дней круговорот не всколыхнет сознанья.
* * *
«Я так много мечтал о тебе…».
Я так много мечтал о тебе,
Я так много ходил, говорил,
Я так сильно любил твою тень,
Что теперь у меня ничего от тебя не осталось.
Одно мне осталось: быть тенью в мире теней,
Быть в сто раз больше тенью, чем тень.
Чтобы в солнечной жизни твоей
Приходить к тебе снова и снова.
ЗАВТРА.
Я и в сто тысяч лет еще имел бы силы
Тебя, день завтрашний, предчувствовать и ждать.
Пусть время тащится, кряхтя, как старец хилый,
Я знаю, что оно идти не может вспять.
День завтрашний придет. Но ждем мы год из года.
Храня огонь и свет, мы бодрствуем и ждем,
И наша речь тиха — бушует непогода,
И отдаленный гул чуть слышен за дождем.
Из глубины ночной, во мраке леденящем
Свидетельствуем мы: прекрасен дня расцвет…
Мы жить не в будущем хотим, а в настоящем,
И потому не спим, чтоб не проспать рассвет.
1942.
КУПЛЕТ О СТАКАНЕ ВИНА.
Когда тронется поезд, не надо махать мне платком,
Ни рукой, ни зонтом.
Но, наполнив стакан свой вином, ты до самого дна
Вслед бегущему поезду
Выплесни длинное пламя вина,
Чтоб метнулось оно мне вослед,
Это терпкое, это кровавое пламя,
Которое, словно язык, прикасалось к губам
И оставило след над твоими губами.
1942.
ЭПИТАФИЯ.
Я жил в суровый век. Давным-давно я умер.
Я жил настороже, был ко всему готов.
Честь, благородство, ум томились в клетках тюрем.
Но я свободным был, живя среди рабов.
Я жил в суровый век, но мрак мне взор не застил,
Я видел ширь земли, я видел небосвод,
Дни солнечные шли на смену дням ненастья,
И было пенье птиц и золотистый мед.
Живые! Это все — теперь богатство ваше.
Его храните вы? Возделана ль земля?
Снят общий урожай? И хорошо ль украшен
Тот город, где я жил и где боролся я?
Живые! Я в земле — мой прах топчите смело:
Нет больше у меня ни разума, ни тела.
ЖАК ПРЕВЕР.
Жак Превер (род. в 1900 г.). — С 1926 по 1929 г. участвовал в движении сюрреалистов, затем сотрудничал с театром «Группа Октябрь», гастролировавшим в СССР в 1933 г. До войны был известен главным образом как сценарист. В 1946 г. выпустил сборник стихотворений «Слова», ва которым последовали «Истории» (1946), «Зрелище» (1951), «Дождь и вёдро» (1956), «Дребедень» (1966). Стихи Превера чужды всякой псевдосложности, герметичности; они берут свои истоки в народном словотворчестве и обращены к народу; сохраняя естественную интонацию живой речи, с ее неожиданными паузами и отступлениями, они наделяют новым, подчас парадоксальным смыслом обыденные вещи и явления. Многие стихк Превера, положенные на музыку, стали популярными песнями.
Стихи Превера (в переводе М. Кудинова) выходили в изд-ве «Прогресс» в 1960 и 1967 гг.
СТИРКА. Перевод М. Кудинова.
О страшный, удивительный запах умирающей плоти,
От которого листья в саду
Желтеют и падают, словно настала осень…
Этот запах, откуда он?
Из дома, где живет господин Эдмон,
Глава семьи,
Глава канцелярии,
Сегодня день стирки,
Это запах семьи,
И глава семьи,
Глава канцелярии
Вокруг семейного ходит корыта
И фразой любимой, фразой избитой
Сотрясает воздух опять и опять:
«Грязное белье надо дома стирать!»
Все семейство столпилось вокруг корыта,
Содрогаясь от ужаса и стыда,
Семейство кудахчет, семейство стирает,
И снова трет, и снова стирает,
И на пол стекает,
Стекает вода.
Котенок, который все это слышит,
Хотел бы сбежать отсюда на крышу,
Потому что котенка от стирки тошнит,
Тошнит от этой возни у корыта,
Но как сбежать, если окна закрыты,
И дверь закрыта,
И ключ торчит?
……………………………..
Вдруг раздаются рыданья и стоны,
И лапками уши зверек затыкает,
Потому что котенку
Жалко девчонку,
Это она кричит и рыдает,
Это она, хозяйская дочка,
Причина гнева,
Причина волнений,
Она в корыте, и щеткой колючей
Папаша дочь свою трет в исступленье.
На ней пятно,
На хозяйской дочке,
И вот принялась вся семья стирать
Хозяйскую дочь, которая кровью исходит,
Кричит, но не хочет,
Не хочет
Чье-то
Имя
Назвать.
Глава семейства рычит, как зверь:
«Язык за зубами держите теперь!»
Одно лишь ясно дочкиной маме:
«Пусть все останется между нами».
Кричат сыновья, и кузины, и тетки,
Кричит попугай, на жердочке сидя,
И крики бушуют и жгут, как пламя:
«Пусть все останется между нами».
О честь семьи,
Честь отца и сына,
Честь попугая Святого Духа!
Беременна дочь,
Отличилась девчонка,
Но кто же,
Кто же отец ребенка?
Во имя отца и во имя сына,
Во имя попугая Святого Духа,
Пусть все останется между нами!
Уселась на край корыта старуха
И смотрит на внучку злыми глазами,
Сплетая венок из мертвых цветов
Тому, кто на свет появиться готов,
Чтоб опозорить семейное знамя.
Как виноград выжимают в давильне,
Так в этой давильне семейной чести,
Сбросив ботинки, топчут ногами,
Порознь топчут девчонку и вместе.
…………………………………
Но вот на часах половина второго,
И наступает затишье снова.
Глава семьи,
Глава канцелярии
На голову надевает
Головной убор,
И, выйдя на главную улицу города,
Шагает, смотря на прохожих в упор,
Шагает по направлению к своей канцелярии,
И когда он переступает ее порог,
То воздух канцелярии оглашают приветы:
Начальник с подчиненными совсем не строг.
Начищены до блеска его штиблеты,
И выпачканы кровью
Ног.
ГОЛОДНОЕ УТРО. Перевод М. Кудинова.
Он страшен,
Стук этот слабый, когда разбивают о стойку крутое яйцо;
Он страшен, если всплывает
В памяти человека, которому голод сводит лицо;
И страшна голова человека,
Которому голод сводит лицо,
Когда человек, в шесть утра подойдя к магазину,
Глядит на витрину
И налиты ноги его свинцом.
Он видит голову цвета пыли,
Но он рассматривает совсем не ее,
Ему наплевать на свое отражение,
Которое появилось на стекле витрины,
Он думает не о нем,
В его воображении —
Голова другая, совсем другая:
Ему мерещится голова телячья,
Голова телячья с острой приправой
Или голова все равно какая,
Лишь бы она съедобной была.
У человека шевелится челюсть
Совсем тихонько,
Совсем тихонько,
И он тихонько скрежещет зубами,
Потому что весь мир смеется над ним,
А он бессилен перед этим миром,
И он начинает считать на пальцах —
Один, два, три,
Один, два, три,
Три дня без еды, три дня без еды,
И все три дня он твердил напрасно:
«Так продолжаться больше не может»;
Но это продолжается
Три дня,
Три ночи,
Совсем без еды…
А тут, за витриной,
Эти паштеты, бутылки, консервы,
Мертвые рыбки в консервных банках,
Консервные банки за стеклом витрины,
Стекло витрины под охраной ажанов,
Ажаны с дубинками под охраною страха —
Сколько баррикад для несчастных сардинок!..
Немного поодаль — двери бистро,
Кофе со сливками, хруст пирожков,
Человек шатается,
У него в голове
Туман слов,
Туман слов:
Сардины в банках,
Крутые яйца,
Кофе со сливками,
Кофе с ромом,
Кофе со сливками,
Взбитые сливки,
Убитые сливки,
Кофе с кровью…
Человек, почитаемый в своем квартале,
Был среди бела дня зарезан;
Убийца-бродяга украл у него
Два франка,
Что значит: кофе со сливками
(По счету семьдесят пять сантимов),
Два ломтика хлеба, намазанных маслом,
И двадцать пять сантимов на чай официанту.
Он страшен,
Стук этот слабый, когда разбивают о стойку крутое яйцо,
Он страшен, если всплывает
В памяти человека, которому голод сводит лицо.
КАК НАРИСОВАТЬ ПТИЦУ. Перевод М. Кудинова.
Сперва нарисуйте клетку
С настежь открытою дверцей,
Затем нарисуйте что-нибудь
Красивое и простое,
Что-нибудь очень приятное
И нужное очень
Для птицы;
Затем в саду или в роще
К дереву полотно прислоните,
За деревом этим спрячьтесь,
Не двигайтесь
И молчите.
Иногда она прилетает быстро
И на жердочку в клетке садится,
Иногда же проходят годы —
И нет
Птицы.
Не падайте духом,
Ждите,
Ждите, если надо, годы,
Потому что срок ожидания,
Короткий он или длинный,
Не имеет никакого значения
Для успеха вашей картины.
Когда те прилетит к вам птица
(Если только она прилетит),
Храните молчание,
Ждите,
Чтобы птица в клетку влетела,
И, когда она в клетку влетит,
Тихо кистью дверцу заприте,
И, не коснувшись ни перышка,
Осторожно клетку сотрите.
Затем нарисуйте дерево,
Выбрав лучшую ветку для птицы,
Нарисуйте листву зеленую,
Свежесть ветра и ласку солнца,
Нарисуйте звон мошкары,
Что в горячих лучах резвится,
И ждите,
Ждите затем,
Чтобы запела птица.
Если она не поет —
Это плохая примета,
Это значит, что ваша картина
Совсем никуда не годится;
Но если птица поет —
Это хороший признак,
Признак, что вашей картиной
Можете вы гордиться
И можете вашу подпись
Поставить в углу картины,
Вырвав для этой цели
Перо у поющей птицы.
ПАРИЖ НОЧЬЮ. Перевод М. Кудинова.
Три спички, зажженные ночью одна за другой:
Первая — чтобы увидеть лицо твое все целиком,
Вторая — чтобы твои увидеть глаза,
Последняя — чтобы увидеть губы твои.
И чтобы помнить все это, тебя обнимая потом,
Непроглядная темень кругом.
ВСЕ МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ. Перевод М. Кудинова.
Все меньше и меньше остается лесов!
Их истребляют,
Их убивают,
Их сортируют
И в дело пускают,
Их превращают
В бумажную массу,
Из которой получают миллиарды газетных листов,
Настойчиво обращающих внимание публики
На крайнюю опасность истребленья лесов.
КОТ И ДРОЗД. Перевод М. Ваксмахера.
В деревне — беда.
Люди печально слушают
Раненого дрозда.
Слушают, как единственный в деревне дрозд
Последнюю песню поет,
Потому что единственный в деревне кот
Наполовину сожрал дрозда.
И вот умолкает дрозд навсегда,
И сытый кот
Восвояси бредет,
Облизываясь на ходу,
И деревня роскошные похороны
Устраивает дрозду.
Давно не видали таких похорон!
В качестве гостя почетного
Кот приглашен.
В процессии траурной степенно шагает кот.
Девочка соломенный гробик несет,
Несет и горько-прегорько плачет.
И говорит ей кот:
«Да если б я знал,
Что дрозд в твоей жизни так много значит,
Я бы его целиком сожрал,
А тебе бы сказал,
Что дрозд улетел далеко-далеко,
В края, из которых вернуться домой нелегко,
И что, пожалуй,
Он никогда не вернется,
И ты бы чуть-чуть погрустила,
Но не стала бы слезы лить…
Ах, нужно любое дело
До конца доводить!»
НАПЛЕВАТЬ ВАМ НА ТЕХ. Перевод М. Ваксмахера.
Впустите скорее собаку, покрытую грязью,
Наплевать вам на тех, кто не любит собак и гнушается грязи,
Впустите, впустите собаку, которая вся, от хвоста до загривка,
Заляпана грязью,
Наплевать вам на тех, кто гнушается грязи,
Кто не знает собак,
Не понимает собак
И не ведает грязи,
Впустите собаку,
Дайте ей отряхнуться от грязи,
Собаку можно отмыть,
Грязь можно отмыть,
Воду тоже можно отмыть,
Но никак не отмоешь того,
Кто твердит, что он любит собак
При одном лишь условии, что…
Нет, собака, покрытая грязью, чиста,
Грязь тоже чиста,
И даже вода
Иногда бывает чиста,
А те, кто твердит:
«При одном лишь условии, что…» —
Не бывают чисты
Никогда.
РАЙМОН КЕНО. Перевод М. Кудинова.
Раймон Кено (наст. имя — Мишель Прель; род. в 1903 г.). — Был банковским служащим, сотрудником коммерческих фирм, хроникером; с 1936 г. — ответственный секретарь издательства «Галлимар». В 1924–1929 гг. — активный участник сюрреалистического движения. Пегаое крупное произведение — «Дуб и пес» (1937) — нечто вроде антибиографии в нарочито прозаизированных стихах, полных вывернутых наизнанку прописных истин, игры слов, черного юмора, насмешек над пошлостью буржуазной действительности. Автор ряда поэтических сборников («Маленькая карманная космогония», 1950; «Если ты думаешь», 1952; «Сонеты», 1958; «Деревенские прогулки», 1968), романов («Холодные дни», 1936; «Зази в метро», 1959), нескольких эссе.
Стихи Кено (перевод М. Кудинова) изданы в 1973 г. («Прогресс»).
ЕСЛИ ТЫ ДУМАЕШЬ.
Если ты думаешь,
Если ты думаешь,
Если, девчонка,
Думаешь ты,
Что так, что так,
Что так будет вечно —
Бездумно, беспечно,
Когда бесконечно
Улыбки вокруг,
И весна, и цветы,
То знай, девчонка,
Поверь, девчонка,
Девчонка, пойми:
Ошибаешься ты.
Если уверена,
Если уверена,
Если, девчонка,
Уверена ты,
Что навсегда
Эти розы румянца,
Легкая поступь,
Стремительность танца,
Гибкое тело,
Блеск красоты —
Что так, что так,
Что так будет вечно,
То знай: далека,
Далека бесконечно,
Ой как далека
От истины ты!
Кончится праздник,
Весна быстротечна,
Планеты по кругу
Вращаются вечно,
А ты не по кругу,
Ты прямо идешь
К тому, что не видишь,
К тому, что не знаешь
И где ты улыбок
Уже не найдешь.
Там ждут, там ждут,
Тебя ждут морщины,
Тройной подбородок,
Угрюмые мины,
Так помни об этом
И розы срывай,
Срывай розы жизни,
Срывай розы счастья,
Покуда тебе
Улыбается май.
А если ты их
Не срываешь, девчонка,
То, знаешь, девчонка,
Ты дура, девчонка,
И тут уж сама
На себя
Пеняй.
ИСКУССТВО ПОЭЗИИ.
Возьмите слово за основу
И на огонь поставьте слово,
Возьмите мудрости щепоть,
Наивности большой ломоть,
Немного звезд, немножко перца,
Кусок трепещущего сердца
И на конфорке мастерства
Прокипятите раз, и два,
И много-много раз все это.
Теперь пишите! Но сперва
Родитесь все-таки поэтом.
МЯСНАЯ ЛАВКА.
По улицам Парижа
Брожу среди людей
И грусть веду на привязи,
Чтоб не вспугнуть детей.
Сыры, куски свинины,
Продукты всех сортов,
Кровавые витрины,
Прилавки мясников.
Лежит в углу теленок,
Тоскою полон взгляд,
И это я, быть может,
А может быть, мой брат.
Не расставаясь с грустью,
Сажусь я на скамью,
Я развернул газету
И снова узнаю’
О бедах, и несчастьях,
И всевозможном зле,
О страшных преступленьях,
Насильях, наводненьях,
Войне, землетрясеньях,
Страданьях на земле,
И это утешенья
Не приносит мне.
ПРИЛИВ.
Приходит каждый день прилив,
Как в дом — газета.
Прилив — незримых сил порыв,
Источник света.
Он отрицает тишь да гладь,
Он рушит скалы,
Чтобы цветы потом создать
Из минерала.
Его барашки к берегам
Бегут проворно
И оставляют камни там
Редчайшей формы.
С морской стихией мир сравнив,
Заметишь вскоре:
Сперва прилив, потом отлив —
Весь мир как море.
ЖАН ТАРДЬЕ. Перевод М. Кудинова.
Жан Тардье (род. в 1903 г.). — Поэт, драматург, музыкант, вссеист. Во время фашистской оккупации сотрудничал в подпольных изданиях; стихи тех лет, пронизанные гражданским пафосом, скорбью и гневом, вошли затем в сборник «Задушенные боги» (1946). В послевоенной лирике Жан Тардье, по его собственным словам, пытается «привнести в видимый мир отчетливую и волнующую ясность сна и тем самым преобразить голую действительность в сверхъестественную явь» (сб. «Месье Месье», 1951; «Безличный голос», 1954; «Безвестные истории», 1961; «Скрытая река», 1968).
Стихи Тардье изданы в переводе М. Кудинова в 1973 г. изд-вом «Прогресс».
ГЛАВНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ.
Месье надевает носки —
Месье их с него снимает.
Месье надевает штаны —
Месье их на нем разрывает.
Месье надевает рубашку,
Месье надевает манишку,
Месье надевает подтяжки,
Месье надевает пиджак —
Месье их с него срывает,
И полный царит кавардак.
Когда Месье на прогулке —
Месье остается дома.
Здесь все для Месье привычно
Месье здесь все незнакомо.
Когда резвится Месье —
Хранит Месье воздержанье.
Когда он речь произносит —
Он пребывает в молчанье.
И если в городе он —
Он уезжает на дачу.
Когда он спокоен, то, значит,
Он беспокойством охвачен.
Когда он смеется, то плачет.
Не спит он, когда засыпает…
Едва только солнце взошло,
Ночь на земле наступает.
И, право же, дух спирает,
Когда замечаешь в конце,
Что он то один, то их двое,
То сидя, то лежа, то стоя,
И снова то сидя, то стоя
В двух лицах, в одном лице.
Он надевает шляпу,
Снимает шляпу, включает
И выключает свет;
Но в шляпе или без шляпы,
Со светом или без света —
Вечно покоя нет.
МОГИЛА МЕСЬЕ МЕСЬЕ.
В сгустившейся тишине,
Где слов не слышно совсем,
Месье говорит с Месье,
Словно Никто с Никем.
— Месье, когда смерть придет
И каждый из нас умрет,
Похоже будет тогда,
Что не было нас никогда!
Едва я уйду без возврата,
Кто скажет, что жил я когда-то?
— Месье, — отвечает Месье, —
Вы правы, и тем не менее
Кто скажет, я есть или нет
Сейчас и в любое мгновение?
Так быстро время уходит,
Что я, когда рассуждаю
(Глагол в настоящем времени,
Изъявительное наклонение),
Я, право, не тот уж, кем был
В предшествующее мгновение.
Прошедшее время тоже
Сюда подойти не может.
Здесь нужно, чувствую я,
Наклонение небытия.
— Согласен, — Месье говорит, —
И в наклонении этом
О жизни своей поведу я рассказ,
О жизни обоих нас:
Мы не рождались,
Не подрастали,
Не увлекались,
Не ели, не спали,
Мы не любили
И не мечтали…
Мы с вами никто!
И мы ничего
Не видели и не знали.
МЕТАМОРФОЗЫ.
В потемках Истории,
В сумраке ночи
Иду я на ощупь,
Всему удивляясь,
Иду, спотыкаюсь,
И худо мне очень.
Я шляпу беру —
Оказалась лягушка.
Жену обнимаю —
А это подушка.
Погладил кота —
Оказался утюг.
Окно открываю —
И чувствую вдруг,
Что сырость чулана
В лицо мне струится;
Я за чернильницу
Принял мокрицу,
Почтовый ящик —
За мусорный ящик,
Свисток паровоза —
За птичьи трели,
Гудок машины —
За умное слово,
Плач принял за смех,
Тьму принял за свет,
Смерть принял за жизнь,
А себя — за другого.
ЖАН ФОЛЛЕН. Перевод М. Кудинова.
Жан Фоллен (1903–1971). — Нерифмованные и не скованные нормами традиционной метрики, но подчиненные строгой внутренней архитектонике, стихи Фоллена напоминают натюрморты Шардена или отдельные фрагменты картин Вермеера; его обстоятельные и внешне неброские описания обыденных вещей таят в себе глубокий гуманистический подтекст. Основные сборники: «Теплая ладонь» (1933); «Времяпрепровождение» (1943); «Существовать» (1947); «Избранное» (1956); «Часы» (1960); «После всего» (1967).
ЖИЗНЬ.
Родился ребенок,
Окруженный безбрежным пейзажем.
Полвека спустя
Он был убит на войне.
Кто помнит теперь,
Как однажды
Поставил он у порога
Тяжелый мешок,
Из которого выпали яблоки
И по земле покатились,
И шорох катящихся яблок
Смешался со звуком мира,
Где пели беззаботные птицы.
ТАЙНА.
Терпкая тайна жизни,
В чем ты? Где ты таишься?
Иногда
В лихорадочном городе
Вдруг
С лесов новостройки
Срывается тихий рабочий.
Но воздух весенний
По-прежнему пахнет сиренью.
Цепкое горе
Находит пристанище в теле прекрасном.
Зверь засыпает в жилище,
Которое строили люди.
Мирные дни догорают…
А войнам
Не видно конца.
ЖАН ТОРТЕЛЬ. Перевод И. Кузнецовой.
Жан Тортель (род. в 1904 г.). — Первый сборник, «Прижизненное» (1940), чуждый всякого намека на внешнюю эффектность, пронизан теплотой и задушевностью; каждое его стихотворение — это плод внутренней радости, которой поэт хочет поделиться с людьми. Конкретная образность, мелодичность, тяга к философскому осмыслению бытия характерна для сборников «Стихи дня и ночи» (1944), «Открытые города» (1966), «Пределы взгляда» (1971).
«Немое, гладкое и совершенно…».
Немое, гладкое и совершенно
Круглое бывает солнце
Зимой, далекое,
Взгляд в никуда.
В нем нет огня, перед закатом рыжий
Круг над платанами
Не возвещает ничего,
Ни бури, ни грозы.
Едва окрашена к полудню,
Вся бледность неба кажется раствором
Пустой, лишенной тени синевы.
Но не зеленой синевы глубокой,
А бесплотной.
* * *
«Ржавые листья, разжатые руки…».
Ржавые листья, разжатые руки,
Выпускают небо, ослабев.
Неужто все пропало, все погибло?
Как быть, безропотно упасть
К ногам прохожих, к черным лужам?
А было трепетом пронизано пространство.
Тот день переполняло ликованье,
Готовясь очертанья обрести.
Я центром был.
Влекомым ли куда-то, неподвижным, сам не знаю,
Ферментом, пугалом или соблазном.
И вот стою теперь,
Спасая шляпу и пальто от ветра,
И синим пламенем охвачена равнина.
* * *
«Свет неприкаянный и мрак…».
Свет неприкаянный и мрак
Зеленый в спальне
Тянулись молнии всю ночь
К незрелым всходам
По крышам дождь стучал
Дороги вглубь ушли
Разверзлась твердь
И не было шагам защиты
Царила тьма и человек лежал
Обезоружен сном и влажное плечо
Отодвигало грохот и огонь
Но вот косые тени утра
И ставни смещены
Оцепенелым взглядом
Он ничего пока не узнаёт
Лишь некую исчезнувшую грань
Холодный блеск последней вспышки
Свинцово-бледной в свете дня.
ПЬЕР СЕГЕРС.
Пьер Сегерс (род. в 1906 г.). — Поэт и издатель. Активный участник Сопротивления. В 1939 г., во время «странной войны», издавал журнал «Поэты в касках», объединивший призванных на фронт литераторов; в 1940–1948 гг. выпускал его продолжение под названием «Поэзия 40», «Поэзия 41» и т. д. В 1944 г. вместе с Элюаром основал издательство, публикующее серию «Поэты сегодня», в которой освещается творчество крупнейших поэтов Франции в всего мира. Стихи Сегерса полны гражданского пафоса и горячего гуманизма («Всеобщее достояние», 1945; «Будущее в прошедшем», 1947; «Корни», 1956; «Камни», 1958; «Диалог», 1965; «Скажи мне, жизнь моя», 1972). Составитель нескольких антологий французской поэзии, автор работы «Сопротивление и его поэты (Франция 1940–1945 годов)» (1974).
БАССОРСКИЙ НЕФТЕПРОВОД. Перевод М. Кудинова.
Ни за грош отдавшие жизнь возвратиться не смогут назад,
Над ними — горячий песок, чужие знамена, немой небосвод;
Погружаются в жидкое золото руки мертвых солдат,
Кровь мертвых солдат наполняет Бассорский нефтепровод.
Убитые воины в кузницах ада огонь раздувают слепой;
Колумб с его золотом, «Стандард ойл», обещанье наград,
Троя, Гектор, Приам — все связано цепью одной…
Нам для побед и захватов нужен хороший солдат.
Нам для побед и захватов нужен поэтов восторженный бред,
Акционерное общество — это ведь их не проймет!
Нужны победные трубы, мундиры, военный совет
И смерть, чтоб наполнился кровью Бассорский нефтепровод.
Греми, барабан! Грохочи, грузовик! Немедля в расход
Героев, предателей, тайных агентов и вожаков!
Где шел когда-то Христос, там черное масло течет
И бьют из скважин фонтаны, смывая легенду веков.
Справедливость и Право забыты: над ними Телец,
Телец Золотой торжествует. Священным объявлен Доход.
Одним достанется все, другим — бесславный конец,
Чтобы давал дивиденды Бассорский нефтепровод.
КАК МИР ПОЖИВАЕТ. Перевод М. Кудинова.
— Как мир поживает?
— А что с ним случится?
История тащит
Его колесницу.
— Как жизнь протекает?
— Да, в общем, все то же;
Но сердце сдает,
И морщины на коже.
— А как же с любовью?
— От частых дождей
Пути к ней размыты,
Покончено с ней.
КОЛОКОЛА МИНУВШЕГО. Перевод М. Ваксмахера.
Колокола минувшего отдаются обычно в стихах
Вечерним траурным звоном, что тает в прозрачном воздухе,
Когда гулкая осень, кутаясь в синюю шаль
Протяжных и грустных «мы были»,
Уныло бредет перелесками и окликает покойников.
Но я не хочу этих медленных сумерек прошлого,
Из которых сочится белесый туман,
Не хочу больше этого дыма над крышами детства,
Не хочу колдовской тишины.
Только нынешний день, только жизнь,
Потому что она каждый день совершенно иная.
Только в завтра смотреть. Вместе с утром впервые рождаться,
И придумывать снова зарю, и придумывать крылья,
И слова поворачивать новыми гранями,
Новые краски отыскивать, открывать чудеса космогонии,
Радостный дом возводить.
МОРИС ФОМБЁР.
Морис Фомбёр (род. в 1906 г.). — Родился в семье деревенского кустаря, преподавал литературу в провинциальных лицеях. Стихи Фомбёра, близкие по стилю и интонации народным песням и прибауткам, полны добродушного юмора, ватейливых словесных выдумок; в них отражены радости и горести простого труженика, его наивная мудрость и вера в лучшее будущее. Основные сборники: «Мельницы речи» (1936), «Сожженные звезды» (1950), «Под барабанами небес» (1959), «Что это за сердце?» (1963).
ХОРОВОДНАЯ. Перевод М. Кудинова.
Хоровод кружился,
А король грустил:
Не было с ним рядом
Той, кого любил.
В церкви мессу пели,
А король рыдал:
Не было с ним рядом
Той, кого желал.
В роще птицы пели,
А король не пел:
На себя он руки
Наложить хотел.
Я все это видел:
Были мы вдвоем
С той, которой не было
Рядом с королем.
ЯЗОН. Перевод М. Кудинова.
Таможенной стражей задержан он был.
Во время досмотра он трубку курил
И с горьким смехом сказал он страже:
«Куда я еду — любой вам скажет.
Язон я! И людям известен давно».
«А!.. Тот, что искал Золотое Руно!
Но где документы, что вы Язон?»
И был арестован немедленно он.
ПЕСНЯ О КРАСАВИЦЕ. Перевод И. Озеровой.
Под деревом в цвету
Красавица сидит,
Красавица грустит —
Возлюбленного нет,
Возлюбленного нет, —
Никто не защитит.
Под деревом в цвету
Ей студит сердце снег,
Ей студит сердце снег,
Белеет на лету.
Красавица, не плачь,
Любовь — причина бед!
Страданье предпочту,
Страданье от любви,
Страданье предпочту
Я одиноким дням,
Где сердце студит снег
Под деревом в цвету.
ЭТА КРАСОТКА ВЕСНА. Перевод И. Озеровой.
Эта красотка весна
Из дому гонит девиц,
Эта красотка весна
Солнцем озарена.
Манит к фонтану прийти
Эта красотка весна,
Нужно любовь мне найти,
Ту, что на свете одна.
Трели апрельские птиц,
Клятва, что будешь верна, —
Эта красотка весна
Из дому гонит девиц.
Девушке пара нужна,
Парень в кадрили как принц,
Эта красотка весна
Солнцем озарена.
Нежно скрестила пути
Юных парней и девиц,
Эта красотка весна,
Солнцем озарена.
Эта красотка весна —
Времени капля одна,
Очень красива весна —
Недолговечна она.
ГИЛЬВИК. Перевод М. Ваксмахера.
Гильвик (Эжен Гильвик; подписывает стихи только фамилией; род в 1907 г.). — Родился в Бретани. Вступил в годы войны во ФКП, сотрудничал в антифашистских изданиях. Известность ему принес сборник «Из земли и воды» (1942), за которым последовали «Изломы» (1947), «Достигать» (1949), «Сфера» (1963), «Вместе» (1966), «Зарубки» (1971) и др Гильвик — один из тех редких поэтов своего поколения, которые ничем не обязаны сюрреализму, кроме, пожалуй, вкуса к стремительному, неожиданному, лишенному всяких риторических оправданий образу, способному вызвать столь же мгновенную реакцию читателя. Стих Гильвика сродни менгирам и дольменам его родной Бретани: он так же плотен, прост, массивен, весом и почти осязательно конкретен; недаром один из лучших его сборников, «Карнак» (1961), назван именем знаменитой «каменной рощи» доисторических мегалитов.
Стихи Гильвика (в переводе М. Ваксмахера) вышли в 1969 г.
ПЕСНЯ.
«Аминь», — прошептала земля в печали,
Когда его гроб в нее опускали.
«Аминь», — прошептала короткое слово.
А может, другое какое-то слово.
Но не кричала, вот что бесспорно.
Впрочем, он тоже молчал упорно.
Земля с человеком была заодно.
А больше об этом нам знать не дано.
ДОГОРАЮЩИЙ КОСТЕР.
Там, внутри, в глубине,
Протяженность уходит, сжимается,
Сливается с бесконечностью.
И вот уже нет ничего — только шар,
Беспредельный, невидимый,
В котором чудовищной плотью
Пульсирует чернота.
А в немыслимых далях
Одинокий, затерянный
Смотрит
Мерцающий глаз —
Догорает сердце костра.
* * *
«День ли будет…».
День ли будет
В полях
Или ночь —
Однажды ты непременно
Зачерпнешь ладонью
Дождевой воды из канавы.
Чтобы капля послушалась ветра
И упала на камень
Какой-нибудь древней стены
Между лесом и лугом.
Это нужно для камня,
Это нужно для капли,
Это нужно для нас.
* * *
«Нам хотелось всегда…».
Нам хотелось всегда
Обогнать торопливое время,
Раньше него погрузиться
В свинцовую массу того, что еще не свершилось,
Заарканить вольное нечто,
Чего приручить не успело время,
И, прижимая добычу, глядеть,
Как, выбиваясь из сил, торопится время
К нашему берегу сквозь века и туманы.
КРУГЛОЕ.
— Разве что-нибудь есть на земле
Круглее, чем яблоко?
— Если под словом «круглое»
Понимать что-то просто круглое,
Тогда биллиардный шар
Круглее любого яблока.
Но если ты словом «круглое»
Называешь тугое, плотное,
До краев налитое круглостью,
Круглое сочной тяжестью, —
Нет ничего на земле
Круглее, чем яблоко.
* * *
«Вечности…».
Вечности
Мы не утратили.
Нам другого
Скорей не хватало:
Мы не умели претворить ее в будни,
В луга, в облака,
В слова и поступки,
Понятные людям.
Но для себя мы ее сберегали.
Это было не очень трудно.
И порой
Нам вдруг становилось ясно,
Что вечность — мы сами.
* * *
«Нет, неспроста…».
Нет, неспроста
При виде малейшего пламени
Мы вздрагивали с тобой,
Неспроста каждый раз
Перед свечою, костром
Наши руки друг друга искали,
Точно некий обряд совершали —
То ли славили пламя,
То ли его заклинали.
* * *
«Бывает, что и дрозду…».
Бывает, что и дрозду
Становится холодно.
И тогда он — всего лишь птица,
Которая ждет тепла.
И тогда он простой бродяга,
Неприкаянный и несчастный.
Потому что без песни
Пространство
Бесстрастно.
ЧАЙКИ.
Для них вселенная — голод,
Пустое пространство,
Для них вселенная — время,
Которое нужно, чтобы пронзать пространство
Криками голода,
Время, чтобы с пространством вместе
Ввинчиваться в пласты голода,
И неотступно преследовать море,
И неистово проклинать море
За то, что оно обуздать не хочет
Ни пространства, ни голода.
МОЛНИИ.
В череду наших дней
Иногда ударяли молнии.
В разрывах мелькало
То, что должно свершиться,
Мы прикасались к тому,
Что рвалось к нам из будущего,
Наша походка
Становилась чуточку тверже,
И немного отодвигалось место,
Где предстоит нам упасть.
Жаль, что редко свершались молнии.
ТВОЙ СПУТНИК.
Нечто неясное
Шагает рядом с тобой,
Сопровождает тебя повсюду.
Оно — или это он? — всегда по ту сторону
Чего-то прозрачного.
Всегда с тобой неразлучно.
Он глядит на тебя неотступно,
Будто глядеть на тебя —
Для него наслажденье и долг.
Он живет для того, чтобы мог ты идти вперед.
Он как зов,
Он снимает усталость.
Без него
Ты споткнешься.
Ты давно бы упал на дороге,
Когда бы грядущее
Не держало тебя на прицеле.
РЕНЕ ШАР.
Рене Шар (род. в 1907 г.). — Сборники Шара 30-х годов, в которых используются некоторые приемы сюрреалистов, отличаются стремлением к афористичности, к четкой форме («Молот без хозяина», 1934; «Первая мельница», 1936). Во время войны командовал партизанским подразделением; впечатления той поры отражены в сборниках «Лишь те остаются» (1945) и «Листки Гипноса» (1946). Послевоенной лирике Шара, воспевающей буйство космических стихий и противоборство света и мрака в человеческой душе, свойственна туманность, загадочность, сквозь которую пробивается тяга к реальности, к постижению истинного смысла бытия («Ярость и тайна», 1948; «Поиски основания и вершины», 1955); для сборника «Вверх по течению» (1966) характерно некоторое преодоление затрудненности поэтического языка.
Стихи Шара (в переводе В. Козового) изданы в 1973 г. («Прогресс»).
ТЫ ТАК СПЕШИШЬ ПИСАТЬ… Перевод М. Ваксмахера.
Ты так спешишь писать
Как будто боишься не поспеть за жизнью
А если так скорей к своим истокам
Поторопись
Поторопись и передай
Тебе доставшуюся долю
Чудесного
И доброты и мятежа
Ты в самом деле можешь не поспеть за жизнью
Невыразимой жизнью
Единственной с которой ты согласен слиться
В которой ежедневно
Тебе отказывают существа и вещи
И от которой в беспощадной битве тебе то здесь то там
Урвать клочок-другой порою удается
А вне ее один лишь тлен
И если в пору тяжкого труда ты встретишь смерть
Прими ее как принимает потный
Затылок
Ласку
Прохладного платка
Склонись пред ней
И смейся если хочешь
И ей отдай свою покорность
Не отдавай оружья
Ты создан был для редкостных мгновений
Преобразись исчезни
Без сожалений
Смирись с необходимостью суровой
На том углу за ближним поворотом
Быть может жизнь твоя
Исчезнет
Роись во прахе
Никто не в силах ваш союз расторгнуть
С жизнью.
ПРОЩАНИЕ С ВЕТРОМ. Перевод М. Ваксмахера.
На склоне холма за деревней разбили свой лагерь поля душистой мимозы. Может случиться, что во время сбора цветов вас ожидает вдали от плантации благоуханная
Встреча с девушкою, чьи руки носили весь день охапками хрупкие ветки. Точно светильник в своем ореоле, сотканном из аромата, она удаляется спиной к заходящему солнцу.
Заговорить с нею было бы святотатством.
Сойдите в траву, уступите ей путь. Может быть, вам повезет и вы заметите у нее на губах призрак — желанную влажность Ночи.
ИЗ «ЛИСТКОВ ГИПНОСА». Перевод М. Ваксмахера.
*
Время, когда изнуренное небо вонзается в землю, время, когда человек корчится в
Муках предсмертных под презрительным взором небес, под презрительным взором
Земли.
*
Ночь несется стремительно, как бумеранг, выточенный из наших костей, несется со
Свистом, со свистом…
*
Поэт — хранитель бесчисленных ликов живого.
*
Если верить глубинам травы, где всю ночь распевала влюбленная пара сверчков,
Утробный период — довольно приятная штука.
*
Свет был изгнан из наших очей. Он у нас затаился в костях. Мы, в свой черед, из
Костей изгоняем его, чтоб вернуть ему прежний венец.
*
Согласьем лицо озаряется. Отказ придает ему красоту.
*
На наши общие трапезы мы всегда приглашаем свободу. Место пустует ее, но тарелка
Всегда на столе.
*
Собирай, чтоб затем раздавать. Стань зеркалом мира, самой точной, самой
Необходимой и самой невидимой гранью этого зеркала.
*
Некогда были даны имена протяженностям времени: это день, это месяц, эта церковь
Пустынная — год. Теперь мы вплотную подходим к секунде, когда смерть наиболее
Яростна, когда жизнь обретает свои самые четкие грани.
*
Яблоко слепо. Видит лишь яблоня.
*
Нас терзает печаль: мы узнали о смерти Робера (он же Эмиль Каваньи), в Форкалье
Он попал в воскресенье в засаду. Немцы лишили меня самого верного брата по
Битве, того, кто одним ма-новеньем руки предотвращал катастрофу, чья неизменная
Точность охраняла отряд от возможных просчетов. Человек, не владевший теорией,
Но закаленный в сраженьях, человек удивительно ровной и устойчивой доброты, он
Мгновенно умел оценить обстановку, его поведенье слагалось из отваги и мудрости.
Изобретательный и находчивый, он предельно использовал малейшее тактическое
Преимущество. Свои сорок пять лет он нес вертикально, подобно деревьям. Я любил
Его — без излияний, без ненужной торжественности. Неколебимо любил.
*
Самолет кидается вниз. Невидимые пилоты избавляются от плодов своего полночного
Сада, потом на мгновенье зажигают огонь под мышкой у самолета, подтверждая для
Нас: операция завершена. Нам остается лишь подобрать рассыпанные сокровища. Так
И поэт…
*
Час, когда окна выскальзывают из фасадов и загораются где-то на самом краю земли
— Там, где скоро забрезжит наш мир.
*
Между миром и мной больше нет досадной завесы.
*
Я ни разу не видел, чтобы звезда загорелась на челе у того, кто шел умирать, —
Видел только узорную тень занавески, за которой, среди надрывающих душу или
Спокойных предметов, по просторному залу сновали веселые официантки.
*
Быть человеком броска. А не пиршества — не эпилога.
1941–1945.
СТРИЖ. Перевод В. Козового.
Ширококрылый вьется стриж над домом и кричит от счастья на лету. Как птица
Сердца.
Он осушает гром небесный. Он в чистой сеет синеве. Земли коснись он —
Разорвется.
Ему касатка — острый нож. Он ненавидит домовницу. К чему на башне кружева?
В глухой щели его заминка. Нет в мире большей тесноты.
Он в незакатный летний день в полночный выскользнет плетень, как метеор, во тьме
Растает.
Глазам поспеть за ним невмочь. Кричит— и только тем приметен. Невзрачный ствол
Его сразит. Как птицу сердца.
ОДНА И ДРУГАЯ. Перевод В. Козового.
Что, розовый, клонишься, куст, под ливнем яростным
Двойной качая розой?
Как две осы, они повисли над землей.
Я вижу сердцем их: глаза мои закрыты.
Лишь тень и ветер над цветами любовь оставила моя.
ВЕРНИТЕ ИМ… Перевод В. Козового.
Верните им сполна то, что от них ушло, —
Они увидят вновь, как семя жатвы ложится в колос
И плещет над травой.
Раскройте им, от меркнущих к цветущим, двенадцать
Месяцев их лиц, —
Они взлелеют в сердце пустоту до следую щей жажды;
Ибо, и в прах уйдя, ничто не пропадает;
И кто земли к плодам находит путь во тьме, —
Пусть все потеряно, не дрогнет под ударом.
ЛАБИРИНТ. Перевод В. Козового.
Копай! — кричала рукоятка.
Кровоточи! — метался нож.
И долго хаос мой терзали,
И память вырубали сплошь.
Те, кто меня любил,
Потом хулил, потом забыл,
Опять склонялись надо мной,
Иные плакали, другие были рады.
Сестра моя, трава зимы,
Как быстро вытянулась ты—
Огромней недругов моих,
Пронзительней моей мечты!
ФАНТАЗЕРЫ. Перевод М. Ваксмахера.
Они к нам пришли, обитатели леса с другой стороны перевала, незнакомые нам,
Враждебные нашим обычаям.
Их было много.
Их отряд возник из-за кедров, у края сухого жнивья, — мы вели к нему воду.
Они появились, утомленные переходом, шапки сползли на глаза,
Разбитые ноги ступали как в пустоту.
Они нас увидели и сразу остановились.
Они, очевидно, не думали так быстро нас повстречать —
На возделанной этой земле,
Поглощенных работой.
Мы подняли головы и подбодрили их улыбкой.
Один из них, видимо самый речистый, приблизился к нам, а за ним подошел и
Второй, медлительный, диковатый.
«Мы пришли, — сказали они, — чтобы предупредить вас:
Надвигается ураган, ваш беспощадный противник.
Так же, как вы, мы знаем о нем
Лишь по рассказам, дошедшим от предков.
Но отчего это вдруг: вот стоим мы сейчас перед вами,
Как малые дети, и ощущаем в груди непонятное счастье».
Мы сказали «спасибо» и спровадили их.
Но сначала им дали напиться, и дрожали их руки, и смеялись
Глаза над краями кувшина.
Люди пилы, топора и ствола, готовые встретить лицом испытанья,
Но неспособные воду к полям провести, построить шеренгу
Домов, покрасить фасады в приятные глазу цвета, —
Не знали они, что такое
Зимний сад
И как бережливо расходовать радость.
Мы могли бы, конечно, их убедить,
Успокоить их страх.
Да, приблизился срок урагана.
Но зачем же о нем говорить, зачем зря тревожить грядущее?
К тому же в наших краях
Нам, пожалуй, тревожиться рано.
Сиверг, 30 Сентября 1949 Г.
УГАСАНИЕ ТОПОЛЯ. Перевод М. Ваксмахера.
Для лесов ураганы подобны ножу.
Засыпаю и вижу сверкание молний.
Пусть смешается с почвой, где спят мои корни,
Этот ветер огромный, в котором дрожу.
Он шлифует и точит меня неустанно.
Как мертво и туманно дыхание туч!
Как мутна подо мною ложбина тумана!
Мне жилищем отныне — железный тот ключ,
Что огнем притворился в груди урагана,
Да взъерошенный воздух, когтист и колюч.
ГРАНИЦА ПУНКТИРОМ. Перевод В. Козового.
Мы светлячки в расщелине дня. Мы покоимся на илистом дне, как осевшая баржа.
Единоборство страсти и разума, который сеет уныние. Единоборство, из которого
Победителем выходит разум — не по прямой, а путями окольными.
Если не слушаем — слышим. И как долго пришлось дожидаться, пока на плечах у нас
Встала гора безмолвия! Чтобы я мог внимать подобному ропоту, локомотив должен
Был пройти над моей колыбелью.
Сумел бы он выжить без зла, когда боролся за жизнь? Он, чистейший, как снег?
Потом он скрепил свое отцветающее господство.
Приумножение — действие ныне проклятое. Так же как рост. И подвиг: длиться могли
Они лишь под кровеносным взглядом богов, которым наскучило не узнавать себя в
Них.
Взят у духов воздушных. Отдан побегам зедшым. Уже рождаясь, мы были только
Воспоминаниедг. Потребовалось налить его болью и воздухом, чтобы оно достигло
Этой минуты.
Стрела Ориона. Звездный трилистник. В пустоши — зеркало дневного неба.
Померкший трилистник… Цветущий рубец.
Вихрь горя, котомка надежды.
Озеро! Дайте его нам! Озеро — не родник средь утесника, нет, но чистое озеро —
Не для пптья: озеро, чтобы отдаться ледяному проклятию его летней глади. Чего ты
Ищешь? Ни кредитора нет, ни дарителя.
Руки некогда царственные. Шаги нынче считаемые. Пища клончивая, корабль дальнего
Плавания, который задерживают о спуска на воду, явно ненужного.
Понимание есть на все, но из этой пряжи восходит туман, опль страха или — подчас
— Наша стелющаяся ненависть.
Ответ вопросительный — это ответ бытия. Но ответ на юпросник — это лишь гать
Мысли.
«Твой сын будет призраком. Он дождется раскрепощенных гутей на угасшей земле».
Я омывался — не так ли Пуссен? — на ветру, который крепил мои крылья, — без
Сожалений об утраченной матери.
АНДРЕ ФРЕНО. Перевод М. Кудинова.
Андре Френо (род. в 1907 г.). — Участник движения Сопротивления, автор вышедших нелегально сборников «Цари-волхвы» (1943) и «Парижские тайны» (1944). В поэмах «Черная свадьба» (1946) и «Огромное лицо богини Разума» (1950) воспевается мужество человека, преодолевающего трагическую абсурдность бытия. Лирике Френо («Рая нет», 1962; «Нерукотворный образ», 1968; «Римская колдунья», 1973) присуща философичность, тяга к иносказанию, отточенность стиля в сочетании с яркой образностью.
Стихи Френо были в 1969 г. изданы в русском переводе М. Кудинова («Прогресс»).
ЖИЗНЬ, ВЕТЕР.
Жизнь сочинит мимоходом
Ливень весенний — ив путь;
Жизнь — это ветер в сто обещаний
Невыполнимых и путь
В сто дерзаний и поражений,
И снова движенье, и ветер, и жизнь
Такая ласковая, если захочет.
БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ.
Жизнь идет, куда я хочу.
Я гулять ее вывожу,
Не теряя из виду
Ни в шумной толпе,
Ни на кладбище,
Где я брожу
Среди тихих могил
И где каждый мертвец,
Кто б он ни был, мне мил,
Потому что не сердится,
Если мой смех
Раздается возле могил.
НЕБЫТИЕ.
Когда в один не столь далекий день
Представлю я мой счет небытию,
Оно меня насмешкой не накажет.
Подделки в числах нет,
В итоге — чистый нуль…
«Приди ко мне, мой сын, —
Небытие мне скажет, —
Прижмись к моей груди, ее достоин ты».
И с тишиною вечной я сольюсь.
КОНЕЦ ГОДА.
В конце года девушки красивы.
В конце года яблоки спелы.
В конце года дым из труб черный,
А старая кожа становится новой.
В конце года снег белый улыбчив.
В конце года грех со счета списан.
В конце года задумчивы руки,
Огонь неспокоен, пироги пекутся.
В конце года звенят стаканы.
В конце года забыты невзгоды,
Забыт иней, за столом праздник,
Звенят стаканы в честь Нового года.
МОЙ ДОМ.
Я из сухих камней сложил
Мой дом,
Чтоб по душе котятам был
Мой дом,
Чтоб стал мышатам тоже мил
Мой дом,
Чтоб голубь зерна находил
В нем,
И солнце щурилось бы там
По всем углам,
Когда мой дом
Нем,
Чтоб детвора играла в нем.
С кем?
Ни с кем!
С веселым сквозняком!
И чтобы в радость был мой дом
Всем.
Без крыши он и без огня,
Мой дом,
И без тебя, и без меня,
Мой дом,
И нет в нем слуг, и нет господ
В нем,
И все совсем наоборот
В нем,
Ни статуй нет, ни страха нет, ни стен,
Нет ни оружья, ни угроз, ни взятых в плен,
В нем ни реликвий, ни религий
Днем с огнем ты не найдешь.
Вот почему он так хорош,
Мой дом.
ПЬЕР ЮНИК.
Пьер Юник (1909–1945). — Поэт, киносценарист, журналист, член ФКП с 1927 г. В юности печатал стихи в журнале «Сюрреалистическая революция», позднее порвал с сюрреализмом и возглавил коммунистический еженедельник «Взгляды» (1936). Во время фашистской оккупации был заключен в концлагерь, откуда бежал в 1945 г.; пропал без вести. Стихи, написанные за колючей проволокой и выпущенные друзьями поэта уже после войны, вошли в золотой фонд лирики французского Сопротивления.
МЕЖ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА. Перевод Е. Гуляга.
В твоей каморке теснота,
Погасли звезды, звезды спят.
Приходит сон —
Погасли сны.
Приходит сон —
Усталость спит.
Здесь в жизни не бывало звезд,
В твоей каморке теснота,
А были лишь цветы —
Однажды
Утром…
Голод спит.
И шаркают внизу шаги,
А значит, кто-то держит путь
Об эту пору.
…Были лишь цветы однажды утром…
В твоих висках стучат шаги,
Виденья загородных вилл,
И ванн,
И благородных вин.
Приходит сон.
А девы спят в лугах,
Влюбленные не знают сна
В любви.
Здесь в жизни не бывало звезд.
И черный лес, и белый лед,
Воспоминаний мерзлота,
А жизнь — каморка, теснота.
Постель — постелена она
На вечность?
Плетется улицею сон —
Шаги, потом опять шаги…
Нет вечности,
И нет здесь звезд,
И нет цветов,
И утра нет
В твоей каморке,
И постель —
Забыть, забыться…
Дамы и господа!
Мы не вскормлены молоком
Человеческой нежности.
Дамы и господа!
Но, позвольте, к кому же
Я обращаюсь?
К тебе ли — толпа свинцового цвета,
Источник пыли?
Жизнь — скаковой круг, ты стоишь вокруг.
К тебе ль — молодой человек?
Тебя потопит мир
В своей суровой печали.
К тебе ли — выцветшая толпа,
В унижении
Выменивающая кровь на кусок хлеба?
К тебе ли я обращаюсь?
Не был вскормлен я молоком
Человеческой безнадежности — но
Подлость стояла у колыбели моей.
Дамы и господа!
Разлагающаяся толпа,
Расколотая на куски.
Колокола звонят о боге и обо всем таком прочем,
Смертельно ленивом.
А вы, вы охлаждаете нервы
Работой,
Зарабатывая свой хлеб,
Закапывая свою смерть,
Любя каждый свою.
Дамы и господа,
Перемешанные в толпу!
Улицы — колокола, и они звонят
О рабстве и обо всем таком.
И заводы — колокола, и они звонят
О крепком сне и о всем таком.
И любовь — это колокол. Он звонит
О забвении…
Нет, ты лжива, любовь, если велишь забыть
Хлеб, вырванный у другого из рук,
Тело, избитое до синяков,
Мозг, сгоревший дотла,
Разбитую вдребезги жизнь…
Дамы и господа!
Перемешанные в толпу,
На скаковом кругу… Он так не похож на жизнь,
Ни капли, ни крошки.
И еще
Братство — это не просто улыбка, нет.
Товарищи! Говорю это всем вам, не
Понимающим слова «товарищ».
Братство — это наш дружный смех
При воспоминанье о тех временах,
Когда с грустью мы улыбались.
Товарищ мой!
Та, которую ты полюбил,
Да будет вечно любима,
Пусть вечность мнима.
Товарищ мой!
Вот и всё.
Мы боремся за тот день,
Когда лучше поймем
Друг друга.
ЖАН КЕЙРОЛЬ.
Жан Кейроль (род. в 1910 г.). — С 1927 г. издавал в Бордо журнал «Кайе дю Флёв», объединявший литературную молодежь юга Франции. Стихи его ранних сборников («Летучий Голландец», 1936; «Золотой век и небесные знамения», 1939) отмечены конкретным, нарочито грубоватым лиризмом. Активный участник Сопротивления, Кейроль был арестован и два года провел в лагере смерти Маутхаузене. Созданные там «Песни Ночи и Тумана» (изд. в 1946 г.) — свидетельство того, как человек и поэт с помощью почти магической веры в «силу слов» сумел противостоять кошмару нацистского ада. Трагедия «маленького человека» в условиях опошляющей буржуазной среды — основная тема романов Кейроля («Я буду жить любовью других», 1947–1950; «Полдень — Полночь», 1966). Те же темы, но в ином, гротескном, осмыслении звучат в фантастических повестях «История пустыни» (1972) и «История моря» (1973).
ЗАВТРА. Перевод С. Ошерова.
Найдете вы следы в траве еще сырой
Найдете вы вино на дне сухом стакана найдете
Молодость полуночи румяной
Найдете имя вы что позабыто мной
Найдете вы огонь что снова был похищен
Найдете города что чахнут в темноте
Незрячих псов и мир привыкший к пепелищам
И ангелов слепых на гробовой плите
Найдете вольности презрительный упрек
И хриплый голос мой изъеденный любовью
Соленых слез росу зарю что пахнет кровью
Над прахом мертвецов грядущего венок
Найдете новый день и ярость и клинок.
ПОСЛЕДНЯЯ СВОДКА. Перевод В. Микушевича.
Хохочущее божество
Страхом город вооружен
Голод гложет его жизнь
Скудеет как стон
Смерть не дает прохода
Дней остается мало
Другим упиваться свободой
Другим начинать сначала
Время для духа людского
Самое время для шквала.
ВЫ СПИТЕ ЕЩЕ? Перевод М. Ваксмахера.
Вставайте, хватит спать, опасность у ворот,
Луна в немой тоске скривила бледный рот.
Вставайте, пробил час! Не спите, ради бога!
Положен кем-то меч у вашего порога.
Вставайте! Смерть — в седле, зловещий стук копыт
Газетною строкой по улицам летит.
Вставайте, час настал, пора надеть кольчугу,
Петух уже давно кричит на всю округу.
Вставайте! Голосом ночных радиограмм,
Сеньор, я вас бужу в тревоге по утрам.
Вставайте! В этот час державною тропою
Медлительные львы проходят к водопою.
Вставайте, лестница готова у стены,
И лег на латы блик истаявшей луны.
Вставайте, в очаге взыскует пламя пищи,
Голодный нес внизу по закоулкам рыщет.
Вставайте! Задрожал от нетерпенья стол,
В надежде вздрогнул шкаф, и содрогнулся пол.
Вставайте, спать нельзя, восток огнем объят.
Вставайте, мой сеньор, иначе вас съедят.
ПАТРИС ДЕ ЛАТУР ДЮ ПЭН. Перевод М. Кудинова.
Патрис де Латур дю Пэн (1911–1975). — Неизгладимые впечатления детства, проведенного в родовом замке, верность аристократическим традициям, привязанность к полупатриархальному укладу родной Солони, стремление любой ценой отгородиться от «парижских новшеств», остаться в стороне от борьбы поэтических группировок — все это делало бы творчество дю Пэна чистейшим анахронизмом, если бы его поэзия, классически ясная по форме и эпичная по характеру, не была отмечена редкостней чистотой тона и приподнятой, почти молитвенной торжественностью и одухотворенностью. Основные сборники: «В поисках радости» (1933), «Сумма поэзии», (1946), «Вторая игра» (1959), «Маленький сумеречный театр» (1963).
ДЕТИ СЕНТЯБРЯ.
Был опустевший лес, окутанный туманом,
Насыщен сыростью, наполнен тишиной;
Дул ветер северный с упорством неустанным,
И Дети Сентября, кружа во тьме ночной,
Сквозь ветер и туман летели к дальним странам.
В ночи почувствовал я шорох крыльев их,
Когда, снижаясь вдруг, они во мгле искали
Себе пристанища, чтобы в местах глухих
Передохнуть в пути… Я слышал крик печали
Над топями болот, лишенных птиц своих.
Из комнаты моей, где духота густая
Нависла, я ушел к таинственным лесам,
И вот, заглохшие тропинки их листая,
Я отыскал следы, оставленные там,
О Дети Сентября, одним из вашей стаи.
Был легким шаг его, но спутаны следы.
Сперва я видел их близ рытвины глубокой,
Где, в сумраке таясь, он мог испить воды,
Чтоб утешаться вновь игрою одинокой,
Когда забрезжит свет из облачной гряды.
Затем его следы, петляя осторожно,
Терялись вдалеке средь буковых стволов,
И мне подумалось, что на заре, возможно,
Сюда вернется он и, к странствию готов,
Крылатых спутников здесь будет ждать тревожно.
Да, без сомнения, он вскоре возвратится
С лучами тусклыми, что предвещают день,
И перелетных птиц увидит вереницы,
Увидит, как бредет средь зарослей олень,
Ноздрями шевеля и перестав таиться.
Плыл над болотами зари холодный свет.
И, ожиданием охвачен иллюзорным,
Я за косулями следил, смотря им вслед,
Следил за бегом их испуганно-проворным
Под крики воронов, встречающих рассвет.
И я сказал тогда: один из вас я тоже,
О Дети Сентября, по сердцу и уму,
По обжигающим страстям, и тайной дрожи,
И жажде вырваться, бежать в лесную тьму,
Из душного жилья в ночное бездорожье.
И тот, кого я жду, меня как брата встретит,
Свое мне имя даст и сам, без всяких слов,
Жар дружелюбия в глазах моих заметит,
Коль не вспугну его, когда из-за кустов
Я устремлюсь к нему, забыв про все на свете.
Как птица раненая, прочь отпрянет он,
И буду гнаться я за ним, пока в бессилье
Не остановится он, бегством истомлен,
Покорный, загнанный, к земле прижавший крылья,
Готовый встретить смерть и погрузиться в сон.
Тогда я на руки возьму его скорей,
Изгиб его крыла поглажу осторожно
И тело хрупкое прижму к груди своей,
Даря мое тепло душе его тревожной
И уносясь мечтой в мир призрачных теней.
Но было все не так: туманы лес покрыли,
И ветер северный покинуть обещал
Всех, кто не мог лететь, чьи ослабели крылья,
Всех, кто иных путей в скитаниях искал,
И всех, кому глаза угасшие закрыли.
И я сказал себе: не в этом нищем крае
Прервали свой полет вы, Дети Сентября,
И если бы отстал один из вашей стаи,
То он увидел бы, как немощна заря
В краю, где нет легенд и мгла царит густая.
* * *
«Планете слишком быстрое движенье…».
Планете слишком быстрое движенье
Придал тот бог, сокрытый меж корней;
Хотел исправить это положенье
И не сумел. И загрустил сильней.
Его жалеют за его бессилье,
Пытаются вернуть ему покой
И понимают: он в своей могиле
Растроган этим, как и мы порой.
Мечтательной душою одаряют,
Чтоб голос наш он слышал, а потом
Ее скорей обратно забирают:
Нельзя ей оставаться с мертвецом.
ЖАН МАРСЕНАК.
Жан Марсенак (род. в 1913 г.). — Поэт и критик, коммунист, участник движения Сопротивления, героям которого посвящен его первый значительный сборник — «Небо расстрелянных» (1944). Сборники «Шаг человека» (1949) и «Будничные профессии» (1955) говорят о простых людях труда, их радостях и горестях, их вере в будущее. Автор работ об Элюаре (1952), Ж. Люрса (1952), П. Неруде (1954).
ЯСНЫМ ИЮНЬСКИМ УТРОМ. Перевод К. Азадовского.
Написано 22 июня 1941 года в лагере для военнопленных после того, как стало известно, что Россия вступила в войну.
Сраженные порывом мглистой стужи
Погасли как цветы сердца в груди у нас
Как вымершего племени костры
Сердца покрылись пеплом
И ветер разметал потухшие сердца
В это утро опять в наши окна ударилось солнце
Зазвенели решетки и заколосились поля
И далекий мотив к нам сочится сквозь окна
Песня юного неба
С припевом побед
Но разве надо говорить о небе
Когда одна земля осталась в мире
И по утрам нас будит стук сердец
Далеко на границе земли наши бедные братья
Как пловцы что опутаны травами сна
Начинают набравшись терпенья свой подвиг суровый
Стая псов перед ними кружит завывая
Но их голос сильнее чем лай
Они ладони рук омыли вечной влагой
Вступая в трудный бой с безжалостной судьбой
И рвется пополам убитая бедой
Рассвета паутина
И насмерть встав достойные той крови
Которую нельзя остановить
Которую не заражает горе
Которая прекрасна словно вызов
Что брошен черному обличью ночи
Они глядят
Неодолима чистота их взгляда
Бег времени ее не замутит
Не сокрушит и смерть что спит спокойно
Как женщина в надушенной постели
С руками полными земли и пепла
Но птицы и цветы в их пальцах пробудятся
И им в наследство перейдет весь мир.
МАКС-ПОЛЬ ФУШЕ.
Макс-Поль Фуше (род. в 1913 г.). — Поэт и эссеист, археолог по образованию. В 1939 г. основал в Алжире журнал «Источник», ставший в годы войны одним из органов литературы Сопротивления. Патриотическая публицистика Фуше вошла в его книгу «Франция в сердце» (1944). Автор лирического сборника («Остается загадкой», 1961), монографий об искусстве Азии, Африки и Америки, литературно-критических работ.
ИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ. Перевод М. Кудинова.
На одной из дождливых тропинок,
В луже, ветром осенним разбитой,
Мы письмо прочитали солдата,
Что убит на старинной войне.
Было время, шагал он куда-то,
Зеркала мороза сверкали,
И пустынными были дороги,
И кричало над ним воронье.
Что мы в этом письме прочитали?
Показался язык нам знакомым.
Боль былая ничем не скрыта.
Удаляются к лесу шаги.
Время между зарей и закатом.
Не известны ни год, ни месяц.
Только путь солдата. И сырость.
И стирает тропинку ночь.
ЖАН РУССЕЛО.
Жан Руссело (род. в 1913 г.). — Родился в рабочей семье. В довоенных сборниках («Чтобы не умирать», 1934; «Вкус хлеба», 1937) заметно влияние Элюара, Реверди, Жува. В годы войны — участник движения Сопротивления, один из основателей — вместе с Рене Ги Каду — так называемого «Рошфорского содружества», объединившего патриотически настроенных поэтов. Сборники «Переделать ночь» (1943), «Кровь небес» (1944) ж ноэма «Июнь» (1943) принадлежат к лучшим образцам французской антифашистской поэзии. В послевоенной лирике Жан Руссело, по его собственному признанию, старается «порвать адский круг отчужденности», приобщиться к радостям и бедам отдельного человека и всего человечества, научиться «давать и принимать» (сб. «Изгнания не существует», 1954; «Сплочение времени», 1957; «Расстояния», 1963; «Дорога молчания», 1963; «Кому о жизни говорит…», 1971; «От того же к тому же», 1973). Автор работ о творчестве Э. По, Верлена, Жакоба, Сандрара, о проблемах языка а стиля; переводчик сонетов Шекспира.
ХЛЕБ ВЫПЕКАЮТ НОЧЬЮ. Перевод М. Кудинова.
В предместьях города, где толп людских не счесть,
Я с незнакомцами шел ночью по асфальту.
Шагали молча и уверенно они
И приняли меня таким, каков я есть.
Когда же день настал, увидел я, что люди,
Не говорившие ни слова, как растенья,
Покрыли неподвижный круг земли
И круг абсурдный снов моих тревожных.
И, чувствуя, как я расту в молчанье этом,
Я начал понимать: тут ждут мое зерно
И я не одинок, раз у меня есть руки,
Которые всегда должны давать и брать.
С тех пор не знаю сам, пишу ли я стихи
Или размахиваю колоколом сердца;
Но знаю, голос мой для слуха создан был,
Услышан он людьми, как мной услышан пекарь,
Что под землей поет, хлеб выпекая ночью.
Хлеб — церковь для людей, и нет у них другой.
В той церкви — витражи из золотистых злаков,
И красный цвет ее — цвет ваших красных глаз,
Сиделки, прачки и шахтеры! Синий цвет —
Цвет ваших рук, что посинели от работы,
Крестьяне, каменщики, бледные служанки,
Поденщики нужды из дальних деревень,
Пустившиеся в путь обратный спозаранку.
Я видел толпы их. Им не было числа,
Как нет числа траве. Но было правом их
Безмолвно умереть иль небу навязать
Республику своих животворящих соков.
И я избрал тогда тех, кто мне руку дал,
Кто Неожиданность хотел узреть воочью.
Пылал рассвет. Мы шли. Туда, где хлеб нас ждал.
И был он, как стихи, — плодом бессонной ночи.
* * *
«Пространство не знает времени…». Перевод М. Ваксмахера.
Пространство не знает времени
Время не знает пространства
Они просто друг друга терпят
Как чета глухих стариков
Что едят из одной
Миски
Из одной памяти
Из одной беспамятности.
* * *
«Не одевайтесь в надежду…». Перевод М. Ваксмахера.
Не одевайтесь в надежду —
Очень уж маркая вещь.
Правда, можно ее покрасить
В красный цвет, на манер гладиаторов,
Или в серый, на манер хлебопашцев.
А лучше чужую носите надежду,
Надежду всех в мире людей,
Но уж тогда не ропщите,
Мол, очень маркая вещь.
ЖОРЖ-ЭММАНЮЭЛЬ КЛАНСЬЕ. Перевод М. Ваксмахера.
Жорж-Эмманюэль Клансье (род. в 1914 г.). — Участник движения Сопротивления, автор патриотических сборников «Время героев» (1943) и «Небесный крестьянин» (1944). Неброская по форме, но глубоко человечная по сути, лирика Клансье воспевает хрупкую красоту мира и человеческих чувств, которую необходимо отстоять от натиска сумрака и смерти («Таинственная земля», 1951; «Голос», 1956; «Явное», 1962; «Земли памяти», 1965; «Быть может, некое жилище», 1972). Известен как романист («Кадриль на башне, или Бойница», 1946; «Венец жизни», 1946; тетралогия «Черный хлеб», 1956–1961), новеллист (сборник «Арены Вероны», 1970), литературовед («От Рембо до сюрреализма», 1953; «Французская поэзия от Шенье до Бодлера», 1963). На русском языке публиковались отдельные стихотворения Жоржа-Эмманюэля Клансье.
«На краю кукурузного поля…».
На краю кукурузного поля
Бук и орешник
Заключили союз —
Чтобы свежестью пахла роса,
Чтобы в душу вливался нокой,
Чтобы луг круглый год зеленел
В глубине моей памяти.
* * *
«След, всего только след…».
След, всего только след,
Утренняя роса,
Отпечатки шагов на песке,
Примятая в поле трава,
Струя за кормой,
В небе дымок.
След, всего только след,
Камешек на берегу,
Дрогнувший голосок,
Ускользающий аромат,
Мимолетная тень.
След, всего только след,
На мгновенье померкший свет,
Пульсация памяти,
Увядший цветок,
Тишина под пластами слов.
ПАМЯТЬ.
В старой деревне, куда не ведет ни одна дорога, у подножия башни,
На которую всей своей тяжестью валится время,
В деревне, затерянной посреди некошенных трав, где когда-то
Свирепо дрались короли,
В подслеповатом краю, где в оврагах блуждают натужные вздохи
Крестьян,
В земле, что богата забытыми кладами и бесконечным уныньем
Дождей,
В молчании кладбища, где средь порфира и жести слоняется пьяный
Могильщик,
В краю монотонных полей, от века засеянных рожью,
В этом царстве туманов, колючек, камней,
В этой глухой деревушке, обделенной судьбою,
В этой немой борозде, проведенной свеченьем луны, похоронена
Память моя.
* * *
«Друзья мои, вечером у деревенских околиц…».
Друзья мои,
Вечером у деревенских околиц
Полусонных ли сумерек шепот,
Водопад ли закатного солнца —
Только с вами одними
Всегда моя долгая молодость,
Несмотря на утраты, на жизнь.
В сердце ваших бесхитростных слов
Весь наш мир остается прогалиной,
Обетованной весной
На волнах тишины.
Друзья мои сельские,
В памяти нашей — навеки июнь,
Тропки в зеленой траве,
Пахучее теплое сено.
И становится улица лесом, рекой,
И усталые люди
На пыльной дороге
Достойны великой любви,
О друзья мои
Вечером долгого дня.
АЛЕН БОСКЕ.
Ален Боске (наст. имя — Анатоль Биск; род. в 1919 г.). — Сын поэта А. А. Биска (1883–1973), одного из первых русских переводчиков Рильке. Родился в Одессе. Окончил филологический факультет Сорбонны. В годы войны эмигрировал в США, сотрудничал в антифашистском журнале «Голос Франции». Вступив в американскую армию, участвовал в высадке союзных войск в Нормандии. Горчайший скептицизм, порожденный памятью об ужасах минувшей войны и усугубленный предчувствием грозящей человечеству атомной катастрофы, Боске пытается побороть верой в животворящую силу слова, ибо только оно, по его убеждению, способно вновь спаять воедино пораженные распадом элементы космоса и человеческого сознания. Автор антифашистской поэмы «Жизнь ушла в подполье» (1945), поэтических сборников («Мертвый язык», 1951; «Первое завещание», 1957; «Второе завещание», 1959, и др.), романов и эссе.
Литературно-критические и публицистические статьи Алена Боске, а также его стихотворения неоднократно печатались в советской периодике.
ЗАТРАВЛЕННЫЙ. Перевод М. Кудинова.
Повесили мысли мои,
Утопили мой вздох,
Расстреляли мое беспокойство.
И вот, задумчивый, словно рассвет,
Я смотрю сквозь кровавые стекла окна
И сквозь веки мои, что дрожат, как роса.
Меня преследуют, словно богатство,
Сокрытое в трюме, и псы мою тень разрывают.
Ничего у меня не осталось:
Гвоздями прибили к дверям мою кожу,
Камнями мои позвонки раздробили.
Затравлен я! Комната эта — мой склеп,
Здесь последняя на пол слеза упадет,
На обоях останется след от ногтей.
Через час здесь появятся дыры в стене,
Закричит штукатурка, как мул, избиваемый палкой,
И зеркало, словно проклятье, взорвется и на куски разлетится.
Через час слепотою покроют меня,
И, как сумерки, буду я тих,
И тело мое не сможет уже содрогаться.
Спокойствие будет признаньем измены моей!
Выдал я только ненависть им,
Продал только презренье.
ПАРАШЮТИСТ. Перевод М. Ваксмахера.
Я опущусь с парашютом в самом сердце подпольных сражений,
У меня при себе будет все, чтобы ранить дороги,
Калечить мосты, отравлять водоемы; я научу партизан, как получше устроить засаду,
Как бесшумно снять часовых
И как правильней спеть немудреный куплет пулемета;
Я агентов противника буду ловить,
Как бабочку ловят фуражкой.
Каждый мой день будет кровью и кровью отмечен,
Каждая ночь моя станет возмездия ночью.
Будет мой хлеб отдавать синеватым дымком перестрелки.
На рассвете однажды я лягу в траву, уткнувшись в свой пропуск
Фальшивый.
Прежде чем в землю меня закопать, люди спросят: «А кто он
Такой?»
И никто им не скажет: «Он тот, кто сражался,
Чтоб чистыми были дороги,
Чтобы птицы летали спокойно».
«Как его имя?» Не скажет никто:
«Его имя — вот эта трава
И счастливые в поле ромашки».
И забудут меня,
Но опять под откос полетят поезда,
И другие колонны солдат на дорогах других будут разорваны
В клочья,
В воду рухнут другие мосты,
И другие у берега лягут холодные камни,
Как убитые птицы пингвины.
1944.
ВЕТЕР. Перевод М. Кудинова.
Кружись, кружись, чтоб в нос
Вцепиться или в плечи,
Кружись, чтобы до слез
Глаза хлестать при встрече.
Гони в загон ягнят,
Где б их ни заприметил.
На части я разъят тобой,
Воскресный ветер.
Мне рук моих и глаз
Вернуть ты не намерен.
Ну что ж! Моих гримас
Не тронь по крайней мере.
ГОРИЗОНТ. Перевод М. Кудинова.
Руки к нему протянул —
Он обжигает ладони.
В глубь моих глаз запихнул —
Мечется зверем в загоне,
Полон опасных причуд,
Прыгает, скалит зубы.
Поговорить с ним хочу —
Он вырывает мне губы.
В шкуру его я врос —
Нет в ней ни формы, пи цвета,
Ибо на каждый вопрос
И мудреца и поэта
То это тигр, то бизон,
То обернется он ланью,
То голубком… Горизонт
Сверх моего пониманья.
ДЕРЕВО. Перевод М. Кудинова.
Проворней зебры ты порой,
Подвижнее меридиана,
Твой позвоночник под корой
Звенит насмешливо и странно.
Нельзя твоих плодов срывать,
И пусть запомнят все поэты:
Сокрыта здесь морская гладь,
Здесь погрузились в сон кометы.
Мудрее рыб ты, и легки,
Как тропики, твои движенья,
На все поэмы и стихи
В листве ты прячешь возраженья.
Едва с тобой заговоришь —
Вокруг тебя безмолвья стены,
Ты бьешь ветвями, ты паришь
И исчезаешь вдруг со сцены.
СНЕГ. Перевод М. Кудинова.
Комета ранена. Бинты. И вата, вата…
Деревья в обмороке. Вата и бинты.
Здесь оперируют. И это как расплата,
Когда метафорой смертельно болен ты.
Друзьям и родственникам шлите извещенье.
(Бинты.) Готов ли шприц? Пусть явятся скорей
Медведь, и яблоня, и птицы, и растенья,
Четырехглавый гриф, экватор, муравей.
Ушел из госпиталя океан печальный,
Где многих островов лишился он.
И вот бинты и вата вновь. Слова для них фатальны.
Выздоровление. Снег в городе идет.
МУХИ. Перевод М. Кудинова.
Мухи, в такую пору
Не нарушайте тишь!
Гляньте: цветущую гору
В муках рождает мышь.
Есть у горы свой личный
Хор снегирей (он спит);
Есть луна за наличный
Расчет и луна в кредит;
Кружат над ней планеты,
В сделках она честна,
До наступления лета
Есть у нее весна.
Мухи, в такую пору
По нарушайте тишь!
И посмотрите на гору:
Гора родила мышь.
ЛУНА. Перевод М. Кудинова.
Любая луна
У меня из картона,
Склонилась одна
Над песней зеленой,
Над песней моей
И ее ощипала,
И ярость сильней
Во мне запылала.
Слова мои, в бой!
Не страшитесь урона!
Сразился с луной
Человек из картона.
РЕНЕ ГИ КАДУ.
Рене Ги Каду (1920–1951). — Родился в Бретани, учительствовал в деревне. Первый сборник, «Носильщики зари», выпустил в семнадцать лет. Затем последовали «Кузницы ветра» (1938) и «Возвращение пламени» (1940), в которых сказывается влияние сюрреализма. В годы войны — один из организаторов «Рошфорского содружества» (см. прим. к стихам Ж. Руссело). Хотя гражданские мотивы редки в поэзии Каду военных лет («Мертвая пора», 1941; «Шумы сердца», 1941), ее гуманистический пафос был вызовом фашистскому варварству. В послевоенных сборниках («Полной грудью», 1946; «Блага мира сего», 1951), отказавшись от нарочитого алогизма и герметизма, Каду обращается к поэтизации «сокровищ, доступных любому бедняку»: ветра, огня в очаге, хлеба. Те же мотивы главенствуют в изданной посмертно поэтической трилогии («Елена, или Растительное царство», «Совершенное сердце», «Друзья детства», 1952–1953).
Я ВСЕГДА ЖИЛ В ДОМАХ… Перевод Р. Березкиной.
Я всегда жил в домах неуютных и грустных
К ночи пригнанных словно буфеты к стенам
В них усталые люди приюта искали
Заглянуть я боялся в их нищенский хлам
И найти в этом жалком подобье уюта
Своего существа потаенный секрет
Я хотел чтоб меня охладило сомненье
В том что я человек Я любил свое «я»
В ослепительном блеске растительной жизни
Существом в ореоле пшеничных кудрей
Жизнь моя лишь вдали от меня начиналась
Там где чибисы в небе неслышно скользят
В перезвоне бубенчиков утро промчалось
Те же стены в известке морочили взгляд
Одинокая спальня в пустей оболочке
И кроватная сетка лишенная птичьих рулад
Но любил я себя как дитя на ладонях сидящим
И сжимающим солнце в горсти
И вдали от себя я умел себя вновь обрести
Свежим ветром сквозь ванты поэм шелестящим
* * *
«Я к вам привыкнуть не могу…». Перевод Э. Линецкой.
Я к вам привыкнуть не могу,
Сирень в цвету и лошадь на лугу.
На поезд погляжу — он устарел давно,
Пусть чудо техники, мне все равно.
Он смазан, он блестит, поэма без изъяна,
А я люблю сказанья Оссиана.
От вас я оторваться не могу,
Сирень в цвету и лошадь на лугу.
И самолеты и машины устарели,
Но молоды лесные свиристели,
И молод тот старик — сошел с дороги в тень
И смотрит, как ползет рогатый жук —
Олень.
Я к вам привыкнуть не могу,
Сирень в цвету и лошадь на лугу.
Боюсь, я и умру не очень гладко,
Не по ранжиру и не по порядку.
Боюсь, я до своих соседей не дорос,
Машины возят их, им служит паровоз,
В постелях встретят смерть, не на лесных полянах,
Забыв, что там любовь, как выстрелы каштанов.
Умру, но оторваться не смогу
От вас, сирень в цвету и лошадь на лугу.
ПОЧЕМУ ВАМ В ПАРИЖ НЕ ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД. Перевод Р. Березкиной.
— Почему вам в Париж не вернуться назад?
— А цветов аромат! А цветов аромат!
— И у Сены мы много цветочниц встречали.
— Да, но нет в них печали, ах! нет в них печали!
Я листвой очарован, и конскою статью,
И румяной служанкой, послушной объятью.
— Но в Париже служанок вы встретите тоже.
— Упаси меня боже! Упаси меня боже!
В этой влажной ночи я остался один.
Запах лилий, приволье зеленых равнин,
Комья горькой, пахучей земли под ногою,
Безнадежность и счастье знакомы изгою!
— От гордыни великой погибнете вы.
— А цветов аромат! А дыханье листвы!
СВЯТОЙ ФОМА. Перевод Э. Линецкой.
Что? Поэт Рене Ги Каду?
А следы от гвоздей найду?
Где, скажите, его водопой —
Тот источник с живой водой?
Где дорожный утаптывал прах
Этот мытарь в железных цепях?
Я потрогаю, я погляжу,
Я персты ему в рану вложу,
Распознаю, он вор, лжепророк
Или падший, униженный бог.
Покажите его без личин,
Когда он на коленях, один,
В доме детства, зеленом, простом,
Перед женщиной или Христом,
Когда горе внутри запеклось,
Когда пишет он вкривь и вкось
И на стих набегает стих,
Наподобие волн морских.
ВЕРУЮ. Перевод Э. Линецкой.
Я не верю в чудеса Лурда,
Верю в погожий день,
И в сборщиц лугового шафрана,
И в веселых, невзрослых людей.
И бог на небесах мне совсем по нраву,
Когда, лицо над миской ладоней склоня,
В черную похлебку земли он кладет приправу
Соль из глаз проснувшегося дня.
ЖОРЖ БРАССЕНС. Перевод Н. Стрижевской.
Жорж Брассенс (род. в 1921 г.) — Поэт, композитор, киноактер, исполнитель собственных песен; по праву считается «самым французским из всех французских шансонье». Стихи Брассенса-поэта, то сдержанно печальные, то по-галльски ироничные, пересыпанные озорными шутками, но неизменно проникнутые подлинным лиризмом, неотделимы от ненавязчивых и четких мелодий Брассенса-комлозитора, от естественной, чуждой всякого позерства манеры Брассенса-исполнителя. Мировую известность завоевал как композитор и актер в фильме «Сиреневые ворота» (1956). В 1953 г. выпустил автобиографическую повесть «Башня чудес»; в 1963 г. в серии «Поэты сегодня» (издательство Пьера Сегерса) вышла антология его стихов.
ПЛОХАЯ РЕПУТАЦИЯ.
В нашем маленьком городке
У всех мое имя на языке.
Бешусь я или же тих и нем,
Я все равно слыву невесть кем.
Не причинял я вреда никому,
Следуя мирно пути своему.
Но люди обычно не любят таких,
Кто хоть чуть-чуть не похож на них.
Меня все кляли неперебой,
Кроме немых, уж само собой.
Я в праздник не покидал кровать
И оставался спокойно спать,
И музыка, что звучала в окне,
Не относилась ко мне.
Не причинял я вреда никому
Тем, что мне нравилось быть одному.
Но люди обычно не любят таких,
Кто хоть чуть-чуть не похож па них.
И пальцем тыкал в меня любой,
Кроме безруких, само собой.
Однажды я, на свою беду,
С воришкой яблок столкнулся в саду,
Беднягу хозяин догнал почти,
Но я у хозяина встал на пути.
И хоть я вреда никому не принес
Тем, что мальчишка ноги унес,
Но люди обычно не любят таких,
Кто хоть чуть-чуть не похож на них.
И вслед мне ринулись все гурьбой,
Кроме безногих, само собой.
Теперь пророки мне не нужны,
Часы мои и так сочтены,
Вот только покрепче отыщут пеньку,
И буду болтаться я на суку.
Хоть я никому и не сделал зла,
Ступив на дорогу, что в Рим не вела,
Но люди обычно не любят таких,
Кто хоть чуть-чуть не похож на них.
Придут поглазеть на меня толпой,
Кроме слепых, уж само собой.
ОНА ГОЛЫШОМ ПЛЕСКАЛ АСЬ…
Она голышом плескалась
В светлой воде ручейка,
Одежда ее умчалась
С ветром за облака.
Мне закричала в испуге,
Чтоб виноградных лоз
Я отыскал в округе
Иль флердоранжа и роз.
Из лепестков несложно
Корсаж было сделать мне:
Так крошка стройна, что можно
Цветком обойтись вполне.
Лист винограда юбкой
Стал для малышки моей,
Такой была она хрупкой,
Что лист прямо впору ей.
Вместо «спасибо» ручонки
И губы она дала,
Так пылко ответил девчонке,
Что вновь свой наряд сняла.
Часто с тех пор недотрога
(Игра понравилась ей)
Приходит купаться, у бога
Прося ветерка посильней,
Ветерка посильней.
ДУРНОЙ ОБОРОТ.
Не один уже год миновал
С той поры, как я хлеб жевал,
С той поры, как вино я пил,
С той поры, как я печь топил.
И уж решили гробовщики,
Что мои похороны близки.
И смерть поджидала меня у ворот,
И приняло дело дурной оборот.
Случилась тут неприятность со мной,
Попался прохожий с толстой мошной,
Удар полена я не рассчитал,
И вмиг бедняга пред богом предстал.
Не разбирался никто, что к чему,
Сразу меня упекли в тюрьму.
Чтоб научиться себя вести,
Пришлось мне время в Сайте провести.
Лет через сто я пинком под зад
Вышвырнут был из Санте назад,
И так как сентиментален я стал,
Я возвратился в родной квартал.
Не в силах справиться с дрожью колен,
Крался я вдоль знакомых стен.
Боялся, прохожие от меня
Будут шарахаться как от огня.
Я думал, часу еще не пройдет,
Как все мне дадут от ворот поворот,
На лицах у всех я прочту одно:
Надо меня бы повесить давно
На первом же уличном фонаре,
И уж не ладанка на шнуре —
Горло мое захлестнула петля,
И плачет по мне земля.
И тут мне встречный сказал: «Салют,
Давненько тебя не видали тут!»
Другой мне руку крепко пожал,
Спросил, как здоровье, и путь продолжал.
Тогда я понял, что сохранил
Добрых людей еще белый свет,
И есть еще и добро и свет,
И сел на землю, и слезы лил.
ИВ БОНФУА.
Ив Бонфуа (род. в 1923 г.). — Археолог, историк, автор работ о готических фресках. В сборнике «О движении и неподвижности Дувы» (1953) причудливо сочетаются традиции Бодлера, Малларме, Жува. Интерес к подсознательному характерен для сборников «Анти-Платон» (1962), «Камень с письменами» (1965). Известен также как переводчик трагедий Шекспира.
ЛАМПА, СПЯЩИЙ. Перевод В. Козового.
Склонившись над тобой, кремнистая долина,
Я вслушивался в плеск безмолвья твоего
И различал в ночной обители печальной
Твое прибежище, где тлеет пена сна.
Я слушал сны твои. Глухой и монотонный,
Бессильно бьющийся в незримую скалу,
Как тает голос их, над сумраком вздымая
Надежд бормочущих тончайшую плеву!
Там высоко, в садах эмалевых, павлин
Растет, кощунственный, зловещим вскормлен светом.
Но ты довольствуешься пламенем моим,
Пока дрожит оно в изгибах темной речи.
Кто ты? Я знаю лишь недолгий ритуал
Волненья твоего и голос торопливый.
Ты во главе стола, ты сумрак раздаешь
Всей наготою рук, в которых свет единый!
ШАРЛЬ ДОБЖИНСКИЙ.
Шарль Добжинский (род. в 1929 г.). — Поэт, журналист, литературовед, переводчик, член ФКП. Родился в Варшаве, ребенком был увезен во Францию. Гражданский пафос, неотделимый от глубоко человечных лирических мотивов, яркая образность, острое чувство современности характерны уже для первого сборника Добжинского — «Решительный вопрос» (1950), за которым последовали «Мичуринские сады», «Любовь к родине», «В один голос». Автор книги «Адам Мицкевич, странник грядущего», содержащей переводы из великого польского поэта и исследование о нем. В 1975 г. выпустил сборник гражданской лирики «Столица мира».
ГДЕ ТЫ, ИСПАНИЯ? Перевод М. Ваксмахера.
Я спустился к потокам хмурым,
К водам, лишенным утра,
В край неподвижного камня,
В край немого металла.
Нищие плоскогорья.
Черные веки обрывов.
В небо луной иссохшей
Кастилия смотрит устало.
Память бросала тени
На голые плечи склонов.
Было лето, как погремушка,
Горохом цикад набито,
Набито набатным звоном,
Тайной налито силой.
…Край соломы и охры.
Фрегат, занесенный илом.
В Бургосе нет прохлады.
В Бургосе потные стены.
В Бургосе голые дети
Барахтаются в фонтанах.
И костлявые руки собора
Сквозь облако древней пыли
Тянутся к золоту солнца,
К нитям дождей оловянных.
Где ты, Испания, где ты?
Я ловлю в завываниях ветра
Эхо песен твоих недопетых.
Я в глазах твоих сыновей
Вижу искры горячего света,
Блики завтрашнего рассвета.
Я знаю: багровое пламя
Зреет под серым пеплом.
Где ты, Испания, где ты?
Я ищу, ищу твои песни
На улицах, сном одетых,
Пропитанных запахом плесени
И жгучей мечтой о просторе.
Этот сон солонее моря,
В котором свое лицо
Ты отмоешь от крови и горя.
У людей твоих нету света.
Нет ветвей у них. Прошлого нету.
Смерть для них привычная штука.
Жизнь для них ежедневная мука.
Их постель — холодные скалы…
Я в растоптанных розах, Испания,
Тяжкий твой крест искал
И сердце, магнит усталый.
На восходе стены Авилы
Полыхают в отсветах желтых.
А в небе гигантом хилым
Встает нефтяное солнце.
А красота — это сука,
По следам бредущая смерти.
А красота — это стыд
На лицах людей голодных.
Где ты, Испания, где ты?
Красоту твою руки слепые
Ночами ощупью ищут.
Туристы домой увозят
Фотографии тощих нищих.
А звезды к рассвету тают,
И бросаются люди в изгнанье —
В лиловый костер вокзала.
Где ты, Испания, где ты?
Нет, не в чванном золоте храмов,
Не в аренах — пурпурных ямах,
Не в знойной дремоте лета,
Не в изгибах долин холмистых —
Амфорах лунного света,
И не в душном сумраке порта,
Где ночами швартуются шлюхи.
Где ты, Испания, где ты?
Ты в этих строках, Испания,
Твои мечты и страдания
Колотятся в сердце поэта.
Ты в руках горняков бастующих,
Ты в непокорной Астурии,
Ты за решетками тюрем,
Ты в огненном солнце рассвета.
ЖАК БРЕЛЬ. Перевод М. Ваксмахера.
Жак Брель (род. в 1929 г.). — Поэт-песенник, композитор, актер, режиссер-постановщик. Родился в Брюсселе, в семье владельца картонажной фабрики. В 1953 г. дебютировал на сцене парижского театра «Труа-Бодэ». Снимался в фильмах «Профессиональный риск» (1967), «Мой дядя Бенжамен» (1969) и др. Постановщик фильма «Леон» (1971), автор оперы по мотивам Жюля Верна «Путь на Луну» (постановка 1969–1970 гг.). С успехом гастролировал в Северной Африке, Испании, Греции и СССР (1965 г.). Стихи Бреля выражают напряженность внутренней жизни человека из народа, интеллигента-демократа.
МЫ УВИДЕТЬ ДОЛЖНЫ…
За густой пеленой
Наших будничных дел,
За больной маетой
Наших душ, наших тел,
Сквозь унылые тени
Обид и забот,
Сквозь тугое сплетенье
Житейских невзгод,
За уродливым миром
Пустой суеты,
За угрюмым и сирым
Лицом нищеты —
Мы увидеть должны,
Как прекрасна земля,
Как березы нежны
И легки тополя,
Сердце верного друга
Увидеть должны,
Зелень летнего луга
И трепет весны…
Сердце верного друга
Увидеть должны,
Зелень летнего луга
И трепет весны.
Сквозь ворчанье, и зов,
И рыданье, и брань,
И сквозь визг тормозов
В предрассветную рань,
За пронзительным плачем
Пожарных сирен,
За концертом кошачьим
Супружеских сцен,
И за воплем орущих
В саду малышей,
За истерикой ждущих
Войны торгашей —
Мы услышать должны
Шепот сонной травы,
Красоту тишины,
Птицу в гуще листвы,
Что во мраке лесном
Задремала, успев
Сочинить перед сном
Колыбельный напев,
И во мраке лесном
Чутко дремлет, успев
Сочинить перед сном
Колыбельный напев.
БЫКИ.
Быки тоскуют в воскресенье,
Когда им надо ради нас
Уныло бегать по арене,
С тореро не спуская глаз.
Зато у лавочников праздник,
Зато, гордыней обуян,
Любой приказчик и лабазник —
По меньшей мере Дон-Жуан!
Ах, пляшет бык, и кто же сможет
Сказать, какие думы гложут
Быка в тот самый миг, когда
Он замечает на трибунах,
Ах, посреди красоток юных —
Мужей рогатые стада!..
Быки тоскуют в воскресенье,
Когда им надо ради нас
Пред матадором на колени
Валиться в свой последний час.
Зато у лавочников праздник,
Зато отвагою горит
Любой приказчик и лабазник
Среди орущих Карменсит!
Быки тоскуют в воскресенье,
Когда им надо ради нас
Удар кинжала, как спасенье,
Принять, вздохнув последний раз.
Зато у лавочников праздник,
Зато, триумфом ослеплен,
Любой приказчик и лабазник —
Ну просто вылитый Нерон!
Ах, для быка одна отрада —
Призвать на нас все муки ада,
И хворь, и боль, и плен, и тлен,
Но бык нам все простит, поверьте,
Коль вспомнит на пороге смерти
Про Ватерлоо и Верден!..
Верден…
СТАРИКИ.
Старики молчаливы, и разве глаза скажут слово-другое за них.
Пусть богаты они, все равно бедняки, даже сердце одно на двоих.
В доме пахнет лавандою и чистотой, бродят отзвуки давних речей.
Как в глухом захолустье, в Париже живут старики среди старых вещей.
Верно, смолоду много смеялись они — голоса до сих пор дребезжат.
Верно, смолоду плакали много они — до сих пор все туманится взгляд,
А в пустынной гостиной дряхлеют часы, и вздыхают уныло во сне,
И бормочут в бреду, и пророчат беду и ему, и ей, и мне.
Старики день за днем отвыкают мечтать, книги спят, пианино молчит.
Больше некого ждать, и воскресный мускат сердце старое не горячит.
Старики неподвижны, их мир, что ни день, цепенеет, сужается в щель —
От постели до кресла, от кресла к окну, и обратно из кресла в постель.
А бывает, на улицу выйдут они, и в толпе, среди лент и венков,
На далекое кладбище тихо бредут, и хоронят других стариков,
И на миг забывают, что дома часы, удрученно вздыхая во сне,
Все бормочут в бреду и пророчат беду и ему, и ей, и мне.
Старики, точно в пруд, погружаются в сон, и не выплыть порой из пруда.
Как боятся друг друга они потерять и, однако, теряют всегда…
Был он злым или добрым, ах, что за печаль для того, кто остался в живых!
Просто худо ему, что остался в живых, когда сердце одно на двоих.
Вы, должно быть, увидите где-то его, он мелькнет перед вами, как тень,
И прощенья попросит за то, что он жив, и зе то, что всю ночь и весь день
В опустелой гостиной дряхлеют часы, и уныло вздыхают во сне,
И бормочут в бреду, и пророчат беду и ему, и вам, и мне,
И бормочут в бреду, и пророчат беду и ему, и нам, и мне.
ШВЕЙЦАРИЯ.
КАРЛ ШПИТТЕЛЕР. Перевод с немецкого С. Ошерова.
Карл Шпиттелер (1845–1924). — Поэт и прозаик, писал по-немецки. Автор грандиозной поэмы «Олимпийская весна» (1900) и многих поэтических сборников. Известен как «последний классицист» в швейцарской литературе. На русский язык Шпиттелера переводил А. В. Луначарский (большая часть этих переводов, в том числе и «Олимпийская весна», осталась неопубликованной).
ЖАЛОБА КОЛОКОЛА.
Органу юный колокол
Сказал: «Вот боль моя:
Как много раз завидовал
Твоим богатствам я!
Ты все, что сердцем чувствуешь,
На тысячу ладов
Поведать можешь каждому,
И каждый внять готов.
Я, сострадая страждущим,
Измучен сотней мук, —
Но сладостен и благостен
Единственный мой звук.
Как резкостью пронзительной
Хочу я слух терзать!
Но где услада горькая,
Где сил для крика взять?»
МЕЖДУ ИЛИАДОЙ И ОДИССЕЕЙ.
«Вот этот стих — он лжет. Нужна мне правда!»
Гомер не прекословил Музе. После
Он встал. «Неужто так? Мой труд окончен?» —
«Окончен, да, и величав, и вечен». —
«И я свободен?» — «Ты сказал. Будь празден».
И тут он крикнул: «Вот мой приговор:
Любой бессмертный милосерден к нам,
И состраданье есть в сердцах людей,
И силы рабские щадит с расчетом
Тиран, — безжалостна лишь ты одна.
Всегда в тревоге совесть — день и ночь,
Во сне — и то нет отдыха душе,
Перед глазами образы теснятся,
И руку ты заносишь — насмерть бить.
Так знай, что я решил: теперь мы порознь».
И за желанною свободой в город
Он сходит — чтоб на праздник завершенья
Порадовать себя, побыв с друзьями.
Но, поздно вечером домой вернувшись,
Он два часа смотрел угрюмо, мрачно
На вечную, великую поэму,
Законченную утром. «А в душе —
В душе пустынно, одиноко, сиро,
И ни трудов, ни тягот в утешенье…»
«Я здесь!» — шепнула Муза. И когда
Он, преклонив колени, вновь поклялся
На верность ей, слезами увлажнив
Ее ладони, — «Что же медлишь ты?» —
Она спросила мягко. «Нет! Прости!
Я плачу — сам не знаю почему…
Начнем не мешкая. Ты так добра!»
ФРАНЧЕСКО КЬЕЗА. Перевод с итальянского Е. Витковского.
Франческо Кьеза (1871–1973) — поэт и прозаик, писал по-итальянски. Дебютировал в 1897 году сборником стихотворений «Прелюдии». Наиболее крупный из италоязычных поэтов Швейцарии; продолжал традиции итальянского поэта Д. Кардуччи (1835–1907).
На русском языке публикуется впервые.
«И был закон: народ, в тебе — мерило…».
И был закон: народ, в тебе — мерило.
Твоя судьба тебе же вручена.
Приемли мир и не жалей зерна
Земле, что недра для тебя раскрыла.
Раскована мыслительная сила —
Так разогни же смело рамена,
Как раскрывает все цветы весна
Навстречу блеску горнего светила.
Проснись, о человек, и позабудь
Неверие, лукавство и коварство,
Узри лежащий пред тобою путь —
Прославя доблесть и презрев мытарства,
Вступи же в кузницу судьбы и будь
Скипетродельцем собственного царства.
* * *
«На небесах высоких торжество…».
На небесах высоких торжество:
Там град бесстенный отверзает двери,
И ветр веков, скользя по эфемере,
Приумножает красок волшебство.
И рвенье человека таково,
Что, глядя на миры в небесной сфере,
В костер, пылавший у него в пещере,
Он обронил ребенка своего.
Увы, нам непостижен град верховный,
Младенцы, мы игре своей греховной
Творим кумиров детскою рукой, —
А наши очи, что в блужданье праздном
Предали фантастическим соблазнам,
В щепоти праха обретут покой.
ШАРЛЬ-ФЕРДИНАНД РАМЮ. Перевод с французского Ю. Денисова.
Шарль-Фердинанд Рамю (1878–1947). — Хотя большинство книг этого франкоязычного писателя носит подзаголовок «роман», все его творчество является поэзией в самом точном смысле этого слова. «Роман должен быть поэмой», — писал Рамю. Любовно изображая патриархальный быт простых крестьян и ремесленников, он противопоставлял ему фальшь современной цивилизации, уродство буржуазной морали, воспевал красоту и величие родной природы (сборники стихов «Деревушка», 1903; «Глиняные пенаты», 1904; «Песни», 1914; «История солдата», 1920). Писатель приветствовал Октябрьскую революцию в России лприко-философскими эссе «Великая весна» (1917) и «Потребность величия» (1937).
ПЕСНЯ ЧАСОВОГО.
Мечта, попутчица солдата,
Дочь воздуха, былого след,
День долог в дождик сероватый;
Ты здесь, когда уходит свет.
Подружка, слышишь ли, подружка,
Как кони ржут невдалеке;
Был пресным суп, неполной — кружка,
Холодной — каша в котелке.
Нет ничего дороже милой,
Но помнит ли она меня?
Любовь мне сердце б оживила,
Согрелся б я, как у огня.
Быть может, взяв портрет мой в руки,
Она грустит наедине,
В глаза мне смотрит и в разлуке
Давно тоскует обо мне.
Я снимок выну из кармана —
Ты здесь, любовь души моей!
Жди! Скоро в отпуск долгожданный
Приеду я на двадцать дней.
ДЕВУШКИ, ОСТАВШИЕСЯ В ДЕРЕВНЕ.
К чему теперь сиянье глаз,
Жемчуг зубов, грудей атлас
И наши розовые губы?
Как далеко уехали они!
Им не увидеть больше нас!
Что ж, на скамье в вечерний час
Поплачь, сестра, как я, — не раз —
Ведь одинокой быть несладко!
Они надели сабли на бок,
Коней горячих оседлали,
И больше их никто не видел.
Кто поцелует шелк волос,
Осушит капли горьких слез?
Кто застегнет мне снова платье?
Они обнять нас даже не успели; мы звали их, они сказали:
«Возвратимся!»
Быть вместе мало довелось.
Кто счастье отнял и унес?
Неужто и любовь запретна?
За ними только пыль взвилась и опустилась на вишневый сад.
Я подурнела от беды,
И пальцы слишком уж худы
Для обручального колечка.
Они, должно быть, голодны, и на соломе не раздевшись где-то спят.
Иссохла маленькая грудь.
На ком же руки мне сомкнуть?
Где собирать мне поцелуи?
Подумать, осень уж идет, морозы близятся, и скоро уж зима наступит.
ПЬЕР-ЛУИ МАТТЕИ. Перевод с французского Н. Стрижевской.
Пьер-Луи Маттеи (1893–1970). — Писал на французском языке. Формальная изощренность первых его стихотворных сборников («От шестнадцати до двадцати», 1914; «Страстная неделя», 1918; «Одна кровь», 1920) принесла поэту славу виртуоза. Маттеи исследует внутренние импульсы, стремится воспроизвести полуосознанные стремления, пользуется прихотливыми ассоциациями. После второй мировой войны П.-Л. Маттеи во многом пересмотрел свои прежние эстетические взгляды, что сказалось в сближении его творчества с трагической действительностью («Альциона в Палене», 1942).
СТРАННАЯ ЗИМА.
То странная была зима… О, град средь декабря!
Бессилье бури, блеск зарниц от жажды угасал!
Во всем был серы аромат. Меж сумеречных рам
О стекла бился мотылек — унылый тамбурин…
Да, та зима была странней всех предыдущих зим:
Под новый год, когда свет звезд от духоты померк,
Мы, кашляя, глотая пыль, едва дыша, брели
К церковным окнам, широко распахнутым во тьме…
Январь встречали мы в тот год под яблоней в цвету,
Купались утром всемером мы в горном ручейке,
Цветы срывали и плоды, кислившие на вкус…
Потом весной положен был фантазиям предел.
О беззащитность лепестков под снегом в майский день!
Зима безумная, твой зной для лета приберег
Морозы злые, гололед, и ветер, и туман,
Но я теплом своей души ослаблю холода…
КАРАВАН ПТИЦ НАД КЛАДБИЩЕМ.
Друг, в пламени искусств обретший отчий кров, —
Так медленно монах, в молитву погруженный,
Блуждает в вышине душою потрясенной,
И слышит шепот пальм, и видит блеск ручьев, —
Над хмелем, суетой и знаньем вознесенный,
Каких родных картин ты различаешь зов?
Пред розой свежею с мурашками шипов
Застынешь ты на миг, от муки отвлеченный.
Надгробие лучом косым освещено…
И красотой в душе сомненье рождено,
Потом его покой родной земли сменяет;
Завешены холсты. Закрыт последний том.
Оркестр молчит. И лишь меж днем и небытьем
На солнце клин горит и постепенно тает…
АЛЬБИН ЦОЛЛИНГЕР.
Альбин Цоллингер (1896–1941). — Поэт и прозаик, писал по-немецки. По профессии учитель. Дебютировал как поэт в 1919 году. Его творчество носит антифашистскую направленность. Известен многочисленными одами, написанными под влиянием поэтики Гёльдерлина и Гете. Подлинную популярность в Швейцарии творчество Цоллингера приобрело лишь после того, как в 1964 году Макс Фриш издал со своим предисловием четырехтомное собрание его сочинений.
На русском языке печатается впервые.
ОДА К НЕБЕСНОЙ СИНЕВЕ. Перевод с немецкого В. Швыряева.
Если бы не было ничего, в тебе уже заключалось бы все:
Величие безбрежной пустоты, всеобъемлющее спокойствие
Цветущей синевы. О океан,
Несущий нас
Нежнейшей дорогой
Свободных волн небесных горизонтов,
Напоминающих нам о существовании иного мира,
В тебе всё:
Песчаные отмели,
Соль земных морей,
Леса исчезнувших континентов,
Огни разросшихся городов-храмов,
Полуденные стекла, в которых проплывают
Блестящие облака.
Вечная синева, в тебе всё:
От блеска серпов и копий твоей сверкающей основы
До тишины колосящегося поля,
Ведущего скрытую битву с ветром, и луны,
Повисшей, как призрак, над мачтами монгольских галер,
Раскачивающихся вверх и вниз. В тебе всё:
Горный Толедо, река
И солнечная дымка длинных улиц,
Пыль, поднимаемая копытами ослов, и скрип пово&ск,
Аромат томатов,
Мраморные горы и резцы мастеров.
Город соборов, подобный облачному видению, —
В тебе всё.
В тебе человечество,
Совершающее долгое путешествие из будущего,
Минуя придорожные столбы, пирамиды,
Троны и балдахины,
Колышущиеся на ветру опахала,
Длинные процессии
И шпалеры рабов.
Вечная синева,
Ты мечта
Затаенных глубин мысли,
Тающей в зеницах
Собственной отрешенности.
Ты — всё.
Из иного мира
Нисходит сияние вечного дня
На воды, в которых плавают водоросли
Нашей повседневности,
Нашего темного сознания.
Синева, в тебе
Заря божества,
Обетованный Ливан,
Который созерцает душа,
Родина благородных,
Дорога в светлую Месопотамию,
Серебрящуюся потоками
Беспредельного будущего.
В тебе всё.
Хрустальные цистерны
Ответствуют звоном
Пенью лазурных струй источников,
Питай нас, широкий Нил,
Земля Эфиопии.
Высоко,
Высоко в отдалении
Струятся мечты твоих водопадов.
Если бы не было ничего, в тебе уже заключалось бы все,
Неподвижный родник синевы.
АЛЬБЕРТ ЭРИСМАН.
Альберт Эрисман (род. в 1907 г.). — Пишет по-немецки. Виртуоз поэтической формы, Эрисман издал много поэтических сборников. На русский язык переводится впервые.
ХЛЕБ ИСПЕЧЕН, ГНЕЗДО ОБЖИТО. Перевод с немецкого А. Эппеля.
Письмо. Слова.
Молчишь. Я тоже.
Листва мертва.
Год подытожен.
Пусты сусеки.
Хлеб испечён.
Снега навеки.
Подтопок черн.
Год подытожен?
Молчишь? Молчу?
Лист напрочь сброшен?
Царить мечу?
Зерно простыло?
Повыстыл жар?
Гнездо постыло?
Обычай стар?
Но феникс-птица
Избудет прах.
Хлеб уродится.
Огонь — в сердцах.
Год на пороге.
Письмо. Слова.
Живу в итоге.
Любовь жива.
Хлеб испечен.
Муки достало.
Смерть нипочем.
Меч — на орало.
Гнездо обжито.
Твой сын рожден.
Согрето жито.
Мир огражден.
Письмо. Слова.
Молчишь. Я тоже.
Листва жива.
Глаза погожи.
Полны сусеки.
Сердца чисты.
Мир в человеке.
В младенце — ты.
АНДРИ ПЕЕР.
Андри Пеер (род. в 1921 г.). — Поэт, пишущий на ретороманской языке. Первый сборник, «Черты времени», выпустил в 1946 году. Известен также как радиояраматург, эссеист и переводчик. На русском языке публикуется впервые.
ШАГИ ОСЕНИ. Перевод с ретороманского А. Ларина.
Полог неба меня встречает
Натянутый туго
Отполированной лестницей
Для бегства
Море
Звучащее пространство памяти
Еще колышется от плаванья
Тупого забытья
И отражается в осени душа
Опьяненная и от уныния
Сонная
Листьев облезлые губы
Щекоча ласкают и лижут
Лицо земли
Лебедь тихо отплыл
От звездной тени
И раздетые лодки
Кивают прямыми мачтами
От легкого вздоха волны
Стаи утиной бряцанье
Золотое плетенье молчания
Спокойствие зноя
Всюду слышится долгое «да»
Но в листве на аллее
Шаги расставанья
АЛЕКСАНДР КСАВЕР ГВЕРДЕР. Перевод с немецкого А. Эппеля.
Александр Ксавер Гвердер (1923–1952). — Поэт писал по-немецки. При жизни Гвердера был издан лишь один его сборник («Голубой аконит», 1951). Покончил с собой. Посмертно издано несколько сборников его стихов. На русском языке публикуется впервые.
VALSE TRISTE[233].
[233].
Достохвалимо солнце в облачной припрыжке,
И приглашает приобщиться тень;
И с Меланхолией заводим мы интрижки,
Когда уходит нас не баловавший день.
И ход судеб и фабул нам подсуден,
Утерянных давно и невзначай.
Так многотруден клюв орлиных буден —
Благопристойность, мрак — и сам господень рай!
Идем, бредем в страну глухих просторов,
Где всех проблем конечная ступень…
И — лицедеев, трагиков, актеров —
Последняя нас обнимает тень.
ПОСЛЕДНИЙ ЧАС.
Последний час мой. Я блажен и рад!
Словами этот миг нераскрываем —
Их не хватает мне. Ты расскажи…
«В чащобе я — и нет нужды назад,
И чувствую, как всеми забываем.
Слова? Здесь только шум лесных верхов…»
И — впредь нам жить у самых родников.
СЕЛЬСКИЕ МОТИВЫ.
Багровой бородой гора
Детей стращает поутру,
Мол, подо мхом в густом бору
Хоронят солнце до утра…
*
Кузнечик прыгает в развешанных полотнах.
То там, то тут стеклянный разговор —
Но твердою рукой разрушен слов узор,
И счищен с башенки покров белилен, плотныг.
*
Рукой — в траве, к подушке льнуть щекой
В сарае меж телег. Бревенчатый накат
Затмит полоблака. И, блекло-розоват,
Целуется твой рот с соломенной трухой.
*
Вечерний кофе пьешь примерно,
Вдруг солнце через крышу — прыг!
И мчит к потоку напрямик,
И мнит крестьянин — это серна…
ВАЛЬТЕР ГРОСС.
Вальтер Гросс (род. в 1924 г.). — Поэт и прозаик, пишет по-немецки. Как поэт дебютировал сборником «Посланцы еще в пыли» (1957). По профессии переплетчик. На русском языке как поэт публикуется впервые.
НАСТАВЛЕНИЕ. Перевод с немецкого Е. Витковского.
Тебе говорят:
Положи, когда уйдешь,
Ковригу хлеба обратно в шкаф,
Вылей остаток молока,
Ведь оно скиснет,
Когда ты вернешься;
Кусок сыра брось на площадку
Перед домом,
Птицы его найдут,
Закрой лари
И, как только пройдешь через сени, закрой
Дверь.
Но ты поступишь так:
Оставишь ковригу хлеба на столе,
Кувшин с молоком поставишь
В тень и прохладу, накроешь
Кусок сыра влажным платком,
Оставишь лари открытыми,
И, как только пройдешь через сени, распахнешь
Дверь,
Ибо тот, кто придет за тобой,
И переступит через порог —
Твой брат.
ФИЛИПП ЖАКОТЕ. Перевод с французского В. Швыряева.
Филипп Жакоте (род. в 1925 г.). — Франкоязычный поэт, выпустил два поэтических сборника («Сова», 1953, «Мелодии», 1967), отличающихся тонким психологизмом и пантеистической окраской, что сближает его с творчеством Франсиса Жамма (см. прим. к Франсис Жамм). Публикуемые стпхи взяты из цикла «Книга мертвых» (1964).
«Тому, кто хищных лет добычей стал…».
Тому, кто хищных лет добычей стал,
Не нужно ни садов, ни павильонов,
Ни отражений рук во мгле зеркал,
Ни пыльных книг, ни стриженых газонов.
Туманной пеленой подернут взгляд,
И слабым пальцам недоступна хватка.
Жизнь позади, и он не виноват,
Что исчерпал желанья без остатка.
Коль одинок он, я молю тебя,
Пусть он свое забудет пораженье,
Пусть не твердит слова любви, скорбя,
Пусть новый хмель стряхнет оцепененье
С души, глядящей в самое себя.
Его печаль, как крылья птиц, легка,
Его беда тепла, как ливень летний,
Его любовь прочнее тростника,
Его победу смуглая рука
Запишет сажей на стене последней.
* * *
«Пусть он войдет, одет лишь нетерпеньем…».
Пусть он войдет, одет лишь нетерпеньем,
В пространство, что измерил сердца стук,
Пусть, наделенный новым, тайным зреньем,
Увидит он источник долгих мук.
Нет обещаний, для него возможных,
Нет уверений, для него не ложных,
Нет тех, кто мог бы дать ему ответ,
Нет света лампы, женщиной несомой,
Постели нет и улицы знакомой.
Пусть он постигнет дерева завет
И видит в пораженьях смысл побед.
* * *
«Твой спутник, не поддавшийся тревоге…».
Твой спутник, не поддавшийся тревоге,
Отчаянью сломить тебя не даст,
Укажет средство, нужное в дороге;
То будет, без сомненья, не балласт
Банкнотов, слез, не могущих помочь,
И слов, подталых, словно снежный пласт.
Всего себя в глазах сосредоточь:
Там тополя осенние покорно
На берегу дрожат листвой узорной,
Роняя за листом усталый лист,
А сзади скалы встали ратью черной.
Свет времени невыразим и чист,
Как слезы счастья на земле просторной.
Гляди: перед тобой под ветра свист
Летит душа дорогой чудотворной,
Летит душа, которой мрак ночной
Ни страсти, ни улыбки не оставил.
Есть место меж деревьев под землей,
Где свет повиноваться тьму заставил,
Где взгляд дрожит, как острие копья,
Где обретет покой душа твоя.
Путь избери, как сердце указало,
К устойчивому свету обратись,
Небесною дорогой птиц умчись.
Уйди, и смерть у страха вырвет жало!
* * *
«Дар нищего вручаю нищей смерти…».
Дар нищего вручаю нищей суертк:
Дрожь тростника у водной круговерти,
Одно из слов, произнесенных той,
Что для него дышала, золотей
Вечерний воздух, звездное убранство…
Пусть три удара распахнут пространство,
Где горечь растворится до конца
В сиянии незримого лица.
ШВЕЦИЯ.
ЭРИК АКСЕЛЬ КАРЛФЕЛЬДТ. Перевод О. Чухонцева.
Эрик Аксель Карлфельдт (1864–1931). — Сын крестьянина из Даларны. Любовь, а также зарисовки крестьянской жизни — основные мотивы его творчества. Карлфельдт — один из крупных мастеров формы; рифмы его необычны для шведской поэзии, размеры разнообразны, язык богат, насыщен диалектизмами, просторечиями, архаизмами, почерпнутыми из Библии и старой шведской литературы. Лауреат Нобелевской премии 1931 г. (посмертно). Основные поэтические сборники: «Песни пустошей и любви» (1895), «Песни Фридолина» (1898), «Флора и Помона» (1906), «Флора и Беллона» (1918), «Осенний рог» (1927).
ПЕСНЯ ПОСЛЕ СБОРА УРОЖАЯ.
Здесь пляшет Фридолин[234],
Вином играющим он полон, как кувшин,
И хлебным запахом полей, и соком ягодных полян,
И набегающей мелодией долин.
Как крылья, вывернув приталенный пиджак,
Он пляшет, девушку полуприкрыв, да так,
Что и она, от резкой пляски покраснев,
В его объятья клонится, как мак.
Здесь пляшет Фридолин,
Он во хмелю и полон памятных картин:
Отец когда-то здесь плясал, как и отец отца,
Под скрипку грустную — а нынче пляшет сын.
В ночь полнолуния безмолвны их гроба,
И та струна, в руках дрожавшая, слаба,
Их жизнь, их время — долгий лиственный мотив,
Где есть и вздохи, и веселая гульба.
Да, пляшет Фридолин!
Как солнце в небе, велика его щедрыпъ,
Он с мужиками говорит без ухищрений, как мужик,
А с образованными сыплет и латынь.
Его коса прошла по вашей целине,
Он горд, как вы, зерно засыпав на гумне,
И, свойский парень, подымает он шутя
Свою девицу к чану красному — к луне.
SUB LUNA АМО[235].
[235].
Sub luna amo.
Невеста моя темна,
Вечером в танце пылком
Светится, как луна,
Пахнет, как дрема
В летнюю ночь зарниц,
Утреннею росою
Студит из-под ресниц.
Sub luna bibo[236].
Пиво мое темно,
Белая всходит пена,
Гуща идет на дно.
Мысли, улыбки
Тычутся наугад,
Кружат над тучей кружек,
Кучей листвы летят.
Sub luna canto[237].
Песня моя темна,
Бьется прибоем гулким,
Катится, как волна,
К небу взлетает,
Рушится в никуда,
Пятится и струится,
Древня и молода.
Sub luna vivo[238].
Жизнь у меня темна,
Буднична и ничтожна,
Празднична и вольна.
Честно делю я
Участь вещей земных,
Мучаясь, наслаждаясь
В полную меру их.
Sub luna morior[239].
Яма моя темна,
Ждет ли меня могила,
Моря ли глубина,
Вечный покой
Или летучий прах,
Острая пыль тоски,
Веющая в полях.
МИКРОКОСМОС.
Я из земли, прохладен и космат,
Хотя и юн, дебел и туповат.
В душе моей осенний свет сквозит,
«Прощай», — листвою желтой шелестит.
Я из воды, морозен и кусач,
Медлительность моя — замерзший плач.
Широк мой зимний праздник за столом
С румяной дичью и сухим вином.
Из воздуха я, листвен и дрожащ,
Я по весне одет в прозрачный плащ.
Какой большущий и зеленый год
От смен погоды на глазах растем!
Я из огня, я сух и раскален,
Как раскален от солнца небосклон.
И удивляться можно, как поток
Его лучей меня еще не сжег.
ВИЛЬХЕЛЬМ ЭКЕЛУНД. Перевод Нат. Булгаковой.
Вильхельм Экелунд (1880–1949). — Поэт и прозаик. На творчество Экелунда оказали влияние Ницше и Гёльдерлпн, а также в значительной степени — античная поэзия. Хотя Экелунд стоит несколько в стороне от основного русла шведской поэзии XX в., его импрессионистические зарисовки природы повлияли на многих шведских поэтов. Идеализация античности, к которой был склонен Экелунд, определила форму его стихов, которая близка к античной метрике.
Поэтические сборники Экелунда: «Весенний бриз» (1900), «Виды» (1901), «Элегии» (1903), «Морские звезды» (1906). Поэт издал также несколько книг афоризмов и эссе и собрание переводов из древнегреческой лирики «Греческий букет» (1906). На русский язык переводится впервые.
СВЕТ.
Когда в душе моей темнеет
И жизни свет земной слабеет, —
Душа больна и прежним грезит кровом,
По дома нет в пути пустом и новом.
О, неба голубое око!
Усталым ты прибежище отныне.
О, чистой красоты твердыня
В спокойном взгляде издалёка!
БОЛЬ НЕ УТИХНЕТ…
Боль не утихнет,
Не смолкнет.
Ни рощ густолистых
Яркая зелень,
Ни моря
Ласковый глянец
Не успокоят тревоги.
Кто играет
Музыку эту,
Жгучими звуками
Боль причиняя?
Сердце мое,
Почему эти звуки
В душе пробуждают
Горечь?
АНДЕРС ЭСТЕРЛИНГ. Перевод И. Бочкаревой.
Андерс Эстерлинг (род. в 1884 г.). — Поэт, переводчик, критик. В лирике Эстерлинга преобладают размышления о внутреннем пути человека, о связи человека с природой, пейзажные зарисовки. На творчество молодого Эстерлинга оказал влияние Вильхельм Экелунд.
Стихи Эстерлинга собраны в книгах «Песни года» (1907), «Факелы в бурю» (1913), «Честь земли» (1927) и др. Поэт переводил Данте, Шелли, Бодлера, Йейтса, издал антологии «Лирпка всего мира» (1943) и «Лирика всего Севера» (1954). Много сделал для ознакомления шведской публики с современной мировой литературой, в первую очередь как редактор «Желтой серии», публиковавшей произведения лучших европейских и американских писателей.
На русский язык стихи Эстерлинга переводятся впервые.
НАГАЯ ЛЕСОВИЧКА.
Прошла нагая лесовичка здесь —
Об этом шепчут ивы меж собой,
Терновнику цветов не принесла —
Он сам зацвел вслед гостье дорогой,
По именам любимцев не звала —
Но все поет, как бы в ответ на зов.
Языческие флейты ивняка
И сумрак белых колдовских цветов
Поймет лишь тот, кто смотрит в облака
И спрашивает ветер по ночам:
«Когда же на болоте стает лед?
Зачем тоска по песням и цветам:
Весной покоя сердцу не дает?»
Прошла нагая лесовичка здесь.
ЗИМНЯЯ АЛЛЕЯ.
Деревья, как потухшие шандалы,
Рисует черным поздняя зима.
Я не поэт — я видимость поэта:
Нет никаких желаний у меня,
И нет желанья обрести желанья.
Деревья молят, чтоб еще хоть раз
Над путником их зелень засияла.
Взлетает хриплый птичий крик детей
Глухонемых, играющих — и сам я
И нем и глух, подавлен пустотой.
В закат, как в развороченную рану,
Аллея упирается. О люди!
Что делать мне? Без сил и без любви
Не сваришь поэтического зелья,
Лекарства от зимы и от тоски.
НАЧАЛО ВЕСНЫ.
Дорога в полоску:
Тени деревьев,
Солнечный блеск,
На ветру дрожащий.
Мать-и-мачеха —
Желтый крап.
Но дальше, в лесу,
На хвойной постели
Белеет ночная
Сорочка зимы.
ДАН АНДЕРССОН.
Дан Андерссон (1888–1920). — Поэт и прозаик. Один из первых пролетарских писателей Швеции. На его прозу оказал влияние Достоевский, на поэзию — отчасти Киплинг. Ему принадлежат сборник новелл «Рассказы углежога» (1914), романы «Трое бездомных» (1918) и «Наследство Давида Раыма» (1919), сборники стихов «Песни угольщика» (1915) и «Черные баллады» (1917).
ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР. Перевод Веры Потаповой.
Печаль — из бревенчатой хижины прочь,
Не томи закоптелой души!
Есть мясо, огонь и вино в эту ночь,
В заснежённой лесной глуши.
Полным голосом, Бьёрнбергс-Юн, мой друг,
Запевай про любовь и весну!
Бругрен, скрипку настрой! Пусть вальса звук
Будит лунную голубизну.
В звездном свете студеная мгла плывет
Над крышей берестяной,
А на Ламмелуме ломается лед,
Полынья блестит под луной.
До ближайшего хутора множество миль.
Там гуляет мороз у двора,
А здесь, на ветру, вьется снежная пыль,
Пляшет желтое пламя костра.
За пирушкой невзгоды свои позабыв,
В этих отблесках жарких огня,
Протирающий скрипку Бругрен красив,
Словно солнце вешнего дня.
И чумаз, и в чертову кожу одет,
А глядишь ты бароном, Юн!
На лицо твое лег отпечаток лет,
И все же, как бог, ты юн.
Варгфорс-Фредрик, ты весел и сердцем прост,
Всем убогим желаешь добра.
За твою мальчишечью душу юст
Нам сегодня поднять пора.
Скоро в небе над лесом померкнет звезда,
И озябнут луга подо льдом,
На озерах забрезжит рассвет — и тогда
Мы на хвое пахучей успем.
Мы уснем на охапках еловых лап,
Подложив под щеку ладонь.
Будет слышно мужское дыханье и храп,
И, помедлив, угаснет огонь.
ЭПИЛОГ. Перевод Веры Потаповой.
Доброй ночи, бродячий люд!
Вот и песню пришлось допеть.
Так чего же еще? Распрощаемся тут.
Все равно мы не встретимся впредь.
Из того, чем душа полна
И чему суждено догореть,
Мною сказана малость одна,
Но не может любовь умереть!
Сохранится навеки она.
Доброй ночи, спокойного сна!
ГУСИ ЛЕТЯТ. Перевод Веры Потаповой.
Если исцеленья нет старинной ране,
Если одинокий голос твой под стать
Жалобному крику журавля в тумане,
Если жить — что камни на спине таскать,
Надышись ядреным воздухом осенним;
Постоим у изгороди, друг,
Поглядим, как в ясной сини, над селеньем,
Тянут гуси дикие на юг.
КОНТРАКТ. Перевод И. Бочкаревой.
Между богом и герром Н., именуемым здесь «поэтом»,
Нижеследующий договор входит в силу с этого дня:
Своими стихами поэт представляет вечность.
При этом бог, а не конъюнктура для поэта закон и судья.
Закончена песня поэтом — тогда его слово вступает
В число приближенных Слова, не высказанного испокон.
Далее бог и поэт свой контракт расторгают.
Каждый участник сим договором удовлетворен.
ПЕР ЛАГЕРКВИСТ. Перевод Нат. Булгаковой.
Пер Лагерквист (род. в 1891 г.). — Поэт и прозаик. Зачинатель экспрессионизма в шведской литературе. Его первый поэтический сборник, «Страх», был событием в шведской поэзии не только с точки зрения новизны формы, но и потому, что многие стихи из него стали девизом для сверстников Лагерквиста — поколения, подавленного хаосом первой мировой войны.
Среди написанных Лагерквистом книг — сборники стихов «Страх» (1916), «Хаос» (1919), «Песни сердца» (1926), книги рассказов «Злые сказки» (1924), «Железо и люди» (1915), романы «Карлик» (1944), «Варрава» (1950), повести «В мире гость» (1925), «Палач» (1933), пьесы «Невидимое» (1923), «Конунг» (1932). В 1950 году Лагерквист удостоен Нобелевской премии.
На русском языке публиковались отдельные стихотворения и рассказы Лагерквиста, в 1972 году издан сборник его прозаических произведений «В мире гость».
ПРИШЛО ПИСЬМО.
Письмо о зреющих хлебах,
О гроздьях ягод на кустах
Пришло. И почерк выдал вдруг
Дрожь материнских рук.
А за словами клевер цвел,
Светился за рекою дол,
И спела рожь из года в год,
И благ был небосвод.
Там хуторов полдневнй сон,
Там чистый колокольный звон
Несет из тверди голубой
Прохладу и покой.
Лаванды горький аромат
Плывет с лугов в вечерний сад.
Там мать в воскресной тишине
Письмо писала мне.
Письмо спешило день и ночь
Без отдыха, чтоб мне помочь,
Чтоб я за простотою строк
Увидеть вечность мог.
ЯЛЬМАР ГУЛЛБЕРГ.
Яльмар Гуллберг (1898–1961). — Поэт и переводчик. Многим стихам поэта присуще чувство отрешенности от мира, восточный мистицизм, философичность. Есть у него и размышления о месте человека в мире, о любви; есть и иронические стихи. Гуллберг издал сборника стихов: «В незнакомом городе» (1927), «Соната» (1929), «Победить мир» (1937) и др. Переводил Аристофана, Софокла, Еврипида, Мольера, Кальдерона, Ф. Гарсиа Лорку, Габриэлу Мистраль. На русский язык стихи Гуллберга переводятся впервые.
ВСТРЕЧИ ЛЮДЕЙ. Перевод И. Бочкаревой.
Если в чаще лесной
Страх овладел тобой,
Даже короткая встреча
Может вернуть покой.
Дать посильный совет,
Рукою махнуть вслед.
Странникам добрые встречи
Дороги с давних лет.
И от нехитрых речей
На сердце веселей.
Только такие встречи
Быть должны у людей.
НИЛЬС ФЕРЛИН. Перевод О. Чухонцева.
Нильс Ферлин (1898–1961). — В молодости сменил много профессии — был разнорабочим, электриком, актером, журналистом. Как поэт начал работать в жанре куплета на злобу дня, написав песни «Картофельная» и «Суррогатная» (обе в 1918 г.), а также много других, в основном антикапиталистического и антиурбанистического содержания. Стихам Ферлина присуще чувство одиночества, неприятие технизации, пессимизм, сатирическо-ироническое изображение буржуазной действительности. Вслед за Даном Андерс-соном продолжил и развил «бродяжническую линию», традиционную для шведской поэзии в течение нескольких веков.
А МОГ БЫ.
Бродяга я — ну и что же?
А мог бы иметь свой дом,
Быть пастырем иль торговцем,
Крестьянином иль конем.
А мог бы свистеть синицей,
А мог и ужом петлять,
Быть летним цветком иль каплей,
Упавшей с небес в тетрадь.
Восточней востока запад,
А также наоборот.
Запутался я, и в глотке
Чертовски, скажу, дерет.
ТЫ ЛИСТОК ОБРОНИЛ.
Ты листок обронил, сорванец босой,
Лист ребячий, а в нем два слова.
И, удел проклиная плачевный свой,
Вновь сидишь у крыльца чужого.
Что за лист такой, не поймешь никак,
Где хороший, худой, пропавший?
Вспоминай, покуда тебя, босяк,
Не прогонит торговец взашей.
КАРИН БОЙЕ.
Карин Бойе (1900–1941). — Поэтесса и прозаик, мастер простой, отточенной формы. Основное содержание ее стихов — борьба личности с враждебным и жестоким миром, поиски нравственной истины, нежности и понимания.
Бойе издала книги стихов: «Облако» (1922), «Забытая страна» (1924), «Очаги» (1927), «Ради дерева» (1935), «Семь смертных грехов» (издан посмертно, в 1941 г.), романы «Астарта» (1931), «Каллокаин» (1940) и др., а также сборники рассказов.
На русский язык переведены несколько рассказов Бойе и роман «Каллокаин» (1971). Стихи переводятся впервые.
КАК ЖЕ ТЫ РАДОСТЕН, ЛЕС. Перевод И. Бочкаревой.
Как же ты радостен, лес, когда солнце играет с дождем,
Как же ты переполнен запахами и светом,
Как утешаешь, красуясь, — но даже твоя красота
Боли моей не утишит, хоть я и молю об этом.
Пейте, глаза мои, свет, — сама я не вижу его.
Глубже вдыхай, моя грудь, мшанника влагу парную.
Радуйтесь сами. Я — камень. Забудьте наше родство.
Все, что добудете, прячьте в тайную кладовую.
В таинственной той кладовой ваш урожай дозреет.
Запахам, звукам, цветам тесно станет в неволе.
Как водопад, на меня хлынет свежо и щедро
Все, что скопилось во мне, каменевшей от боли.
Я НЕ ВЕРЮ. Перевод И. Бочкаревой.
Я верю тем, кто строит свой дом,
Кто сеет, жнет.
Они свой труд отдают земле,
Земля им силу дает.
Не верю я тем. кто рвется домой
Лишь в злые дни.
Кому они в радость? — Только себе.
И я этим людям сродни.
Моя душа, как бродячий пес —
Худа, робка, —
У дома запертого кружит, мерзнет,
Дрожит, пока
Не сядет на цепь, чтоб честно служить,
Стеречь свой дом
И лаем отваживать всякий сброд,
Что без толку бродит кругом.
Крадутся они через пустошь и топь,
Как морок сна.
Я — кровь ог крови этих людей.
На что же я годна?
ЖАЖДА. Перевод Г. Ратгауза.
Великой жажде — слава и хвала.
Она всегда на бой меня вела.
Она зовет меня, моя судьба.
Я поспешаю в путь, но я слаба.
Зажжен очаг, и на столе ломоть.
И хочет спать изнеженная плоть, —
Она стучится в замок тишины,
Где звучные, как песни, ходят сны.
Проснись, пора! Нам ветер полнит грудь,
Еще не кончен наш отважный путь.
АРТУР ЛУНДКВИСТ. Перевод Г. Ратгауза.
Артур Лундквист (род. в 1906 г.). — Поэт, прозаик, публицист. Творчество Лундквиста проникнуто активным гуманизмом. Лундквист — экспериментатор в области формы; язык его образен, иногда ярок до экзотичности, иногда подчеркнуто документален.
Основные сборники стихов Лундквиста: «Жар» (1928), «Черный город» (1930), «Песня сирены» (1937), «След на воде» (1949), «Мгновенье и волны» (1962). Лундквист — лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1958 г.).
На русский язык переведены рассказы Лундквиста, роман «Жизнь и смерть вольного стрелка» (1972), путевые очерки, а также сборник стихов «Говорящее дерево».
НОВАЯ МУЗЫКА.
Нам надо выучить новую музыку!
Надо губами
Новых звучаний слова ловить на лету,
Записать эти тысячи песен, что на каждом гудя г перекрестке,
Оркестровать зовущих гудков голоса, позолоченный плач
Саксофонов.
Надо выучить новые ритмы!
Перенять эти ритмы у сильных и быстрых машин,
Грозно блистающих сталью.
Мало ведь нового случается в мире,
Мы это знаем, отблеск истины этой видим на лицах толпы.
Надо искать это новое! Жить в бессоннице вечной!
Мы новую музыку жизни заставим звучать для людей,
Эти вздыбленные сумасшедшие ритмы,
Дерзкие, скорые,
Заблиставшие сталью!
СЭНДБЕРГ, ПОЭТ АМЕРИКИ[240].
[240].
Моя родина — там. среди шумных колосьев прерий,
Среди сизых вечерних долов, красных утренних гор.
За мной стоят города, улицы, реки и корабельные сосны.
Вот я спжу за пишущей машинкой
И смеюсь хриплым смехом, как смеется мой город Чикаго.
Дайте мне десять тысяч листов бумаги!
Я набил карманы моей куртки тысячами людских судеб,
У меня под началом рассвет любви, ночь ненависти,
Моих дождей и моих ветров хватит на сотню осеней,
Сотню весен,
Я припас еще два голубых океана и горсть малых
Утренних звезд…
Вот я сижу за пишущей машинкой
И смеюсь хриплым смехом, как смеется мой город Чикаго.
ГУННАР ЭКЕЛЁФ. Перевод А. Ларина.
Гуннар Экелёф (1907–1968). — Поэт, переводчик, критик, эссеист. Один из первых шведских поэтов, испытавших в своем творчестве влияние французских сюрреалистов. В свою очередь, Экелёф влиял и продолжает влиять на несколько поколений шведских поэтов XX в.
Основные сборники стихов Экелёфа: «Поздно на земле» (1932), «Осенью» (1951), «Мёльнская элегия» (1960) и др. Поэт издал также четыре сборника эссе, посвященных различным вопросам литературы, искусства и философии.
ENVOI[241].
[241].
Как блики, зыбятся звезды. То яр, то мертв,
То мертв, то яр их свет в мерцающей груде.
Мильоны раз, душой перед миром простерт,
Я думал — чего я хочу и что со мною будет.
Было искомым одно: быть таким, как дано.
Стало искомым иное: бесплодное сопротивленье.
Но в несущем потоке чем реже я чувствовал дно,
Тем охотнее претерпевал измененья.
Есть свойство врожденное: быть. Другое: быть лишенным.
Нет цели у главных дорог. К цели узкая ведет колея.
Ты видел, как золотом пишет пламя по рамам оконным?
Лунного света путь, эта мертвая зыбь — твоя.
ОЧИЩЕНИЕ.
Дайте мне воды
Не чтобы напиться
Чтобы вымыться в ней
Я масла не прошу
Дайте мне свежей воды
Видите черви плодятся у меня под мышками
На правом бедре на левом
А между ними
Гноятся нарывы
Кожа сходит слоями с подошв
Дайте мне вашей воды чтобы вымыться в ней
Не вашего масла
Ваше масло я отвергаю
Дайте мне воды
ИЛЛЮСТРАЦИИ.

Франс Мазерель. Остенде. Из цикла «Моя родина». 1956 г.
Гравюра на дереве

Кете Кольвиц. Интернационал. 1931 г.
Литография

Эрнст Барлах. Нищий, 1922 г.
Рисунок углем. Музей современного искусства, Нью-Йорк

Лев Грундиг. Заключенные. Из цикла «Под свастикой». 1935–1938 гг.
Сухая игла.
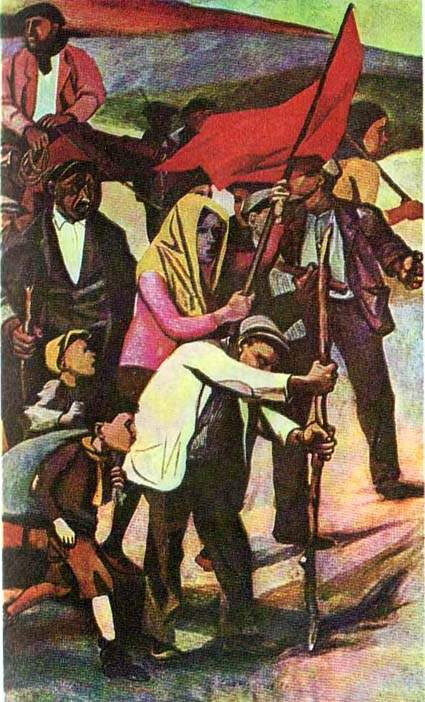
Ренато Гуттузо. Занятие пустующих помещичьих земель крестьянами в Сицилии. 1948 г.
Холст, масло. Академия искусств, Берлин.

Анри Матисс. Танец с настурциями. 1912 г.
Холст, масло. ГМИИ им. А. С. Пушкина. Москва

Анри Руссо. Вид Севрского моста. 1908 г.
Холст, масло. ГМИИ им. А. С. Пушкина, Москва

Пабло Пикассо. Испанка с острова Майорка. 1905 г.
Картон, темпера, акварель. ГМИИ им. А. С. Пушкина. Москва

Пабло Пикассо. Танец с бандерильями. 1954 г.
Литография

Морис Утрилло. Монмартр. 1906 г.
Холст, масло. Собрание Филиппа Бемберга. Париж

Морис Утрилло. Улица Мон-Сени на Монмартре. 1925 г.
Холст, масло. ГМИИ им А. С. Пушкина. Москва

Амедео Модильяни. Портрет Жанны Эбютерн. 1918 г.
Холст, масло. Частное собрание. Берлин

Фернан Леже. Строители с алоэ. 1950-е годы.
Гобелен.

Фернан Леже. Натюрморт с бабочками. 1951 г.
Майолика. Собрание Чарлза Зэдока. Нью-Йорк.
ПРИМЕЧАНИЯ К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ.
Антология западноевропейской поэзии XX века сопровождается репродукциями произведений живописи и графики крупнейших мастеров изобразительного искусства нашего столетия.
Преобладание в настоящем томе произведений французского искусства объясняется ведущим положением этой школы в развитии искусства современного Запада.
Выдающийся художник, чье имя связано с развитием искусства нашего столетия буквально на всем его протяжении, Пабло Пикассо (1881–1973) представлен работами разных периодов своего творчества, начиная с известной «Испанки с острова Майорка» (1905). Этот этюд — прекрасный образец так называемого «розового» периода творчества Пикассо, воплотивший в себе нежный лиризм и хрупкость образов, характерные для этого этапа.
«Танец с бандерильями» 1954 года — одна из литографий 50-х годов, где античное начало является основой полных лиризма и жизнерадостности образов. Испанец по происхождению, Пикассо составляет неразрывное целое с развитием французского искусства XX века.
Поэтическое, светлое начало доминирует в искусстве другого выдающегося французского художника XX века Анри Матисса (1869–1954). «Танец с настурциями» — одна из наиболее известных композиций Матисса, где в наибольшей мере проявился гармоничный характер образов этого художника, чье искусство несло людям радость даже в самые тяжелые годы второй мировой войны.
Парижу, главным образом Монмартру, Монмартру художников и поэтов, посвящены пейзажи известного французского живописца первой четверти XX века Мориса Утрилло (1883–1955) «Монмартр» и «Улица Мон-Сени на Монмартре».
«Вид Севрского моста» — одно из лучших произведений французского художника Анри Руссо (1844–1910), чье имя связано в живописи с примитивом XX века. Черты документальности в пейзаже, где изображены воздушный шар, аэроплан и дирижабль ранней конструкции, в сочетании с наивно-поэтической выразительностью манеры превращают произведение в своеобразный символ начала XX века, века технической революции.
Творчество Фернана Леже (1881–1955) — представлено композицией «Строители с алоэ» (мы воспроизводим ее и на суперобложке), воплотившей одну из важнейших тем его творчества 50-х годов, которая получила отражение в разных техниках: живописи, рисунке, литографии, гобелене. Оптимизм и жизнеутверждающее начало искусства этого французского мастера проявились и в его «Натюрморте с бабочками».
Одной из наиболее характерных черт творчества немецких художников XX века является острая социальная направленность. Особенно ярко это проявилось в работах художников-антифашистов Э. Барлаха (1870–1938), представленного в томе рисунком «Нищий», и Кете Кольвиц (1867–1945), одной из ведущих немецких художниц XX века, много работавшей в графике («Демонстрация»). Трагическим событиям периода фашистской диктатуры посвятила свою серию гравюр «Под свастикой» (1935–1938) художница Леа Грундиг (род. в 1906 г.).
Произведениями А. Модильяни (1884–1920) и Р. Гуттузо (род. в 1912 г.) представлена итальянская живопись XX века — двух разных этапов ее развития. Рано ушедший из жизни, художник трагической судьбы, Амедео Модильяни оставил своеобразный след в искусстве портрета, создав галерею глубоко поэтичных и одухотворенных образов, главным образом, поэтов и художников. К числу лучших его произведений относится и «Портрет Жанны Эбютерн», жены художника. Имя Ренато Гуттузо связано, прежде всего, с борьбой за реализм в 40–50-е годы нашего века. Его картина «Занятие пустующих помещичьих земель крестьянами в Сицилии» является характерным образцом итальянского неореализма.
Графике, ее различным видам принадлежит особое место в развитии искусства XX века. Одним из выдающихся европейских мастеров графики является бельгийский художник Франс Мазерель (1889–1972). Его гравюра на дереве «Остенде» — одна из серии, посвященной городам его страны. В литографии «Солнце» (см. вторую сторону суперобложки) крупнейшего швейцарского художника Ганса Эрни (род. в 1909 г.) нашли отражение характерные для этого мастера поиски гармоничного, светлого начала в современной действительности.
К. Панас.
Примечания.
1.
Настоящий том вместе с томами «Ф. Гарсиа Лорка. А. Мачадо. X. Хименес. Р. Альберти. М. Эрнандес»; «Поэзия социалистических стран Европы»; «И. Бехер»; «Б. Брехт»; «Э. Верхарн. М. Метерлинк» образует в «Библиотеке всемирной литературы» единую антологию зарубежной европейской поэзии XX века.
2.
Благодарность шестидесятилетнего. — Стихотворение написано в ночь на 22 февраля 1942 г., перед самоубийством.
3.
…Кони Апокалипсиса… — В Апокалипсисе или «Видении Иоанна Богослова», части Нового завета, повествующей о конце света и Страшном суде, в определенной последовательности появляются четыре коня, знаменующие гибель и уничтожение всего сущего.
4.
Харон — перевозчик душ в царство мертвых (греч. миф.).
5.
Гродек — город в Галиции, близ которого во время первой мировой войны происходили крупные сражения; фронтовой медик, Г. Тракль был участником этих событий.
6.
Люблинская печь. — Близ польского города Люблина находился гитлеровский лагерь смерти Майданек.
7.
Саранча в 1338 году. — Стихотворение представляет собой прямой отклик на захват гитлеровцами Австрии в 1938 году.
8.
Баварские генцианы. — Из последних стихов поэта, изданных посмертно. Плутон (Дис), Деметра, Персефона — персонажи античного мифа о похищении Аидом (Плутоном) Персефоны, дочери богини земледелия Деметры. В Риме Аид отождествлялся с древнеиталийскими богами смерти и преисподней Орком и Дитом (он же Дис).
9.
Когда б я знал, что моему рассказу
Внимает тот, кто вновь увидит свет,
То мой огонь не дрогнул бы ни разу,
Но так как в мир от нас возврата нет
И я такого не слыхал примера,
Я, не страшась позора, дам ответ.
(Данте. Ад, XXVII, 61–66. Перевод М. Лозинского).
10.
…я пойду с тобой… — Здесь, как и в последних строках поэмы («Мы грезили в русалочьей стране… и тонем»), автор, вероятно, обращается к своему герою; возможно также, что Элиот разделяет психологическое и физическое «я» своего героя.
11.
…всем трудам и дням… — Намек на заглавие поэмы Гесиода «Труды и дни» (III в. до н. э.).
12.
О, быть бы мне корявыми клешнями… — Ср. слова Гамлета из трагедии В. Шекспира «Гамлет», акт II, сцена II: «…ибо сами вы, милостивый государь, когда-нибудь состаритесь, как я, ежели, подобно раку, будете пятиться задом».
13.
…плакал и постился… — Библейская фраза (см.: Вторая Книга Царств, I, 12; также XII, 21), подготавливает намек на усекновение главы Иоанна Предтечи в следующей строке.
14.
Я Лазарь… — Соединение двух евангельских историй: о воскрешенном брате Марфы и Марки (от Иоанна, XI, 1–44) и нищем Лазаре в раю, которого Авраам не соглашается вернуть на землю (от Луки, XVI, 19–31).
15.
Я старею… я старею… — Парафраз реплики Фальстафа из II части драмы В. Шекспира «Король Генрих IV» (акт II, явл. IV).
16.
Мы грезили в русалочьей стране… — Парафраз пятой строки «Песни» Джона Донна (1572–1631).
17.
Гиппопотам. — Антирелигиозное стихотворение, написано в 1917 г. Бегемот — одно из средневековых обозначений дьявола. Существует предположение, что это стихотворение родилось как ответ-отрицание идеи «Гиппопотама» французского поэта Теофиля Готье (1811–1872). Эпиграф взят из послания, где апостол призывает верующих не поддаваться «небрежению о насыщении плоти», и указывает, что, хотя речь идет о церкви римско-католической, но сказанное относится и к другим церквам.
18.
…утвердил на камне. — Иисус говорит Петру: «…и Я говорю тебе: ты Петр, и на сем камне Я создам церковь Мою, и врата ада не одолеют ея…» (От Матфея, XVI, 18).
19.
…неизъясним путь Господа мне… — Парафраз первых строк из поэмы «Свет из тьмы» Уиллиама Каупера (1731–1800).
20.
Агнца кровь омоет его… — Намек на стих «…они омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца» (Откровение св. Иоанна, VII, 14).
21.
Ист Коукер. — Вторая часть «Четырех квартетов» (1943). Ист Коукер — название деревни в графстве Сомерсет, где предки Элиота жили около двухсот лет и откуда они в XVII в. эмигрировали в Америку.
22.
В моем начале мой конец… — Перефразированный девиз Марии Стюарт, вышитый на драпировке ее трона: «В моем конце мое начало». Фраза также содержит намек па изречение греческого философа Гераклита (530(?)–470 гг. до и. э.): «Каждое мгновение есть конец и начало», и на положение французского философа-идеалиста Анри Бергсона (1859–1941): «Конец содержит в себе начало, откуда он возник».
23.
…Один, за другим… и далее. — Эти строки перекликаются с постулатом Гераклита: «Все течет, все изменяется», — и с рассуждением о вечном изменении в главе первой Книги Екклезиаста, или Проповедника.
24.
Дома живут, дома умирают… — Парафраз строк нз Книги Екклезиаста, III, 2–8.
25.
Сочетанье мужчины и женщины… — Отрывок из философского трактата сэра Томаса Элиота «Правитель» (1531), ки. I, гл. 12.
26.
Башмаки подымаются и опускаются… — Картина навеяна сценой из фантастического романа немецкого писателя Фридриха Герштеккера (1815–1872) «Гермельсхаузен»: путник набредает на деревню, которой дозволено жить лишь по одному дню в столетье. В конце этого дня веселый танец ее жителей заканчивается смертью.
27.
Между двух войн (франц.).
28.
Хуан — сын поэта.
29.
Белая богиня. — У Грейвза Белая Богиня — это многоликая богиня плодородия, главное божество на начальном этапе развития всех цивилизаций, в период матриархата. Потом богиню сменил бог разума, отвративший внимание людей от мира Природы. В этом Грейвз видит источник всех бед, унаследованных современным человечеством, и главная из них — отлучение поэта от богини, его настоящей Музы, и утрата первородного языка поэзии, который основывался на знании времен года и жизни Природы. Вновь обретя этот язык, поэзия воспоет рождение, жизнь, смерть и воскрешение умирающего и возрождающегося бога, которого поэт ассоциирует с собой.
30.
…дождь золотой… — Согласно греческому мифу, Зевс проник в башню к царевне Данае в виде золотого дождя.
31.
Брейгель Питер (1525/30(?)–1569) — нидерландский художник, один из основателей фламандского и голландского реалистического искусства.
32.
Редьярд Киплинг (1865–1936) — английский писатель.
33.
Клодель — см. прим. к Поль Клодель.
34.
Фукидид (ок. 460 — ок. 400 гг. до н. э.) — древнегреческий историк, автор «Истории Пелопоннесской войны». В основе его концепции лежит представление о неизменной человеческой природе; в силу этой неизменности исторические явления могут повториться в будущем.
35.
Нижинский В. Ф. (1889–1950) — русский балетмейстер, артист балета.
36.
Дягилев С. С. (1872–1929) — русский театральный деятель.
37.
Гефест — бог огня, покровитель кузнечного ремесла (греч. миф.). Изготовлял драгоценное оружие и утварь для богов и героев.
38.
Фетида — морская богиня, мать героя Троянской войны Ахилла (греч. миф.).
39.
Джерард Мэнли Хопкинс (1844–1889) — английский поэт; был приходским священником.
40.
От автора. — Стихотворение написано в 1952 г. специально для сборника «Избранные стихи». Форма этого произведения напоминает изыскания провансальских и средневековых валлийских поэтов. Рассуждение о поэзии основано здесь на Книге Бытия (спасение Ноя).
41.
Не уходи без слов во мрак ночной. — Стихотворение написано во время болезни отца поэта в 1951 г. В письме к издателю есть такие слова: «Единственный человек, которому я не могу показать вто стихотворение, конечно же, мой отец: он не знает о том, что скоро умрет».
42.
Среди жертв утреннего налета был столетний старик. — Стихотворение написано в 1941 г., в период ожесточенных бомбардировок Лондона гитлеровской авиацией.
43.
Картонный заяц… — Имеется в виду игра, распространенная в английских кафе.
44.
«В Арагоне тем героическим летом…» — Стихотворение отражает личный жизненный опыт поэта, участника борьбы испанского народа против фашизма. Арагон — испанская провинция.
45.
Антей — сын Посейдона и Геи (Земли); был неодолим до тех пор, пока соприкасался с матерью-Землей (греч. миф.).
46.
Ночной поезд. — Программное стихотворение; противопоставление мощного хора циклопов нежной песне эльфов может быть понято как признание победительной силы реализма и (в устах автора «Ткачей») пролетариата.
47.
«Приди и властвуй, Новый год…»— Стихотворение полно надежды на скорую гибель фашизма.
48.
…в прекрасном Бадене была… — Имеется в виду Баден-Баден, немецкий курорт, модный в начале века.
49.
…когда Эротам весело резвиться… — Древние греки чтили и черного, и белого Эротов (богов любви). Здесь, однако, множественное число употреблено скорей метафорически.
50.
Норна — богиня судьбы у древних германцев.
51.
Данте и поэма о современности. — Данте для Георге не только любимый поэт, но и один из самых дорогих образов мировой истории. Георге был внешне похож на уцелевшие изображения Данте и играл его роль в карнавальном «шествии поэтов». В названии стихотворения подчеркивается публицистический пафос поэмы Данте.
52.
…от Адидже до Тибра… — То есть по всей Италии.
53.
Один из готских королей… — Готы — племена, проникшие в Западную Европу в первые века нашей эры, в эпоху «великого переселения народов».
54.
…хейльброннского купца. — Хейльбронн — городок в Германии. В поэтической системе Моргенштерна могла иметь значение и внутренняя форма этого названия (буквально: святой или целебный источник).
55.
Мой синий рояль. — Самое известное стихотворение поэтессы. Заглавие и центральный образ ассоциируются с названием группы художников-экспрессионистов «Синий всадник» (П. Клее, Ф. Марк и др.).
56.
Сенна-гой — палиндром (справа налево читается: Йоганнес); стихи посвящены немецкому писателю и деятелю анархизма Иоганнесу Гольцманну (1884–1914), схваченному во время пребывания в России царской охранкой в 1907 г. и погибшему на каторге.
57.
Манон. — Стихотворение написано от лица героини романа аббата Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско» (1733).
58.
Парк Монсо — общественный сад в Париже.
59.
Иов — герой и легендарный автор «Книги Иова» (в Библии). За душу Иова борются бог и сатана.
60.
Рухнул купол Содома… — Содом — один из городов, располагавшихся некогда на берегу Мертвого моря и уничтоженных, согласно Библии, гневом господним. Иов был жителем Содома.
61.
212. Над Мориа, крутым обрывом к богу… — Здесь и в следующих строках имеется в виду библейское предание, по которому бог, испытывая Авраама, велел ему умертвить его единственного сына Исаака и лишь в последнее мгновение отвел отцовский нож. В своем творчестве поэтесса пытается использовать истории Ветхого завета как мифологический ключ к пониманию современности.
62.
Сад Гефсиманский — место, где, согласно Новому завету, Христа одолевали сомнения.
63.
Везер — река в Германии.
64.
Великая сцена у Нила… — Очевидно, имеется в виду гибель Антония и Клеопатры (I в. до н. э.).
65.
Парфенон — храм в Афинах.
66.
Декаданс — Здесь слово «декаданс» употреблено расширительно, в смысле «вырождение».
67.
Ипр и Во — места кровопролитных сражений первой мировой войны.
68.
«Когда они поэта хоронили…» — На смерть Э. Ланггессер.
69.
Дженаццано — город в Италии.
70.
Гелиогабал — римский император (правил в 217–221 гг.).
71.
Век-иуда висит на осине… — По легенде, Иуда повесился на осине. Кролов имеет в виду возможность «атомного самоубийства» века.
72.
…Гефест-хромоножка Ахиллу, который спешит… — По «Илиаде», бог огня Гефест сковал Ахиллу новый щит, взамен утерянного в бою, в котором погиб Патрокл.
73.
Еще феаки там живут Гомеровы… — Феаки — мифический народ, описанный в «Одиссее» Гомера.
74.
Соломос Дионисиос (1798–1857) — выдающийся греческий поэт, певец революции 1821 г.
75.
…Демодок, объятый вдохновением… — Демодок — в «Одиссее» Гомера слепой певец, воспевавший на пиру у феакийского царя Алкиноя подвиги героев Троянской войны.
76.
Немезида — богиня возмездия (греч. миф.).
77.
Фермопилы. — В 480 г. до н. э. в Фермопильском ущелье греческий отряд из трехсот спартанцев во главе с царем Леонидом пал в битве, отражая натиск армии персов. Победа персов стала возможной лишь благодаря измене Эфиальта, который провел врагов через горы в тыл защитников ущелья.
78.
…мидяне все-таки прорвутся. — В середине VI в. до н. э. Мидия была включена в Персидскую державу, и мидяне приняли участие в походах персов на Грецию.
79.
Сатрапия — административная единица (провинция) в составе Персидской державы.
80.
Сузы — город в Персии.
81.
Артаксеркс — персидский царь.
82.
…о дорогом, бесценном слове «Эвге!»… — «Эвге» — отлично, превосходно (древнегреч.).
83.
Агора — торговая площадь и место народного собрания у древних греков.
84.
Покидает Дионис Антония. — В жизнеописании римского полководца Марка Антония Плутарх упоминает о предании, согласно которому в ночь накануне гибели Антония на улицах Александрии звались звуки оркестра, сопровождавшего шествие в честь Диониса: «Люди, пытавшиеся толковать удивительное знамение, высказывали догадку, что это покидал Антония тот бог, которому он в течение всей жизни подражал…».
85.
Ахелой — река в Центральной Греции. В мифологии — речное божество. Вступив в бой с Гераклом, Ахелой принял образ быка, и Геракл сломал ему рог (греч. миф.).
86.
Анадиомена — восходящая из воды. Одно из имен богини Афродиты, которая, по преданию, возникла из морской пены.
87.
Гелиос — бог солнца.
88.
Стикс и Ахерон — реки подземного царства. Водами священной реки Стикс клялись древние греки.
89.
Клефты — партизаны, оказывавшие сопротивление поработителям в период турецкого ига в Греции.
90.
Ах, той ли весною… летом… Райя ты моя, райя… — Строка из греческой народной песни периода турецкого владычества. Райя — стадо (арабск.), собирательное имя, обозначавшее все немусульманское население Оттоманской империи.
91.
Эринии — богини мщения.
92.
Перевод С. Апта.
93.
Каво Гата — мыс Кошка на южном берегу Кипра.
94.
«По шипам колючего дрока…» — Фраза из диалога Платона «Государство». Сеферис ссылается на рассказ Платона о судьбе тирана Ардиея.
95.
Суний — мыс в Аттике с храмом Посейдона (V в. до н. э.).
96.
Амфиарай — аргосский царь, знаменитый прорицатель. В Древней Греции существовал культ Амфиарая, и в посвященных ему храмах были оракулы.
97.
…поражение при Эгоспотамах… — Поражение Афин в битве на реке Эгоспотамы решило исход Пелопоннесской войны (431–404 гг. до н. э.) в пользу Спарты. Афинская рабовладельческая демократия пала, к власти пришла реакционная олигархия — Тридцать тиранов.
98.
Кимон — выдающийся афинский полководец V в. до н. э.
99.
И повествуя об этом… — Слова из «Гимна свободе» Дионисиоса Соломоса, из строфы, где говорится о том, что в годину рабства удел Свободы — вспоминать о былом величии и, «повествуя, лить слезы».
100.
Доблести Трехсот или Двухсот… — Имеются в виду триста спартанцев, павших в битве при Фермопильском ущелье (480 г. до н. э.), и двести греческих патриотов, казненных фашистскими оккупантами 1 мая 1944 г. в тире Кесарьяни.
101.
Макронисос, Юра и Лерос — острова, служившие в послевоенные годы местом заточения греческих демократов.
102.
Золотое руно. — Рицос пользуется мифом об аргонавтах, совершивших поход в Колхиду за золотым руном. Упоминаются испытания, выпавшие на долю аргонавтов, — сдвигающиеся скалы Симплегады, изрыгающие пламя меднокопытные быки царя Колхиды Эета. С помощью дочери Эета Медеи предводитель аргонавтов Ясон похищает золотое руно. Чтобы остановить погоню Эета, Медея убивает своего брата Апсирта и разбрасывает по морю части его тела.
103.
Затихая; ослабляя силу звука (итал.).
104.
Остров Иннисфри. — Йейтс отмечал в «Автобиографии», что стихотворение написано под влиянием книги Г.-Д. Торо «Уолден». Иннисфри — остров в графстве Слайго (Ирландия).
105.
Встану я, и пойду… — парафраз строки: «Встану, пойду к отцу моему…» (Евангелие от Луки, XV, 18).
106.
…ибо в час дневной и ночной… — Парафраз строки: «…всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни…» (Евангелие от Марка, V, 5).
107.
Горе любви. — Опубликовано как вставное стихотворение к пьесе «Графиня Кэтлин» (1892). Героиня этой стихотворной драмы Йейтса продает душу дьяволу, спасая народ от голода.
108.
Роза мира. — Стихотворение посвящено Мод Ганн, актрисе. В более поздних стихах Йейтса Мод Ганн часто сравнивается с троянской Еленой и с Деирдре, героиней ирландского фольклора. В стихотворении «Пасха 1916 года» строки: «Забыть ли его вину перед тою, кто сердцу мил?» — также относятся к ней.
109.
…погибли Усны дети… — Дети Усны погибли из-за Деирдре, дочери сказочника, жившего при дворе короля Конхобара. Он предсказал, что его дочь станет причиной великих бед в Ольстере.
110.
Волхвы. — Волхвы недовольны рождением Христа, ибо они символизируют веру поэта в то, что христианское откровение не было последним, что ход истории осуществляется в борьбе противоположностей.
111.
Конхобар — король Ольстера, центральная фигура саги «Судьба детей Усны».
112.
Дромахер, Лиссадеделл, Сканавин — названия местностей в Ирландии.
113.
…о нездешнем островке… — скорее всего, первое из четырех райских мест, куда Ниамх привела Ойзина в поэме У.-Б. Йейтса «Странствия Ойзина».
114.
…под золотом и серебром небесным… — алхимический символ совершенства.
115.
Лугнаголл — означает Место Смерти Чужеземцев. Легенда рассказывает о нападении пяти воинов-пуритан на монастырь и их гибели.
116.
…с левой руки… — то есть неудачливо.
117.
Кэтлин, дочь Холиэна — символ Ирландии. Стихотворение посвящено было Мод Ганн, которая играла роль Кэтлин, старой женщины, символизировавшей свободную Ирландию в пьесе У.-Б. Йейтса «Кэтлин в Холибане» (1902).
118.
Нокнарей — Королевская гора в Слайго.
119.
…Клотнабарские воды выходят из берегов… — Клотнабар — озеро в Ирландии. Легенда рассказывает, что уставшая от жизни Клотнабар обошла весь мир в поисках глубокого озера, чтобы утопиться, пока не нашла такое на вершине Птичьей горы в Слайго.
120.
Рыболов. — Начальные строки стихотворения представляют собой описание идеального человека; такие люди, по мнению Йейтса, должны были бы жить в Ирландии; далее изображаются люди, которых Йейтс в действительности видит в Ирландии.
121.
…и умер любимый друг… — Возможно, имеется в виду Э.-Д.-М. Синг (1871–1909), драматург.
122.
Летчик-ирландец предвидит свою гибель. — Стихотворение посвящено Роберту Грегори.
123.
Пасха 1916 года. — Это стихотворение в 1916 году было опубликовано в количестве 25 экземпляров для распространения среди друзей поэта. Оно посвящено памяти вождей так называемого Пасхального восстания в Дублине (24–30 апреля 1916 года), подавленного английскими войсками. Шестнадцать руководителей восстания по приговору английского суда были казнены.
124.
Эта женщина… — Констанс Маркевич (1868–1927), актриса и художница, участница восстания. Была приговорена к тюремному заключению, в 1917 г. освобождена по амнистии, в 1918 году избрана в ирландский парламент.
125.
А этот был педагог… — Имеется в виду Патрик Пирс (1879–1916). Писал стихи на гэльском и английском языках.
126.
Его помощник и друг… — Томас Мак-Донах (1878–1916), поэт и критик, автор книги «Литература Ирландии».
127.
Четвертый казался мне… — Майор Джон Мак-Брайд (1878–1916).
128.
Коннолли — Джеймс Коннолли (1870–1916), профсоюзный лидер, организатор Ирландской гражданской армии, комендант Почтамта.
129.
Леда — жена спартанского царя Тиндарея, к которой Зевс явился в образе лебедя. Леда родила от Зевса Елену Прекрасную — виновницу Троянской войны. Агамемнон был убит Клитемнестрой, дочерью Леды. (греч. миф.).
130.
Плавание в Византию. — В западном литературоведении высказываются предположения, что У.-Б. Йейтс написал «Плавание в Византию» как ответ на «Оду к соловью» Китса. В начале стихотворения дается, очевидно, описание Ирландии. Византия для Йейтса — символ земли обетованной.
131.
…как на златой мозаике… — Имеется в виду мозаичный фриз на стенах собора Святого Аполлинария в Равенне.
132.
…пусть эллин бы искусный отковал… — Возможно, отголосок прочитанных Йейтсом в детстве сказок Г.-Х. Андерсена («Соловей императора»); возможно также, что это — описание императорского дворца в Византии, где в саду было дерево из золота и серебра, в ветвях которого пели искусственные птицы.
133.
Я ненавистью занят не на шутку… — Йейтс считал, что душа должна любым образом соотноситься с богом, даже если это соотношение основано на ненависти.
134.
С ударом полночи… — Имеется в виду конец жизни.
135.
Статуи. — Йейтс писал: «Доктрина чисел Пифагора проложила дорогу искусству греческих скульпторов, которые ваяли свои статуи при помощи точного расчета. Не столько греческие солдаты и матросы при Саламине, сколько греческий интеллект завоевал Азию».
136.
Фидий (V в. до н. э.) — греческий скульптор.
137.
Кухулин — центральная фигура древнейшего цикла ирландского эпоса.
138.
Почтамт — центр Пасхального восстания 1916 года в Дублине.
139.
Тилли — молодое деревце.
140.
Баллада о Хухо О’Вьортткке. — Стихотворение взято из романа Д. Джойса «Поминки по Финнегану». Хамфри Ирвикер — один из персонажей романа, которого Джойс еще называет Шалтай-Болтаем (персонаж сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес»). Ирвикер по звучанию на английском языке напоминает слово «уховертка». Вся эта поэтическая вставка построена на игре слов. Заглавие романа, взятое из ирландской комической песни, определяет тему: смерть и воскресение, падение и возрождение человека. Персонажи романа живут в мире грез, где люди, события, времена могут растворяться друг в друге. «Поминки по Финнегану» — последний роман, написанный Джеймсом Джойсом, и самый трудный для чтения и расшифровки.
141.
Дайте мне (франц.).
142.
…узнают по деревьям… — Деревья вокруг фермы обозначают в безлесных районах ее границы.
143.
…апрельский черный день… — День распятия Христа.
144.
Левит — служитель религиозного культа у древних евреев. Здесь — в значении «Новообращенный».
145.
Брэди Николас (1659–1726) — англиканский священнослужитель и поэт, автор известного стихотворного перевода Псалмов. Каванах отвергает этот перевод, считая его приукрашенным и искажающим основной текст.
146.
Фула (или Крайняя Фула). — У древних римлян — самый северный край или остров, цо которого они доплывали; возможно, имелась в виду Исландия.
147.
Один — глава и отец рода богов в скандинавской мифологии, бог войны и смерти, покровитель героев, а также бог поэзии и покровитель поэтов. Одину принадлежит мед поэзии, и всякий, кто его испробует, становится поэтом.
148.
Георгики — жанр античной поэзии, воспевающий сельский быт и сельскохозяйственные работы.
149.
Солеарес — Разновидность андалузской песни с куплетами-трехстишиями.
150.
Кастилия. — В этом стихотворении М. Мачадо перевел на язык современной поэзии известный эпизод из «Песни о Сиде», жемчужины средневековой испанской литературы (см. 10-й том БВЛ).
151.
Луис де Леон (1527–1591) — выдающийся поэт из саламанкской школы «мистиков», ученый-богослов, образованнейший человек своего времени. Был приговорен инквизицией к долголетнему заточению за перевод «Песни песней» на испанский язык.
152.
Тото Мерумени. — Имя героя стихотворения образовано от названия комедии древнеримского драматурга Публия Теренция Афра «Heautontimorumenos» («Самоистязатель»); то же заглавие Бодлер дал одному из стихотворений «Цветов зла».
153.
Бывал здесь Дом Ансальдо, и Дом Раттацци — тоже… — В первом случае, скорее всего, речь идет о семействе крупного промышленника Джованни Ансальдо, во втором — о семье Урбано Раттацци (1808–1873), видного государственного деятеля Сардинского королевства.
154.
…горгоной о приезде своем оповещают. — Имеется в виду дверной моло-ток в модной для стиля «либерти» форме, изображающий голову Горгоны, женского чудовища из греческой мифологии.
155.
…сбывать слова… — Цитата из «Канцоньере» Петрарки (канцона CCCLX).
156.
«На фоне самых светлых пейзажей…» — Это и следующее стихотворения посвящены поэтессе Сибилле Алерамо (1876–1960).
157.
Пленный, сапожник по профессии, был отконвоирован мною в город для покупки инструмента. (Прим. автора.).
158.
Струи Изонцо… — В районе реки Изонцо в первую мировую войну происходили кровопролитные сражения с австрийцами, стоившие итальянской армии десятков тысяч жизней.
159.
У властителей нет глаз, чтобы видеть эти великие чудеса, и руки им служат теперь лишь для того, чтобы преследовать нас…
Агриппа Д’Обинье. Богу (Франц. ).
160.
Арсенио — имя, не впервые встречающееся в лирике Монтале; под этим именем поэт подразумевает себя.
161.
Остановка, здесь — выжидание (греч.).
162.
Джерти, Люба, Клития — имена, связанные с рядом стихотворении Монтале, написанных ранее.
163.
«Без очков, без антенн…» — Стихотворение, так же как и следующее, посвящено памяти покойной жены поэта.
164.
Охранная грамота (франц.).
165.
Оттенок (франц.).
166.
Супружеская чета (франц.).
167.
Скорбная вилла — фашистский застенок в Милане, созданный после провозглашения в 1943 г. «республики Сало».
168.
Гуру — духовный наставник, учитель (санскр.).
169.
…на волоске от моря. — Из Греции подразделение, в котором служил Серени, в любой день могло быть переброшено морем на африканский фронт — в пустыню Эль-Аламейн.
170.
18 Апреля (1948 г.) — дата первых после войны парламентских выборов; выборы окончились внушительной победой христианских демократов.
171.
Слепые. — Стихотворение написано по мотивам одноименной картины Питера Брейгеля Мужицкого (1525/30(?)–1569).
172.
Карин Бойе — шведская поэтесса; покончила с собой (см. прим. к Карин Бойе).
173.
Керем — легендарный возлюбленный Аслы, по преданию, сгоревший в огне.
174.
Площадь Баязита — площадь в Стамбуле.
175.
Ут — турецкий национальный струнный инструмент.
176.
…узкий, как волос и острый как нож… — Намек на узкий мост Сыррат, по мусульманской религии, ведущий в рай.
177.
Девичья Башня (Кызкуле) — башня в Босфоре, около Ускюдара.
178.
Минтан — камзол с рукавами.
179.
Сивас — город на реке Кызылырмак.
180.
…справиться с пеленами болезни. — Эдит Сёдергран была больна туберкулезом, от которого умерла в возрасте 31 года.
181.
Прокл (410–485) — главный представитель позднейшего неоплатонизма, последний крупный философ античности.
182.
Клазомены — один из двенадцати ионийских городов на западном берегу Малой Азии, родина философа Анаксагора.
183.
Слабый Верлен. — Стихотворение отражает некоторые стороны биографии и творческого облика французского поэта Поля Верлена (1844–1896).
184.
…он пропитан весь кровью и болью, как Вероники одежда… — По средневековой легенде, Вероника, благочестивая жительница Иерусалима, подала Христу, ведомому на казнь, свой платок, чтобы он отер им кровь и пот.
185.
…однажды его описал он в романе своем. — Речь идет о романе А. Франса «Красная лилия» (1894). Поль Верден послужил прототипом одного из героев романа, поэта и христианского социалиста Шулетта, обрисованного в характерной для Франса иронической манере.
186.
Старый лысый Сократ… — Внешне Верлен походил на Сократа, что подчеркивали все современники поэта.
187.
Пусть Катюль Мендес будет в славе, а Сюлли-Прюдом — великим поэтом… — Мендес Катюль (1841–1909) и Сюлли-Прюдом (наст. имя — Рене-Франсуа-Арман Прюдом, 1839–1907) — второстепенные поэты-парнасцы, пользовавшиеся большой известностью на рубеже XIX–XX вв.
188.
…от тирских купцов… — Тир — финикийский порт, один из крупнейших торговых центров древнего мира.
189.
Вьеле-Гриффен Франсис (1864–1937) — французский поэт, мастер свободного стиха.
190.
…змей… кусает хвост своей же плоти рваной… — Бесконечность морской глади уподобляется здесь древнему гностическому символу вечности, змею Уроборосу, кусающему собственный хвост.
191.
Сильф — В средневековой демонологии сильф (также эльф) — дух воздуха, олицетворение изменчивой и неуловимой воздушной стихии.
192.
Сен-Дени (святой Денис) — первый архиепископ Парижа. В VII в. король Дагобер основал на его могиле аббатство, служившее усыпальницей французских королей.
193.
…он полез на Монтобан. — Речь идет об осаде протестантских крепостей Ля-Рошели и Монтобана, предпринятой кардиналом Ришелье в 1621 г.
194.
Каронада — короткое гладкоствольное орудие конца XVIII в.
195.
Орифламма — знамя французских королей.
196.
Офир — легендарная страна сокровищ, куда, согласно Библии, совершали совместные морские экспедиции царь Соломон и царь Тира Хирам в поисках золота, слоновой кости и благовоний.
197.
Диана — здесь: луна.
198.
Лофотен — небольшой архипелаг у побережья Норвегии.
199.
Рене Дализ — псевдоним друга Аполлинера, журналиста. Впоследствии Аполлинер посвятил его памяти книгу «Каллиграммы».
200.
…последыш Симона-волхва… — Симон-волхв, как говорится в «Деяниях апостолов», хотел за деньги откупить у апостола Петра дар творить чудеса. Отсюда слово «симония» — торговля церковными должностями.
201.
…Енох Икар Илья-пророк… — мифические «воздухоплаватели»: ветхозаветные пророк Енох был взят живым на небо; Икар, летевший на сделанных его отцом Дедалом крыльях, рухнул в море; пророк Илья вознесся на небеса в огненной колеснице.
202.
Птица Рок — огромная волшебная птица в восточных сказаниях.
203.
И однокрылые вдвоем летая… — Согласно китайской легенде, птицы пи-и, сросшиеся парами, летают на правом крыле самца и левом крыле самки.
204.
Святой Витт — готический собор в Праге, заложенный в 1334 г. французскими мастерами.
205.
Градчаны — район пражского Града (Кремля).
206.
Спальни, сдаваемые внаем (лат.).
207.
…явившимся из Гарца феям… — Гарц — горный массив в Германии; высочайшая вершина Гарца — Брокен — была, по средневековым поверьям, местом шабаша ведьм в Вальпургиевую ночь.
208.
Трисмегист («трижды великий») — легендарный древнеегипетский мудрец, которому приписывалось авторство так называемых «герметических сочинений», то есть книг по «тайным наукам», созданных в начале нашей эры в эллинистическом Египте. Здесь его имя употреблено в ироническом смысле.
209.
В тюрьме Санте. — В 1911 г. Аполлинер был арестован по подозрению в краже из Лувра «Джоконды» и заключен в парижскую тюрьму Сайте. Вскоре ложность обвинения была установлена, и поэт был освобожден.
210.
Мой столик хромает точь-в-точь Лавальер. — Лавальер Луиза-Франсуаза (1614–1710) была фавориткой Людовика XIV; однако она не отличалась красотой и слегка прихрамывала.
211.
Пуалю — прозвище французских солдат в эпоху первой мировой войны.
212.
Моя муза. — Стихотворение переведено Валентином Парнахом; перевод публикуется впервые, по рукописи (ЦГАЛИ, фонд 2251, опись I, ед. хр. 26).
213.
Льянеро — конные пастухи, жители льяносов, степных равнин Венесуэлы и Колумбии.
214.
Восковые фигуры мадам Тюссо (англ.).
215.
Море (греч.).
216.
Совокупность поэзии (лат.).
217.
Над волнами морскими (исп.).
218.
Каракара, сапсан, каранчо… — Перечисляются виды птиц, обитающих в Уругвае.
219.
Сделано в Германии (англ.).
220.
Горный Старец (Шейх-эль-Джебель) — руководитель шиитской секты, основанной в XI в.; ее первоначальной целью была борьба с крестоносцами.
221.
Эвфуизм — искусственность, вычурность языка.
222.
Тетрарх — в Древней Греции правитель «тетрархии», четвертой части какой-нибудь территории.
223.
Куску ткани. — Поэт обращается к трехцветному знамени Франции.
224.
Лихтер, тартан — плоскодонные суда для разгрузки морских кораблей в портах.
225.
Свобода. — Стихотворение было напечатано в 1942 г. в Алжире; английские летчики сбрасывали его над оккупированной Францией в виде листовок.
226.
…стучит барабан на Аркольском мосту… — Арколе — селение на реке Альпоне в Северной Италии, где 17 ноября 1796 г. французские войска под водительством Бонапарта разбили австрийскую армию.
227.
Бара Поль-Франсуа (1755–1829) и Клебер Жан-Батист (1753–1800) — военные и политические деятели Великой французской революции.
228.
До рассвета Вальми остаются часы. — 20 сентября 1792 г. близ местечка Вальми (департамент Марна) французская республиканская армия одержала победу над австро-прусскими оккупантами и отрядами французских эмигрантов и отбросила врага за пределы страны. Имя Вальми стало символом революционной доблести французского народа.
229.
Вобан (1633–1707) — французский полководец и фортификатор.
230.
Марина — морской пейзаж.
231.
Септентрион — созвездие Большой Медведицы; в переносном значении — север.
232.
Хулиан Гримау (1911–1963) — испанский коммунист, казненный франкистами.
233.
Грустный вальс (франц.).
234.
Фридолин — обобщенный образ крестьянина; герой многих стихотворений Карлфельдта.
235.
Под луною люблю (лат.).
236.
Под луною пью (лат.).
237.
Под луною пою (лат.).
238.
Под луною живу (лат.).
239.
Под луною умираю (лат.).
240.
Карл Сэндберг (1878–1967) — американский поэт.
241.
Посылка (франц.).
Антология.