Джузеппе Бальзамо (Записки врача).
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.
LXXXVIII. КОРОЛЕВСКАЯ ДОЛЯ.
Оставшись один, герцог д’Эгильон почувствовал было себя неловко. Он прекрасно понял все, что хотел сказать ему дядюшка, отлично понял, что г-жа Дюбарри подслушивала, несомненно понял, что умному человеку следовало в этом случае стать возлюбленным к в одиночку разыграть партию, для которой старый герцог пытался подыскать ему товарища.
Прибытие короля весьма удачно положило конец объяснению, неизбежному, несмотря на пуританскую сдержанность г-на д’Эгильона.
Маршала невозможно было долго обманывать, он был не из тех, кто позволил бы другим выставлять напоказ свои достоинства, которых недостает ему самому.
Когда д’Эгильон остался один, он успел хорошенько обо всем подумать.
А король в самом деле был уже близко. Его пажи уже распахнули двери приемной, а Замор бросился к монарху, выпрашивая конфет с трогательной фамильярностью, что, правда, в минуты мрачного расположения духа его величества стоила негритенку щелчков по носу или трепки за уши, очень неприятной для него.
Король уселся в китайском кабинете, и д’Эгильон смог убедиться в том, что г-жа Дюбарри не упустила ни единого слова из его разговора с дядюшкой; теперь сам д’Эгильон все слышал и таким образом оказался свидетелем встречи короля с графиней.
Его величество казался очень утомленным, подобно человеку, поднявшему непосильную тяжесть. Атлас, верно, поддерживая на плечах небо целых двенадцать часов, не испытывал такого изнеможения после своих трудов.
Любовница поблагодарила, похвалила, приласкала Людовика XV; она расспросила его об откликах на ссылку г-на де Шуазёля, и это ее развлекло.
Графиня Дюбарри решила рискнуть. Настало подходящее время для того, чтобы заняться политикой; кстати, она чувствовала в себе довольно отваги, чтобы сотрясти одну из четырех частей света.
— Сир, вы разрушили — это хорошо, — заговорила она, — вы сломали — это великолепно; но ведь теперь надо заново строить.
— О! Уже все свершилось, — небрежно отвечал король.
— Вы составили кабинет министров?
— Да.
— Вот так сразу, не успев перевести дух?
— Право, меня окружают тупицы. Вы рассуждаете как женщина. Вы же сами мне недавно говорили: прежде чем выгнать старого повара, вы присмотрели нового; не так ли?
— Повторите еще раз: вы уже сформировали кабинет?
Король приподнялся с огромной софы, где он полулежал, в качестве подушки пользуясь главным образом плечиком красавицы-графини.
— Судя по тому, как вы взволнованы, Жаннетта, — обратился он к ней, — можно подумать, что вы знаете мой кабинет министров настолько, чтобы его осудить, и можете предложить мне другой.
— Вы недалеки от истины, сир, — отвечала она.
— В самом деле?.. У вас есть кабинет?
— Да ведь у вас же он есть! — возразила она.
— Я — другое дело, графиня. Это моя обязанность. Ну, теперь посмотрим, кто же ваши кандидаты?
— Сначала назовите своих.
— С удовольствием — чтобы подать вам пример.
— Начнем с морского министерства, где распоряжался милейший господин де Прален.
— Опять вы за свое, графиня. Нет, это будет милейший человек, который никогда не видел моря.
— Полноте!
— Клянусь честью! Великолепно придумано! Я буду любим народом, и мне будут поклоняться на самых далеких морях — вернее, моему изображению на монетах.
— Кого же вы предлагаете, сир? Ну кого?
— Держу пари на тысячу против одного, вы ни за что не угадаете.
— Чтобы я угадала имя человека, способного сделать вас популярным? Признаться, нет…
— Человек из парламента, дорогая… Первый президент парламента в Безансоне.
— Господин де Буан?
— Он самый… Ах, черт возьми, как хорошо вы осведомлены!.. И вы знакомы с такими людьми?
— Приходится: вы мне рассказываете целыми днями о парламенте. Однако этот господин не знает даже, что такое весло.
— Тем лучше. Господин де Прален очень хорошо знал свое ведомство и очень дорого мне обходился со своим строительством кораблей.
— Ну, а финансы, сир?
— Финансы — совсем другое дело, для них я подобрал сведущего человека.
— Финансиста?
— Нет… военного. Финансисты и так слишком долго обгладывают меня.
— Господи помилуй, кто же тогда будет в военном министерстве?
— Успокойтесь. Туда я поставлю финансиста Террэ. Он знаток по части счетов и найдет ошибки во всех бумагах господина де Шуазёля. Признаюсь вам, я нарочно, чтобы польстить философам, сначала решил поставить во главе военного министерства человека безупречного, чистоплотного, как они говорят.
— Ну-ну, кто же это? Вольтер?
— Почти угадали, шевалье де Мюи… Это настоящий Катон.
— О Боже! Я в ужасе!
— Дело уже было сделано… Я вызвал этого человека, его назначение подписано, он меня поблагодарил, и тут мой злой или добрый гений — судите сами, графиня, — подсказал мне пригласить его сегодня вечером в Люсьенн, чтобы побеседовать за ужином.
— Фи! Какой ужас!
— Да, графиня, именно так мне и ответил де Мюи.
— Он вам так сказал?
— В других выражениях, графиня. В общем, он мне сказал, что его самое горячее желание — служить королю, однако совершенно невозможно служить графине Дюбарри.
— До чего хорош этот ваш философ!
— Вы понимаете, графиня, я протянул руку… чтобы отобрать приказ о назначении; с невозмутимой улыбкой я разорвал его на мелкие клочки, и шевалье удалился. Людовик Четырнадцатый сгноил бы этого мерзавца в одной из отвратительных ям Бастилии. А меня, Людовика Пятнадцатого, парламент держит в повиновении, вместо того чтобы я сам заставлял его трепетать. Вот так!
— Все равно, сир, вы просто совершенство, — проговорила графиня, осыпая своего августейшего любовника поцелуями.
— Далеко не все с вами согласятся. Террэ просто осыпают проклятиями.
— А кого не осыпают?.. Кто у нас в министерстве иностранных дел?
— Славный Бертен, вы его знаете?
— Нет.
— Ну, значит, не знаете.
— Мне представляется, что среди всех, кого вы назвали, нет ни одного хорошего министра.
— Пусть так. Кого же предлагаете вы?
— Я назову одного.
— Вы не хотите говорить. Боитесь?
— Маршала.
— Какого маршала? — поморщившись, спросил король.
— Герцога де Ришелье.
— Старика? Эту мокрую курицу?
— Как же так? Завоеватель Маона — и вдруг мокрая курица!
— Старый развратник…
— Сир, это же ваш напарник.
— Распутник, не пропускающий ни одной юбки.
— Ну что вы! С некоторых пор он за женщинами больше не бегает.
— Не говорите о Ришелье никогда, он мне противен до последней степени; этот завоеватель Маона водил меня по всем парижским притонам… Про нас слагали куплеты. Нет, только не Ришелье! Одно его имя выводит меня из себя!
— Вы что же, ненавидите их?
— Кого?
— Семейство Ришелье.
— Они мне омерзительны.
— Все?
— Все. Один герцог и пэр господин Фронзак чего стоит! Его уже раз десять следовало бы колесовать.
— С удовольствием вам отдаю его. Но ведь есть и еще кое-кто из семейства Ришелье.
— Да, д’Эгильон.
— И что же?
Можно себе представить, как при этих словах племянник насторожился в будуаре.
— Мне следовало бы ненавидеть его больше других, потому что из-за него на меня набрасываются все крикуны, которые только есть во Франции. Но я не могу избавиться от слабости, которую я к нему питаю: он смел — вот за что я его люблю.
— Он умен! — воскликнула графиня.
— Да, это отважный человек, страстно защищающий королевские прерогативы. Настоящий пэр!
— Да, да, вы тысячу раз правы! Сделайте что-нибудь для него.
Скрестив руки на груди, король посмотрел на графиню Дюбарри.
— Как вы можете, графиня, предлагать мне герцога именно в то время, когда вся Франция требует от меня изгнать его и лишить герцогского достоинства.
Графиня Дюбарри тоже скрестила руки.
— Вы только что назвали Ришелье мокрой курицей, — промолвила она, — так вот: это прозвище прекрасно подходит вам.
— Графиня…
— Вы прекрасно выглядели, когда выслали господина де Шуазёля.
— Да, это было нелегко.
— Вы это сделали — прекрасно! А теперь опасайтесь последствий.
— Я?
— Разумеется! Что означает изгнание герцога?
— Я дал пинка парламенту.
— Почему же вы не хотите ударить дважды? Какого черта! Сделали один шаг — делайте и другой! Парламент хотел оставить Шуазёля — вышлите Шуазёля! Он хочет выслать д’Эгильона — оставьте д’Эгильона!
— Я и не собираюсь его высылать.
— А вы не просто оставьте его, а обласкайте, да так, чтобы это было заметно.
— Вы хотите, чтобы я доверил министерство этому скандалисту?
— Я хочу, чтобы вы вознаградили того, кто защищал вас в ущерб своему достоинству и своему состоянию.
— Скажите лучше: своей жизни, потому что его непременно побьют в ближайшие дни камнями за компанию с вашим другом Мопу.
— Вот бы порадовались ваши защитники, если бы слышали вас сейчас!
— Да они мне платят тем же, графиня.
— Вы несправедливы: факты говорят за себя.
— Вот как? Почему же вы просите за д’Эгильона с такой страстью?
— Страстью? Не знаю. Я видела его сегодня и с ним говорила впервые.
— Ну, это другое дело. Значит, это ваше убеждение, а я готов уважать любые убеждения, потому что у меня их не было никогда.
— Дайте тогда что-нибудь Ришелье ради д’Эгильона, раз не желаете ничего давать д’Эгильону.
— Ришелье? Нет, нет и нет, никогда и ничего!
— Тогда дайте господину д’Эгильону, раз ничего не даете Ришелье.
— Что? Доверить ему портфель министра? Теперь это невозможно.
— Понимаю… Но ведь можно позднее… Поверьте, что он изворотлив, это человек действия. В лице Террэ, д’Эгильона и Мопу у вас будет трехглавый Цербер; подумайте также о том, что кабинет министров, предложенный вами, просто смехотворен и долго не продержится.
— Ошибаетесь, графиня, месяца три он выстоит.
— Через три месяца я вам припомню ваше обещание.
— Ах, графиня!
— Так и условимся. А теперь подумаем о сегодняшнем дне.
— Да у меня ничего нет.
— У вас есть шеволежеры. Господин д’Эгильон — офицер, в полном смысле слова военный. Дайте ему шеволежеров.
— Хорошо, пусть берет.
— Благодарю! — в радостном порыве воскликнула графиня. — Благодарю вас!
И господин д’Эгильон услышал, как она совершенно плебейски чмокнула Людовика в щеку.
— А теперь угостите меня ужином, графиня.
— Не могу, — отвечала она, — здесь ничего не приготовлено; вы меня совсем уморили своими разговорами о политике… Все мои слуги произносят речи, устраивают фейерверки, на кухне некому работать.
— В таком случае поедемте в Марли, я забираю вас с собой.
— Это невозможно: у меня голова раскалывается.
— Что, мигрень?
— Ужасная!
— Тогда вам следует прилечь, графиня.
— Так я и сделаю, сир.
— Ну, прощайте!
— До свидания!
— Я похож на господина де Шуазёля: меня высылают.
— Но зато провожают вас с подобающими почестями и ласками, — отвечала лукавая женщина, нежно подталкивая короля к дверям и выставляя его. Людовик начал спускаться по лестнице, громко смеясь и оборачиваясь на каждой ступеньке.
Графиня держала в руке подсвечник, освещая ему путь с высоты перистиля.
— Знаете что, графиня… — заговорил король, возвращаясь на одну ступеньку вверх.
— Что, сир?
— Лишь бы бедный маршал из-за этого не умер.
— Из-за чего?
— Из-за того, что ему так и не достанется портфель.
— Какой вы злюка! — отвечала графиня, провожая короля последним взрывом хохота.
Его величество удалился в прекрасном расположении духа, оттого что сыграл шутку с герцогом, которого он в самом деле терпеть не мог.
Когда графиня Дюбарри вернулась в будуар, она увидела, что д’Эгильон стоит на коленях у двери, молитвенно сложив руки и устремив на нее страстный взгляд.
Она покраснела.
— Я провалилась, — проговорила она, — наш бедный маршал…
— Я все знаю, — отвечал он, — отсюда отлично слышно… Благодарю вас, сударыня, благодарю!
— Мне кажется, я была обязана сделать это для вас, — нежно улыбаясь, заметила она. — Встаньте, герцог, не то я решу, что вы не только умны, но и памятливы.
— Возможно, вы правы, сударыня. Как вам сказал дядюшка, я ваш покорный слуга.
— А также и короля. Завтра вам следует предстать перед его величеством. Встаньте, прошу вас!
Она протянула ему руку, он благоговейно припал к ней губами.
Вероятно, графиню охватило сильное волнение, так как она не прибавила больше ни слова.
Господин д’Эгильон тоже молчал — он был смущен не меньше графини. Наконец г-жа Дюбарри подняла голову.
— Бедный маршал! — повторила она. — Надо дать ему знать о поражении.
Господин д’Эгильон воспринял ее слова как желание его выпроводить, и поклонился.
— Сударыня, — проговорил он, — я готов к нему съездить.
— Что вы, герцог! Всякую дурную новость следует сообщать как можно позже. Чем ехать к маршалу, лучше оставайтесь у меня отужинать.
На герцога пахнуло молодостью, в сердце его вновь вспыхнула любовь, в жилах заиграла кровь.
— Вы не женщина, — молвил он, — вы…
— …Ангел, не так ли? — прошептали ему на ухо горячие губы графини, которая вплотную приблизилась к герцогу, чтобы сказать это, а затем увлекла за собой к столу.
В этот вечер г-н д’Эгильон чувствовал себя, должно быть, вполне счастливым: он отобрал министерский портфель у дядюшки и съел за ужином долю самого короля.
LXXXIX. В ПРИЕМНОЙ ГЕРЦОГА ДЕ РИШЕЛЬЕ.
Как у всех придворных, у г-на де Ришелье был один особняк в Версале, другой — в Париже, дом в Марли, еще один — в Люсьенне — словом, был угол везде, где мог жить или останавливаться король.
Еще Людовик XIV, увеличив число королевских резиденций, принуждал всех знатных особ, в чьи привилегии входило присутствие при больших и малых выходах короля, к огромным тратам: придворные должны были перенимать образ жизни его двора и следовать его капризам.
Итак, во время высылки г-на де Шуазёля и г-на де Пралена герцог де Ришелье проживал в своем версальском особняке; он приказал отвезти себя туда, возвращаясь накануне из Люсьенна, после того как представил своего племянника г-же Дюбарри.
Ришелье видели вместе с графиней в лесу Марли; его видели в Версале после того, как министр впал в немилость; было известно о его тайной и продолжительной аудиенции в Люсьенне. Этого, а также болтливости Жана Дюбарри оказалось довольно для того, чтобы весь двор счел необходимым засвидетельствовать свое почтение г-ну де Ришелье.
Старый маршал тоже собирался насладиться восторженными похвалами, лестью и ласками, которые каждый заинтересованный безрассудно рассыпал перед идолом дня.
Господин де Ришелье не ожидал, разумеется, удара, что готовила ему судьба. Однако он поднялся утром описываемого нами дня с твердым намерением заткнуть нос, чтобы не вдыхать аромата от воскурений, совсем как Улисс, заткнувший уши воском, чтобы не слышать пения сирен.
Окончательное решение должно было стать ему известно только на следующий день: король сам собирался огласить назначение нового кабинета министров.
Велико же было удивление маршала, когда он проснулся — вернее, был разбужен оглушительным стуком колес — и узнал от камердинера, что весь двор вокруг особняка запружен каретами, так же как приемные и гостиные — их владельцами.
— Хо-хо! — воскликнул он. — Кажется, из-за меня много шуму.
— Это с самого утра, господин маршал, — проговорил слуга, видя, с какой поспешностью герцог пытается снять ночной колпак.
— Отныне для меня не существует слова «рано» или «поздно», запомните это! — возразил он.
— Да, монсеньер.
— Что сказали посетителям?
— Что монсеньер еще не встал.
— И все?
— Все.
— Как глупо! Надо было прибавить, что я засиделся накануне допоздна или… Где Рафте?
— Господин Рафте спит, — отвечал камердинер.
— Как спит? Пусть его разбудят, черт побери!
— Ну-ну! — воскликнул бодрый, улыбающийся старик, появляясь на пороге. — Вот и Рафте! Зачем он понадобился?
При этих словах всю высокомерность герцога как рукой сняло.
— A-а, я же говорил, что ты не спишь!
— Ну а если бы я и спал, что в этом было бы удивительного? Ведь только что рассвело.
— Дорогой Рафте, ты же видишь, что я-то не сплю!
— Вы другое дело, вы министр, вы… Как же тут уснуть?
— Тебе, кажется, захотелось поворчать, — заметил маршал, недовольно скривившись перед зеркалом. — Ты что, недоволен?
— Я? Чему же тут радоваться? Вы переутомитесь и заболеете. Государством придется управлять мне, а в этом нет ничего занятного, монсеньер.
— Как ты постарел, Рафте!
— Я ровно на четыре года моложе вас, ваша светлость. Да, я стар.
Маршал нетерпеливо топнул ногой.
— Ты прошел через приемную? — спросил он.
— Да.
— Кто там?
— Весь свет.
— О чем говорят?
— Рассказывают друг другу о том, что они собираются у вас попросить.
— Это естественно. А ты слышал, что говорят о моем назначении?
— Мне бы не хотелось вам этого говорить.
— Как! Уже осуждают?
— Да, даже те, кому вы нужны. Как же это воспримут те, кто может понадобиться вам?
— Ну знаешь ли, Рафте! — воскликнул старый маршал, неестественно рассмеявшись. — Они скажут, что ты мне льстишь…
— Послушайте, монсеньер! — обратился к нему Рафте. — За каким дьяволом вы впряглись в тележку, которая называется министерством? Вам что, надоело быть счастливым и жить спокойно?
— Дорогой мой, я в жизни попробовал все, кроме этого.
— Тысяча чертей! Вы никогда не пробовали мышьяка. Отчего бы вам не подмешать его себе в шоколад из любопытства?
— Ты просто лентяй, Рафте. Ты понимаешь, что у тебя, как у секретаря, прибавится работы, и уже готов увильнуть… Кстати, ты сам об этом уже сказал.
Маршал одевался тщательно.
— Подай мундир и воинские награды, — приказал он слуге.
— Можно подумать, что мы собираемся воевать? — проговорил Рафте.
— Да, черт возьми, похоже на то.
— Вот как? Однако я не видел подписанного королем назначения, — продолжал Рафте. — Странно!
— Назначение сейчас доставят, вне всякого сомнения.
— Значит, «вне всякого сомнения» теперь официальный термин.
— С годами ты становишься все несноснее, Рафте! Ты формалист и пурист. Если бы я это знал, то не стал бы поручать тебе готовить мою речь при вступлении в Академию — именно она сделала тебя педантом.
— Послушайте, монсеньер: раз уж мы теперь правительство, будем же последовательны… Ведь это нелепо…
— Что нелепо?
— Граф де ла Водрёй, которого я только что встретил на улице, сообщил мне, что насчет министерства еще ничего не известно.
Ришелье усмехнулся.
— Господин де ла Водрёй прав, — проговорил он. — Так ты, значит, уже выходил из дому?
— Еще бы, черт подери! Это было необходимо. Я проснулся от дикого грохота карет, приказал подавать одеваться, надел свои боевые ордена и прошелся по городу.
— Ага! Я представляю Рафте повод для развлечений?
— Что вы, монсеньер, Боже сохрани! Дело в том, что…
— В чем же?
— Во время прогулки я кое-кого встретил.
— Кого?
— Секретаря аббата Террэ.
— И что же?
— Он мне сказал, что военным министром назначен его патрон.
— Ого! — воскликнул в ответ Ришелье с неизменной улыбкой.
— Что вы из этого заключили, монсеньер?
— Только то, что, раз господин Террэ будет военным министром, значит, я им не буду. А если он им не будет, то, возможно, этот портфель достанется мне.
Рафте сделал все, чтобы совесть его была чиста. Это был человек отважный, неутомимый, честолюбивый, такой же умный, как его хозяин, но гораздо более дальновидный, ибо он был простого происхождения и находился в зависимости от маршала. Благодаря этим двум уязвимым местам в его броне он за сорок лет отточил свою хитрость, развил силу воли, натренировал ум. Видя, что патрон уверен в успехе, Рафте решил, что ему тоже нечего бояться.
— Поторопитесь, монсеньер, — сказал он, — не заставляйте себя слишком долго ждать, это было бы для вас дурным предзнаменованием.
— Я готов, однако мне бы все-таки хотелось знать, кто там.
— Вот список.
Он подал длинный список — Ришелье с удовлетворением прочел имена первых людей из знати, судейского сословия и мира финансов.
— Уж не становлюсь ли я знаменитостью? А, Рафте?
— Мы живем во времена чудес, — отвечал тот.
— Смотрите: Таверне! — удивился маршал, продолжая просматривать список. — Он-то зачем сюда явился?
— Не знаю, господин маршал. Ну, вам пора!
Секретарь почти силой вынудил хозяина выйти в большую гостиную.
Ришелье должен был быть доволен: оказанный ему прием мог бы удовлетворить принца крови.
Однако утонченная вежливость, коварство и ловкость придворной знати той эпохи и того общества лишь утверждали Ришелье в жестоком самообольщении.
Из приличия и из уважения все собравшиеся остерегались произносить в присутствии Ришелье слово «министерство». Самые ловкие осмелились робко поздравить его, другие знали, что надо только сделать легкий намек и Ришелье почти ничего не ответит.
Этот визит на восходе солнца был для всех простым жестом, чем-то вроде приветственного поклона.
В те времена едва уловимые полутона нередко бывали понятны всем.
Некоторые придворные осмелились в разговоре выразить пожелание, просьбу или надежду.
Один хотел, как он выражался, «видеть свое губернаторство» поближе к Версалю. Ему было приятно побеседовать об этом с человеком, пользующимся столь неограниченным влиянием, как г-н де Ришелье.
Другой утверждал, что уже трижды был обойден вниманием де Шуазёля и не продвигался по службе. Он рассчитывал на благосклонность г-на де Ришелье, который должен был освежить память короля. И вот теперь ничто не помешает проявлению доброй воли его величества.
Таким образом, множество просьб, более или менее корыстных, но искусно завуалированных, было высказано на ушко обласканному маршалу.
Мало-помалу толпа растаяла. Все хотели, как они говорили, дать господину маршалу возможность «заняться его важными делами».
Только один человек остался в гостиной.
Он не стал подходить вместе с другими, ничего не просил, даже не представился.
Когда гостиная опустела, он с улыбкой приблизился к герцогу.
— A-а, господин де Таверне! — узнал его маршал. — Очень рад, очень рад!
— Я тебя ждал, герцог, чтобы поздравить, искренне поздравить.
— Неужели? С чем же? — спросил Ришелье, которого сдержанность посетителей словно заставила быть скрытным и хранить таинственный вид.
— Я тебя поздравляю с новым званием, герцог.
— Тише! Тише! — прошептал маршал. — Не будем об этом говорить… Еще ничего не известно, это только слухи.
— Однако, дорогой мой маршал, не один я так думаю, если в твоих приемных полным-полно народу.
— Я, право, сам не знаю почему.
— Зато я знаю.
— Что же ты знаешь?
— Могу сказать это в двух словах.
— В каких же?
— Вчера в Трианоне я имел честь выразить свою преданность. Его величество расспрашивал меня о моих детях, а в конце разговора сказал: «Кажется, вы знакомы с господином де Ришелье? Поздравьте его».
— Да? Его величество вам так сказал? — переспросил Ришелье, не в силах скрыть гордости, будто эти слова были королевской грамотой, которую с замиранием сердца ждал Рафте.
— Вот почему я обо всем догадался, — продолжал Таверне, — и это было нетрудно при виде того, что к тебе торопится весь Версаль; я же поспешил, чтобы, выполняя волю короля, поздравить тебя и, подчиняясь своему чувству, напомнить о нашей старой дружбе.
Герцог почувствовал раздражение: это был его врожденный недостаток, от которого не застрахованы даже лучшие умы. Герцог увидел в бароне де Таверне лишь одного из просителей низшего ранга, бедных людей, обойденных милостями, кого не стоило даже продвигать и с кем бесполезно было водить знакомство; на них обыкновенно досадуют за то, что они напомнили о себе лет через двадцать лишь для того, чтобы погреться в лучах чужого процветания.
— Я понимаю, что́ это значит, — проговорил маршал довольно жестко, — я должен исполнить какую-нибудь просьбу.
— Ну что же, ты сам напросился, герцог.
— Ах! — вздохнул Ришелье, садясь, или, вернее, опускаясь, на софу.
— Как я тебе говорил, у меня двое детей, — продолжал Таверне, подыскивая слова и внимательно следя за маршалом. Хитрый и изворотливый, он заметил холодность своего великого друга и постарался действовать решительно. — У меня есть дочь, я ее горячо люблю, она образец добродетели и красоты. Дочь пристроена у ее высочества дофины, пожелавшей проявить к ней особую милость. О ней, о моей красавице Андре, я и не говорю, герцог. Ей уготовано прекрасное будущее, ее ожидает счастье. Ты видел мою дочь? Неужели я ее тебе еще не представил? И ты ничего о ней не слышал?
— Уф-ф… Не знаю, право, — небрежно бросил Ришелье. — Может быть, и слышал…
— Ну, это не важно, — продолжал Таверне, — моя дочь устроена. Я, как видишь, тоже ни в чем не испытываю нужды: король назначил мне пенсион, на него вполне можно прожить. Признаться, я не отказался бы при случае получить кое-что, дабы снова отстроить Мезон-Руж и поселиться там на старости лет; впрочем, с твоим влиянием, с влиянием моей дочери…
— Эге! — пробормотал Ришелье; до сих пор он пропускал слова Таверне мимо ушей, наслаждаясь своим величием, и лишь слова «влияние моей дочери» заставили его встрепенуться. — Эге! Твоя дочь… Так это та самая юная красавица, внушающая опасение добрейшей графине? Это тот самый скорпион, что пригрелся под крылышком дофины, чтобы однажды укусить кое-кого из Люсьенна?.. Ну, я не буду неблагодарным другом. А что касается признательности, то дорогая графиня, сделавшая меня министром, увидит, умею ли я быть признательным.
Затем он громко прибавил, надменно обратившись к барону де Таверне:
— Продолжайте!
— Клянусь честью, я сказал почти все, — проговорил тот, посмеиваясь про себя над тщеславным маршалом и желая одного: добиться своего. — Все мои мысли теперь только о моем Филиппе: он носит славное имя, но ему не суждено придать этому имени блеск, если никто ему не поможет. Филипп — храбрый, рассудительный юноша, может быть чересчур рассудительный. Но это — следствие его стесненного положения: как ты знаешь, если водить лошадь на коротком поводке, она ходит с опущенной головой.
«Мне-то что за дело?» — думал маршал, не скрывая скуки и нетерпения.
— Мне нужен человек, — безжалостно продолжал Таверне, — занимающий столь же высокое, как ты, положение, который бы помог Филиппу получить роту… Прибыв в Страсбур, ее высочество дофина дала ему чин капитана. Это хорошо, но ему не хватает всего каких-нибудь ста тысяч ливров, чтобы получить роту в каком-нибудь привилегированном кавалерийском полку… Помогите мне в этом, мой знаменитый друг!
— Ваш сын — тот самый молодой человек, который оказал услугу госпоже дофине? — спросил Ришелье.
— Огромную! — вскричал Таверне. — Это он отбил последнюю упряжку ее королевского высочества, которую собирался захватить Дюбарри.
«Ой-ой! — воскликнул про себя Ришелье. — Да, это он… Самый страшный враг графини… Как удачно подвернулся Таверне! Вместо чина получит ссылку…».
— Вы ничего мне не ответите, герцог? — спросил Таверне, задетый за живое неподатливостью продолжавшего молчать маршала.
— Это невозможно, дорогой господин Таверне, — заключил маршал, поднимаясь и тем давая понять, что аудиенция окончена.
— Невозможно? Такая малость невозможна? И это говорит мне старый друг?
— А что же тут такого?.. Разве дружба, о которой вы говорите, — достаточная причина для того, чтобы одному стремиться к несправедливости, другому — к злоупотреблению дружбой? Пока я был ничто, вы меня двадцать лет не видели, но вот я министр, и вы — тут как тут!
— Господин де Ришелье, вы несправедливы.
— Нет, мой дорогой, я не хочу, чтобы вы таскались по приемным. Значит, я и есть настоящий друг…
— Так у вас есть причина, чтобы мне отказать?
— У меня?! — вскричат Ришелье, крайне обеспокоенный подозрением, которое могло зародиться у Таверне. — У меня?! Причина?..
— Да, ведь у меня есть враги…
Герцог мог бы сказать обо всем, но тогда пришлось бы признаться барону: он угождает г-же Дюбарри из благодарности, что он стал министром по ее капризу. А уж в этом-то маршал не мог сознаться ни за что на свете. Вот почему в ответ он поспешил сказать следующее:
— Нет у вас никаких врагов, дорогой друг, а вот у меня они есть. Немедленно без всякой очередности начать раздавать звания и милости — значит подставить себя под удар и вызвать толки о том, что я действую не лучше Шуазёля. Дорогой мой! Я бы хотел оставить после себя добрую память. Я уже двадцать лет вынашиваю реформы, улучшения, и скоро они явятся взору всего мира! Фавор губителен для Франции: я буду жаловать по заслугам. Труды наших философов несут свет, который достиг и моих глаз; рассеялись потемки прошлых лет, настала счастливая пора для государства… Я готов рассмотреть вопрос о продвижении вашего сына точно так же, как я сделал бы это для первого попавшегося гражданина; я принесу в жертву свои пристрастия, и эта жертва, несомненно болезненная, будет принесена во имя трехсот тысяч других… Если ваш сын, господин Филипп де Таверне, покажется мне достойным этой милости, он ее получит, и не потому, что его отец — мой друг, не потому, что он носит имя своего отца, а потому, что заслужит этого сам. Вот таков мой план действий.
— Другими словами, такова ваша философия, — прошипел старый барон, который от злости кусал ногти и досадовал на то, что этот разговор, полный мелких гнусностей, стоил ему такого унижения.
— Пусть так. Философия — подходящее слово.
— Которое освобождает от многого, не так ли, господин маршал?
— Вы плохой придворный, — холодно улыбаясь, заметил Ришелье.
— Люди моего звания могут быть придворными только короля!
— Мой секретарь, господин Рафте, принимает в день по тысяче человек вашего звания у меня в приемной, — сказал Ришелье, — они приезжают из черт знает какой провинциальной глуши, где привыкают к грубости по отношению к своим так называемым друзьям, да еще разглагольствуют о дружбе.
— О, я прекрасно понимаю, что потомок Мезон-Ружей, чье дворянство восходит ко временам крестовых походов, иначе понимает дружбу, нежели Виньеро, ведущий свой род от деревенского скрипача!
У маршала было больше здравого смысла, чем у Таверне.
Он мог бы приказать выбросить его из окна, но только пожал плечами и сказал:
— Вы слишком отстали, господин крестоносец: вы только и знаете, что о злопыхательской памятной записке парламентов в тысяча семьсот двадцатом году, но вы не читали ответной записки герцогов и пэров. Пройдите в мою библиотеку, уважаемый: Рафте даст вам ее почитать.
В то время как он с этими ловко найденными словами выпроваживал своего противника, дверь распахнулась и в комнату с шумом вошел какой-то господин.
— Где дорогой герцог? — спросил он.
Этот сияющий господин с вытаращенными от восторга глазами и разведенными в благожелательном порыве руками был не кто иной, как Жан Дюбарри.
При виде нового лица Таверне от удивления и досады отступил.
Жан заметил его движение, узнал барона и повернулся к нему спиной.
— Мне кажется, теперь я понимаю и потому удаляюсь. Я оставляю господина министра в прекрасном обществе, — спокойно проговорил барон и с величественным видом вышел.
XC. РАЗОЧАРОВАНИЕ.
Жан был так взбешен выходкой барона, что сделал было два шага вслед за ним, потом пожал плечами и возвратился к маршалу.
— И вы таких у себя принимаете?
— Что вы, дорогой мой, вы ошибаетесь. Напротив, я таких гоню прочь.
— А вы знаете, что это за господин?
— Увы! Знаю!
— Да нет, вы, должно быть, недостаточно хорошо с ним знакомы.
— Это некий Таверне.
— Этот господин хочет подложить свою дочь в постель к королю…
— Да что вы!..
— Этот господин хочет нас выжить и готов ради этого на все… Да! Но Жан здесь, Жан все видит.
— Вы полагаете, что барон собирается…
— Это не сразу заметишь, не правда ли? Партия дофина, дорогой мой… У них есть свой убийца…
— Ба!
— У них есть молодой человек, выдрессированный для того, чтобы, как пес, хватать людей за икры, тот самый бретёр, что нанес шпагой удар в плечо Жану… Бедный Жан!
— Вам? Так это ваш личный враг, дорогой виконт? — спросил Ришелье, изобразив удивление.
— Да, это мой противник в известной вам истории с почтовыми лошадьми.
— Любопытно! Я этого не знал, но отказал ему в просьбе. Вот только я не просто выпроводил бы его, а выгнал, если бы мог предполагать… Впрочем, будьте покойны, виконт: теперь этот бретёр у меня в руках, и скоро у него будет возможность в этом убедиться.
— Да, вы можете отбить ему охоту нападать на большой дороге… О, я, кажется, еще не поздравил вас…
— Вероятно, виконт, это уже решено.
— Да, это вопрос решенный. Позвольте вас обнять!
— Благодарю вас от всего сердца.
— Клянусь честью, это было непросто, но все это — пустяки, когда победа у вас в руках. Вы довольны, не правда ли?
— Если позволите, я буду с вами откровенен. Да, доволен, так как полагаю, что смогу быть полезен.
— Можете в этом не сомневаться. Это мощный ход, кое-кто еще взвоет.
— Разве меня не любят в обществе?
— Вас?.. У вас есть и сторонники и противники, А вот его просто ненавидят.
— Его?.. — удивленно переспросил Ришелье. — Кого — его?..
— Понятно кого! — перебил герцога Жан. — Парламенты взбунтуются, будет повторение порки, которую задал им Людовик Четырнадцатый; ведь их высекли, герцог, высекли!
— Прошу вас мне объяснить…
— Само собой разумеется, что парламенты ненавидят того, кому они обязаны гонениями на них.
— Так вы полагаете, что…
— Я в этом совершенно уверен, как и вся Франция. Но это все равно, герцог. Вы прекрасно поступили, призвав его в разгар событий.
— Кого?.. О ком вы говорите, виконт? Я как на иголках, я не понимаю ни слова из того, о чем вы говорите.
— Я говорю о господине д’Эгильоне, вашем племяннике.
— А причем здесь он?
— Как при чем? Вы хорошо сделали, что призвали его.
— A-а, ну да! Ну да! Вы хотите сказать, что он мне поможет?
— Он поможет всем нам… Вам известно, что он в прекрасных отношениях с Жанеттой?
— Неужели?
— Да, в превосходных. Они уже побеседовали и сумели договориться, могу поклясться!
— Вам это точно известно?
— Да, об этом нетрудно догадаться. Жанетта — большая любительница поспать.
— Ха!
— И она не встает раньше девяти, десяти или одиннадцати часов.
— Ну так что же?..
— Так вот сегодня, самое позднее в шесть часов утра, я увидал, как из Люсьенна уносили портшез д’Эгильона.
— В шесть часов? — с улыбкой воскликнул Ришелье.
— Да.
— Сегодня утром?
— Сегодня утром. Судите сами: раз она поднялась так рано, чтобы дать аудиенцию вашему дорогому племяннику, значит, она от него без ума.
— Да, да, — согласился Ришелье, потирая руки, — в шесть часов! Браво, д’Эгильон!
— Должно быть, аудиенция началась часов в пять… Ночью! Это просто невероятно!..
— Невероятно!.. — повторил маршал. — Да, это в самом деле невероятно, дорогой мой Жан.
— И вот теперь вы будете втроем, как Орест, Пилад и еще один Пилад.
В ту минуту, когда маршал удовлетворенно потирал руки, в гостиную вошел д’Эгильон.
Племянник поклонился дядюшке с выражением соболезнования; этого оказалось довольно, чтобы Ришелье понял если не все, то почти все.
Он побледнел так, словно получил смертельную рану: он вспомнил, что при дворе не бывает ни друзей, ни родственников, каждый печется только о себе.
«Какой же я был дурак!» — подумал он.
— Ну что, д’Эгильон? — произнес он, подавив тяжелый вздох.
— Ну что, господин маршал?
— Это тяжелый удар для парламентов, — повторил Ришелье слова Жана.
Д’Эгильон покраснел.
— Вы уже знаете? — спросил он.
— Господин виконт обо всем мне рассказал, — отвечал Ришелье, — даже о вашем визите в Люсьенн сегодня на рассвете. Ваше назначение — большой успех для моей семьи.
— Поверьте, господин маршал, я очень сожалею, что так вышло.
— Что за чушь он несет? — с удивлением сказал Жан, скрестив на груди руки.
— Мы друг друга понимаем, — перебил его Ришелье, — мы прекрасно друг друга понимаем.
— Ну и отлично. А вот я совсем вас не понимаю… Какие-то сожаления… А, ну да!.. Это потому, что он не сразу будет назначен министром. Да, да… очень хорошо.
— Так его назначение отсрочено? — спросил маршал, почувствовав, как в его сердце зашевелилась надежда — вечный спутник честолюбца и влюбленного.
— Да, отсрочено, господин маршал.
— А пока ему и так неплохо заплатили… — вскричал Жан. — Наилучшее командование в Версале!
— Да? — уронил Ришелье, снова почувствовав боль. — Он получил командование?
— Господин Дюбарри, возможно, несколько преувеличивает, — отвечал герцог д’Эгильон.
— Но, в конце концов, командование чем?
— Королевскими шеволежерами.
Ришелье почувствовал, как бледность вновь залила его морщинистые щеки.
— О да! — проговорил он с непередаваемой улыбкой. — Это и правда безделица для такого очаровательного кавалера. Что вы хотите, герцог! Самая красивая девушка на свете может дать только то, что у нее есть, даже если она любовница короля.
Наступил черед д’Эгильона побледнеть.
Жан в это время рассматривал прекрасные полотна кисти Мурильо.
Ришелье похлопал племянника по плечу.
— Хорошо еще, что вам пообещали продвижение в будущем, — сказал он. — Примите мои поздравления, герцог… Самые искренние поздравления… Ваша ловкость, ваше искусство в переговорах не уступают вашей удачливости… Прощайте, у меня дела. Прошу не обойти меня своими милостями, дорогой министр.
Д’Эгильон произнес в ответ:
— Вы — это я, господин маршал, а я — это вы.
Поклонившись дядюшке, он вышел, не теряя врожденного чувства собственного достоинства и тем самым выйдя из одного из самых трудных положений, когда-либо выпадавших ему за всю его жизнь.
— Вот что хорошо, восхитительно в д’Эгильоне, так это его наивность, — поспешил заговорить Ришелье после его ухода; Жан не знал, как отнестись к обмену любезностями между племянником и дядюшкой. — Он умный и добрый, — продолжал маршал, — он знает двор и честен, как девушка.
— И кроме того, он вас любит.
— Как агнец.
— Да, — согласился Жан, — скорее ваш сын — д’Эгильон, а не господин де Фронзак.
— Могу поклясться, что вы правы… Да, виконт… да.
Ришелье нервно расхаживал вокруг кресла, словно подыскивая и не находя нужных выражений.
«Ну, графиня, — бормотал он про себя, — вы мне за это еще заплатите!».
— Маршал! Мы сможем олицетворять вчетвером знаменитый античный пучок. Знаете, тот, который никто не мог переломить? — лукаво проговорил Жан.
— Вчетвером? Дорогой господин виконт, как вы это себе представляете?
— Моя сестра — это мощь, д’Эгильон — влиятельность, вы — разум, а я — наблюдательность.
— Отлично! Отлично!
— И тогда пусть попробуют одолеть мою сестру. Готов побиться об заклад с кем угодно!
— Черт побери! — выругнулся Ришелье, в котором все кипело.
— Пусть попробуют противопоставить соперниц! — вскричал Жан, упоенный своими замыслами.
— О! — воскликнул Ришелье, ударив себя по лбу.
— Что такое, дорогой маршал? Что с вами?
— Ничего. Просто считаю идею союза восхитительной.
— Правда?
— И я всемерно готов ее поддержать.
— Браво!
— Скажите, де Таверне живет в Трианоне вместе с дочерью?
— Нет, он проживает в Париже.
— Девчонка очень красива, дорогой виконт.
— Будь она так же красива, как Клеопатра или как… моя сестра, я ее больше не боюсь… раз мы заодно.
— Так, говорите, Таверне живет в Париже на улице Сент-Оноре?
— Я не говорил, что на улице Сент-Оноре, он проживает на улице Кок-Эрон. Уж не появилась ли у вас мысль, как избавиться от Таверне?
— Пожалуй, да, виконт; мне кажется, у меня возникла одна идея.
— Вы бесподобный человек. Я вас покидаю и исчезаю: мне хочется узнать, что говорят в городе.
— Прощайте, виконт… Кстати, вы мне не сказали, кто вошел в новый кабинет министров.
— Да так, перелетные пташки: Террэ, Бертен… не знаю, право, кто еще… Одним словом, разменная монета настоящего министра д’Эгильона, хотя его назначение и отложено.
«И вполне вероятно, навечно», — подумал маршал, посылая Жану одну из своих любезных улыбок, подобную прощальному поцелую.
Жан удалился. Вошел Рафте. Он все слышал и знал, как к этому отнестись; все его опасения оправдывались. Он ни слова не сказал, потому что слишком хорошо знал маршала.
Рафте не стал звать камердинера: он сам раздел Ришелье и проводил до постели. Старый маршал лег, дрожа как в лихорадке; по настоянию секретаря он принял пилюлю.
Рафте задернул шторы и вышел. Приемная уже была полна озабоченными, насторожившимися лакеями. Рафте взял за руку старшего камердинера.
— Хорошенько следи за господином маршалом, — сказал он, — ему плохо. Утром у него произошла большая неприятность: он оказал неповиновение королю…
— Оказал неповиновение королю? — в испуге переспросил камердинер.
— Да. Его величество прислал монсеньеру портфель министра; маршал узнал, что все это произошло благодаря Дюбарри, и отказался! Это превосходно, и парижане должны были бы соорудить в его честь триумфальную арку. Однако потрясение оказалось настолько сильным, что наш хозяин занемог. Так смотри же за ним!
Рафте предвидел, как быстро эти слова облетят весь город, и потому спокойно удалился к себе в кабинет.
Спустя четверть часа Версаль уже знал о благородном поступке и истинном патриотизме маршала. А тот спал глубоким сном, не подозревая о славе, которой был обязан своему секретарю.
XCI. СЕМЕЙНЫЙ УЖИН У ГОСПОДИНА ДОФИНА.
В тот же день мадемуазель де Таверне, выйдя из своей комнаты в три часа пополудни, отправилась к дофине, имевшей обыкновение слушать чтение перед обедом.
Первый чтец ее королевского высочества, аббат, не исполнял больше своих обязанностей. Он посвятил себя высокой политике после того, как проявил незаурядные способности в дипломатических интригах.
Итак, мадемуазель де Таверне, одевшись должным образом, вышла из комнаты, чтобы приступить к своим обязанностям. Как все, кто проживал в Трианоне, она испытывала трудности несколько поспешного переезда. Она еще ничего не успела устроить: не подобрала прислугу, не расставила свою скромную мебель; временно ей помогала одеваться одна из служанок герцогини де Ноай, той самой непреклонной фрейлины, которую дофина звала «госпожой Этикет».
Андре была в голубом шелковом платье с удлиненным лифом и присборенной юбкой, подчеркивавшей ее осиную талию. На платье был спереди разрез. Когда полы разреза распахивались, под ними становились видны три гофрированные складки расшитого муслина; короткие рукава также были украшены расшитыми муслиновыми фестончиками и приподняты в плечах. Они гармонировали с расшитой косынкой в стиле «пейзан», целомудренно скрывавшей грудь. Собрав на затылке свои прекрасные волосы, Андре попросту перехватила их голубой лентой в тон платью; волосы падали ей на щеки и шею, рассыпались по плечам длинными густыми завитками и украшали ее лучше перьев, эгретов и кружев, которые были тогда в моде; девушка держалась гордо и, вместе с тем, скромно; ее матовых щек никогда не касались румяна.
Уже на ходу она натягивала белые шелковые митенки на тонкие пальцы с закругленными ноготками, такие красивые, что равных им не было во всем мире. А на садовой дорожке оставались следы от ее туфелек нежно-голубого атласа на высоких каблучках.
Когда она пришла в павильон Трианона, ей сообщили, что ее высочество дофина отправилась на прогулку в сопровождении архитектора и главного садовника. С верхнего этажа доносился шум станка, на котором дофин вытачивал надежный замок для любимого сундука.
В поисках дофины Андре прошла через сад; хотя было уже начало осени, тщательно укрывавшиеся на ночь цветы тянули кверху побледневшие головки, чтобы погреться в мимолетных лучах еще более бледного солнца. Уже близились сумерки, потому что в это время года вечереет в шесть часов, и садовники накрывали стеклянными колпаками самые нежные растения на каждой грядке.
Поворачивая на аллею, которая была обсажена ровно подстриженными грабами, окаймлена бенгальскими розами и заканчивалась прелестным газоном, Андре обратила внимание на одного из садовников; увидав ее, он оставил лопату и поклонился с вежливостью и изысканностью, не свойственными простому люду.
Она вгляделась и узнала в нем Жильбера. Его руки, выполнявшие грубую работу, оставались по-прежнему достаточно белыми для того, чтобы привести в отчаяние барона де Таверне.
Андре невольно покраснела. Присутствие Жильбера показалось ей странной прихотью судьбы.
Жильбер еще раз поклонился. Андре кивнула в ответ и продолжала свой путь.
Однако она была существом слишком искренним и прямодушным, чтобы противиться желанию получить ответ на вопрос, вызвавший ее беспокойство.
Она вернулась, и Жильбер, успевший побледнеть и с ужасом следивший за тем, как она уходит, внезапно ожил и порывисто шагнул к ней навстречу.
— Вы здесь, господин Жильбер? — холодно спросила Андре.
— Да, мадемуазель.
— Какими судьбами?
— Мадемуазель! Должен же я на что-то жить, и жить честно.
— Понимаете ли вы, как вам повезло?
— Да, мадемуазель, очень хорошо понимаю, — отвечал Жильбер.
— Неужели?
— Я хочу сказать, мадемуазель, что вы совершенно правы: я и в самом деле очень счастлив.
— Кто вас сюда устроил?
— Господин де Жюсьё, мой покровитель.
— Да? — удивилась Андре. — Так вы знакомы с господином де Жюсьё?
— Он был другом моего первого покровителя и учителя, господина Руссо.
— Желаю вам удачи, господин Жильбер! — проговорила Андре, собираясь уйти.
— Вы чувствуете себя лучше, мадемуазель? — спросил Жильбер, и голос его так задрожал, что можно было догадаться: вопрос исходил из самого сердца и передавал каждое движение его души.
— Лучше? Что это значит? — холодно переспросила Андре.
— Я… Несчастный случай?..
— A-а, да, да… Благодарю вас, господин Жильбер, я чувствую себя лучше, это была сущая безделица.
— Да ведь вы едва не погибли, — в сильнейшем волнении возразил Жильбер, — опасность была слишком велика!
Андре подумала, что пора положить конец разговору с работником прямо посреди королевского парка.
— До свидания, господин Жильбер, — обронила она.
— Не желает ли мадемуазель розу? — с дрожью в голосе, весь в поту, пролепетал Жильбер.
— Сударь! Вы мне предлагаете то, что вам не принадлежит, — отрезала Андре.
Сраженный и удивленный, Жильбер ничего не ответил. Он опустил голову. Андре продолжала на него смотреть, радуясь тому, что ей удалось показать свое превосходство. Тогда Жильбер сорвал с самого красивого розового куста одну из веток и принялся обрывать цветы с хладнокровием и достоинством, которые произвели впечатление на девушку.
Андре была очень добра, в ней было сильно развито чувство справедливости, и она не могла не заметить, что безнаказанно обидела человека ниже себя только за то, что он проявил почтительность. Но, как все гордые люди, чувствующие, что они не правы, она поспешила удалиться, не прибавив ни слова, когда, быть может, извинение или слова примирения готовы были сорваться с ее губ.
Жильбер тоже не произнес ни единого слова. Он швырнул розы наземь и взялся за лопату. Однако в его характере гордость соединялась с хитростью. Он наклонился, собираясь продолжать работу, и вместе с тем хотел посмотреть на удалявшуюся Андре. Перед тем как свернуть на другую аллею, она не удержалась и обернулась. Она была женщина.
Жильбера порадовала ее слабость. Он сказал себе, что одержал еще одну победу.
«Я сильнее ее, — подумал он, — и я буду над ней властвовать. Она гордится своей красотой, своим именем, растущим состоянием, ей вскружила голову моя любовь, о которой она, возможно, догадывается, но от этого она становится еще желаннее для бедного работника, что не может без дрожи на нее взглянуть. О, эта дрожь, этот озноб недостойны мужчины! Придет день, и она заплатит за все подлости, на какие я иду ради нее! Ну, а сегодня я и так довольно потрудился, — прибавил он, — и победил неприятеля… Я должен был бы оказаться слабее, потому что ее люблю, а я в десять раз сильнее».
Он еще раз в приливе счастья повторил про себя эти слова. Откинув судорожным движением с умного лба красивые черные волосы, он с силой воткнул лопату в землю, бросился, словно олень, через заросли кипарисов и тисов, легким ветерком пронесся между растениями, прикрытыми колпаками, не задев ни одного из них, несмотря на стремительный бег, и замер на крайней точке описанной им диагонали с целью опередить Андре, шедшую по круговой дорожке.
Оттуда он в самом деле увидел, как задумчиво она идет. По виду ее можно было угадать, что она чувствует себя униженной. Она опустила прекрасные глаза, ее правая рука безжизненно висела вдоль развевавшегося платья. Спрятавшись в зарослях грабового питомника, он услышал, как она раза два вздохнула, словно отвечая своим мыслям. Андре прошла так близко от скрывавших Жильбера деревьев, что, протяни он руку, он мог бы коснуться ее. Он уже был готов сделать это, охваченный безумной лихорадкой, от которой голова его шла кругом.
Однако, нахмурив брови, он волевым движением, напоминавшим скорее ненависть, прижал судорожно сжатую руку к груди.
«Опять слабость!» — сказал он себе и еле слышно прибавил:
— До чего же она хороша!
Возможно, Жильбер еще долго любовался бы Андре, потому что аллея была длинная, а Андре шла медленно. Однако на эту аллею выходили другие дорожки, откуда могла явиться какая-нибудь досадная помеха. Судьба на этот раз была немилостива к Жильберу: досадная помеха в самом деле представилась в лице господина, вышедшего на аллею с ближайшей к Андре боковой дорожки, иными словами — почти напротив зеленой рощицы, где прятался Жильбер.
Этот не вовремя явившийся господин шагал уверенно, мерным шагом; зажав шляпу под мышкой, он высоко держал голову, а левую руку опустил на эфес шпаги. На нем был бархатный костюм, сверху — накидка, подбитая соболем. Он шел, чеканя шаг; у него были красивые ноги с высоким подъемом — свидетельство благородного происхождения.
Продолжая идти вперед, господин заметил Андре. Должно быть ее внешность привлекла его внимание: он ускорил шаг, сошел с дорожки и пошел наискосок через рощу, чтобы оказаться как можно скорее на пути у Андре.
Разглядев этого господина, Жильбер невольно вскрикнул, подобно вспугнутому в кустах дрозду.
Маневр господина удался. Он, несомненно, имел в подобных делах большой опыт. Не прошло и нескольких минут, как он оказался впереди Андре, хотя еще совсем недавно шел за ней на довольно значительном расстоянии.
Услыхав его шаги, Андре сначала отошла в сторону, давая ему дорогу, и только потом на него взглянула.
Господин тоже на нее смотрел, и не просто, а очень внимательно; он даже остановился, желая получше ее разглядеть, потом еще раз обернулся.
— Мадемуазель! — любезно заговорил он. — Куда вы так торопитесь, скажите на милость?
При звуке его голоса Андре подняла голову и шагах в тридцати позади него заметила неторопливо шагавших двух офицеров гвардии. Она обратила внимание на голубую ленту, выглядывавшую из-под собольей накидки этого господина и, испугавшись неожиданной встречи и любезного обращения, прервавшего ее мысли, заметно побледнела.

— Король! — прошептала она, низко поклонившись.
— Мадемуазель!.. — приближаясь, произнес в ответ Людовик XV. — У меня плохое зрение, и я вынужден просить вас назвать свое имя.
— Мадемуазель де Таверне, — едва слышно прошептала девушка в сильном смущении.
— A-а, да, да! Как хорошо, должно быть, погулять в Трианоне, мадемуазель! — продолжал король.
— Я иду к ее королевскому высочеству госпоже дофине, она меня ждет, — сказала Андре, приходя в еще большее волнение.
— Я вас к ней провожу, мадемуазель, — сказал Людовик XV. — Я по-соседски собирался навестить свою дочь. Позвольте предложить вам руку, раз нам по пути.
Андре почувствовала, как ее глаза заволокло пеленой, а кровь прихлынула к сердцу. В самом деле, для бедной девушки было огромной честью опереться на руку самого короля — державного повелителя. Это было нечаянной радостью, невероятной милостью, какой мог бы позавидовать любой придворный; Андре была как во сне.
Она склонилась в глубоком реверансе и с таким благоговением взглянула на короля, что он был вынужден еще раз поклониться. Обыкновенно, когда дело касалось церемониала и вежливости, Людовик XV вспоминал о Людовике XIV. Традиции хороших манер восходили еще ко временам Генриха IV.
Итак, он предложил руку Андре, она коснулась горячими пальчиками перчатки короля, и они вдвоем отправились к павильону, где, как доложили королю, он должен был найти дофину в обществе архитектора и главного садовника.
Читатель может быть совершенно уверен, что Людовик XV, не любивший пеших прогулок, выбрал на сей раз самую длинную дорогу, ведя Андре в Малый Трианон. Оба офицера, сопровождавшие на некотором расстоянии его величество, заметили ошибку короля и очень огорчились, так как были легко одеты, а становилось свежо.
Король и мадемуазель де Таверне пришли поздно и не застали дофину там, где надеялись ее найти. Мария Антуанетта незадолго перед их приходом ушла, не желая заставлять дофина, любившего ужинать между шестью и семью часами, долго ждать.
Ее королевское высочество пришла ровно в шесть. До крайности пунктуальный дофин уже стоял на пороге столовой, собираясь войти, как только появится дворецкий. Ее высочество сбросила накидку на руки одной из горничных, подошла к дофину и, весело подхватив его под руку, увлекла за собой. Стол был накрыт для двух прославленных амфитрионов.
Они сидели посредине, оставляя почетное место во главе стола свободным. Принимая во внимание то обстоятельство, что король любил появляться неожиданно, это место не занимали с некоторых пор даже тогда, когда было много гостей. На этом почетном краю стола прибор короля занимал значительное место. Сегодня же дворецкий, не рассчитывавший на появление именитого гостя, отправлял свою службу именно здесь.
За стулом дофины, на достаточном от него расстоянии, для того чтобы могли проходить лакеи, поместилась герцогиня де Ноай, которая держалась необычайно натянуто, хотя и изобразила на своем лице положенную этикетом любезность по случаю ужина.
Рядом с г-жой де Ноай находились другие дамы, которым их положение при дворе давало право или в виде особой милости разрешалось присутствовать на ужине их королевских высочеств.
Три раза в неделю герцогиня де Ноай ужинала за одним столом с их высочествами. Однако в те дни, когда она не ужинала, она ни в коем случае не упускала возможности просто присутствовать при этом. Кстати, то был способ протеста против исключения четырех дней из семи.
Напротив герцогини де Ноай, прозванной дофиной «госпожой Этикет», на таком же возвышении находился герцог де Ришелье.
Он тоже очень строго придерживался правил приличия, вот только его следование этикету оставалось невидимым для глаз, потому что было надежно спрятано под изысканной элегантностью, а иногда и под самым тонким зубоскальством.
В результате этого противостояния первого дворянина королевских покоев и первой придворной дамы ее высочества разговор, постоянно обрываемый герцогиней де Ноай, неизменно возобновлялся герцогом де Ришелье.
Маршал много путешествовал, побывал при всех королевских дворах Европы, отовсюду перенимал тон, соответствовавший его темпераменту, знал все анекдоты и потому, обладая редкостным тактом и будучи знатоком правил приличия, безошибочно определял, какие из них можно рассказать за столом юных инфантов, а какие — в тесном кругу у г-жи Дюбарри.
В этот вечер он заметил, что ее высочество ест с большим аппетитом, да и дофин ей не уступает. Он предположил, что они вряд ли будут способны поддержать беседу и ему придется заставить герцогиню де Ноай в течение часа пройти через настоящее чистилище.
Он заговорил о философии и театре: это были две темы, ненавистные почтенной герцогине.
Герцог начал рассказ об одной из последних филантропических причуд фернейского философа, как с некоторых пор называли автора «Генриады». Увидев, что герцогиня изнемогает, он переменил тему: стал во всех подробностях рассказывать, с каким трудом ему в качестве первого дворянина королевских покоев удалось заставить более или менее сносно играть актрис королевского театра.
Дофина интересовалась искусствами, особенно театром, самолично подбирала костюм Клитемнестры для мадемуазель Рокур, поэтому слушала г-на де Ришелье не просто благосклонно, но с большим удовольствием.
Бедная придворная дама, вопреки этикету, стала ерзать на своем возвышении, громко сморкалась и осуждающе качала головой, не замечая пудры, при каждом движении поднимающейся над ее головой подобно снежному облаку, окутывающему вершину Монблана при порыве ветра.
Но развлекать только Марию Антуанетту было недостаточно, надо было еще понравиться дофину. Ришелье оставил в покое театр, к которому наследник французской короны никогда не выказывал особого пристрастия, и заговорил о философии. Он рассуждал об англичанах с такою же горячностью, с какой Руссо говорил об Эдуарде Бомстоне.
А герцогиня де Ноай ненавидела англичан так же яростно, как и философов.
Свежая мысль была для нее утомительной; усталость проникала во все поры ее существа. Госпожа де Ноай чувствовала, что родилась консерватором, она готова была выть от новых мыслей, как воют собаки при виде людей в масках.
Ришелье, ведя эту игру, преследовал две цели: он мучил г-жу Этикет, что доставляло видимое удовольствие ее высочеству дофине, а также то тут, то там вставлял высоконравственные афоризмы или подсказывал математические аксиомы любителю точных наук господину дофину.
Итак, он ловко исполнял обязанности придворного и в то же время старательно искал глазами того, кого он рассчитывал встретить, но до сих пор не находил. Вдруг снизу раздался крик, отдавшийся под сводами дворца, а затем повторенный другими голосами сначала на лестнице, затем перед дверью в столовую:
— Король!
При этом магическом слове г-жу де Ноай подбросило словно стальной пружиной; Ришелье, напротив, с привычной неторопливостью поднялся. Дофин поспешно вытер губы салфеткой и встал, устремив взгляд на дверь.
Ее высочество дофина направилась к лестнице, чтобы в качестве хозяйки дома как можно раньше встретить короля и оказать ему гостеприимство.
XCII. ЛОКОН КОРОЛЕВЫ.
Король поднимался по лестнице, не выпуская руки мадемуазель де Таверне. Дойдя до площадки, он стал с ней столь галантно и так долго раскланиваться, что Ришелье еще успел заметить поклоны, восхитился их изяществом и спросил себя, какая счастливица их удостоилась.
В неведении он находился недолго. Людовик XV взял за руку ее высочество; она все видела и, разумеется, узнала Андре.
— Дочь моя, — сказал он принцессе, — я без церемоний зашел к вам поужинать. Я прошел через весь парк, по дороге встретил мадемуазель де Таверне и попросил меня проводить.
— Мадемуазель де Таверне! — прошептал Ришелье, растерявшись от неожиданности. — Клянусь честью, мне повезло!
— Я не только не стану бранить мадемуазель за опоздание, — любезно отвечала дофина, — я хочу поблагодарить ее за то, что она привела к нам ваше величество.
Красная, как восхитительные вишни в вазе, стоявшей на столе среди цветов, Андре молча поклонилась.
«Дьявольщина! Да она в самом деле хороша собой, — сказал себе Ришелье, — старый дурак де Таверне не преувеличивал».
Приняв поклон дофина, король уселся за стол. Обладая, как и его предок, завидным аппетитом, монарх оказывал честь импровизированному угощению, которое благодаря дворецкому появилось перед ним как по волшебству.
Однако во время ужина король, сидевший спиной к двери, казалось, что-то или, вернее, кого-то искал.
Мадемуазель де Таверне не пользовалась привилегиями, так как положение ее при дофине еще не было определено, поэтому в столовую она не вошла. Низко присев в реверансе в ответ на поклон короля, она прошла в комнату Марии Антуанетты: та несколько раз просила почитать ей перед сном.
Ее высочество дофина поняла, что взгляд короля ищет ее прекрасную чтицу.
— Господин де Куаньи! — обратилась она к молодому гвардейскому офицеру, стоявшему за спиной у короля. — Пригласите, пожалуйста, мадемуазель де Таверне. С позволения госпожи де Ноай мы сегодня отступим от этикета.
Господин де Куаньи вышел и минуту спустя ввел Андре, оглушенную сыпавшимися на нее милостями и трепетавшую от волнения.
— Садитесь здесь, мадемуазель, рядом с герцогиней, — сказала дофина.
Андре робко поднялась на возвышение; она была так смущена, что имела дерзость сесть на расстоянии фута от этой дамы.
Герцогиня бросила на нее такой испепеляющий взгляд, что бедное дитя будто прикоснулось к лейденской банке: девушка отскочила по меньшей мере фута на четыре.
Людовик XV наблюдал за ней с улыбкой.
«Вот как! — воскликнул про себя Ришелье. — Пожалуй, мне не придется вмешиваться: все идет своим чередом».
Король обернулся и заметил маршала, готового выдержать его взгляд.
— Здравствуйте, господин герцог! — приветствовал его Людовик XV. — Дружно ли вы живете с герцогиней де Ноай?
— Сир! — отвечал маршал. — Герцогиня всегда оказывает мне честь, обращаясь со мной как с ветреником.
— Разве вы тоже ездили на дорогу к Шантелу?
— Я, сир? Клянусь вам, нет. Я в высшей степени счастлив милостями, оказанными вашим величеством моей семье.
Король не ожидал такого ответа, он собирался позубоскалить, но герцог его опередил.
— Что же я сделал, герцог?
— Сир! Ваше величество поручили командование шеволежерами господину герцогу д’Эгильону, моему родственнику.
— Да, вы правы, герцог.
— А для такого шага нужны смелость и ловкость вашего величества, ведь это почти государственный переворот.
Ужин подходил к концу. Король выждал минуту и поднялся из-за стола.
Разговор становился для него щекотливым, однако Ришелье решил не выпускать добычу из рук Когда король заговорил с герцогиней де Ноай, принцессой и мадемуазель де Таверне, Ришелье ловко сумел вмешаться, а потом и вовсе овладел разговором и направил его в нужное русло.
— Знает ли ваше величество, что успехи придают смелости?
— Вы хотите сказать, что чувствуете себя смелым, герцог?
— Да, я хотел бы просить ваше величество о новой милости после той, какую вы соблаговолили мне оказать. У одного из моих добрых друзей, старого слуги вашего величества, сын служит в жандармах. Молодой человек обладает большими достоинствами, но беден. Он получил из рук августейшей принцессы патент на чин капитана, но у него нет роты.
— Принцесса эта — моя дочь? — спросил король, обратившись к дофине.
— Да, сир, — отвечал Ришелье, — а отца этого молодого человека зовут барон де Таверне.
— Отец?.. — невольно вырвалось у Андре. — Филипп?! Так вы, господин герцог просите роту для Филиппа?
Устыдившись того, что нарушила этикет, Андре отступила, покраснев и умоляюще сложив руки.
Король, обернувшись, залюбовался стыдливым румянцем красивой девушки; потом он подошел к Ришелье с благожелательным взглядом, по которому придворный мог судить, насколько его просьба приятна и уместна.
— В самом деле, это прекрасный молодой человек, — подхватила дофина, — и я обязана помочь ему сделать карьеру. Однако до чего несчастны принцы! Когда Бог наделяет их благими намерениями, он лишает их памяти или разума. Ведь я должна была подумать о том, что молодой человек беден, что недостаточно дать ему эполеты и что надо еще прибавить роту!
— Как вы, ваше высочество, могли об этом знать?
— Я знала! — живо возразила дофина с жестом, вызвавший в памяти Андре скромный, убогий дом, в котором, однако, так счастливо протекло ее детство. — Да, я знала, но думала, что все сделала, добившись чина для господина Филиппа де Таверне. Ведь его зовут Филипп, мадемуазель?
— Да, ваше высочество.
Король обвел взглядом окружавшие его благородные открытые лица. Он остановился на Ришелье — лицо маршала светилось великодушием под влиянием августейшей соседки.
— Ах, герцог! Я рискую поссориться с Люсьенном, — вполголоса сказал он ему.
Затем Людовик с живостью обернулся к Андре:
— Скажите, что это доставит вам удовольствие, мадемуазель!
— Ах, сир, я вас умоляю об этом! — воскликнула Андре, складывая руки.
— Согласен! — отвечал Людовик XV. — Выберите роту получше этому бедному юноше, герцог, а я обеспечу средствами, если вакансия не оплачена.
Доброе дело порадовало всех присутствующих: Андре одарила короля божественной улыбкой, Ришелье получил благодарность из ее прелестных уст, от которых, будь он моложе, герцог потребовал бы большего, ведь он был не только честолюбив, но и жаден.
Стали прибывать один за другим посетители, среди них — кардинал де Роган; он упорно ухаживал за дофиной с того времени, как она поселилась в Трианоне.
Однако король весь вечер благосклонно разговаривал только с Ришелье. Он даже попросил герцога проводить его, распрощавшись с ее высочеством и отправившись в свой Трианон. Старый маршал последовал за королем, трепеща от радости.
Когда его величество пошел в сопровождении герцога и двух офицеров по темным аллеям, ведущим к его дворцу, дофина отпустила Андре.
— Вам, должно быть, хочется написать в Париж и сообщить приятную новость, — сказала принцесса. — Вы можете идти, мадемуазель.
Вслед за лакеем, шедшим впереди с фонарем в руках, девушка преодолела открытое пространство в сто футов, отделявшее Трианон от служб.
А за ней от куста к кусту перебегала чья-то тень, следившая за каждым движением девушки горящим взором. Это был Жильбер.
Когда Андре подошла к крыльцу и стала подниматься по каменным ступенькам, лакей возвратился в переднюю Трианона.
Жильбер тоже проскользнул в вестибюль, прошел оттуда на конюшенный двор и по крутой узкой лестнице вскарабкался в свою мансарду, находившуюся в углу здания напротив окон спальни Андре.
Он услышал, что Андре позвала горничную герцогини де Ноай, жившую неподалеку. Когда служанка вошла к Андре, шторы упали на окно, подобно непроницаемой завесе между страстными желаниями юноши и предметом, занимавшим все его мысли.
Во дворце остался только кардинал де Роган, с удвоенным рвением любезничавший с ее высочеством; принцесса была с ним холодна.
В конце концов прелат испугался, что его поведение может быть дурно истолковано, тем более что дофин удалился. Он откланялся с выражениями глубокого почтения.
Когда он садился в карету, к нему подошла одна из служанок дофины и вслед за ним почти втиснулась в карету.
— Вот, — прошептала она.
Она вложила ему в руку небольшой гладкий листок; его прикосновение заставило кардинала вздрогнуть.
— Вот! — с живостью отвечал он, вложив в руку женщины тяжелый кошелек, который, даже будь он пустым, представлял бы собою солидное вознаграждение.
Не теряя времени, кардинал приказал кучеру гнать в Париж и спросить новых указаний у городских ворот.
Доро́гой он в темноте ощупал и поцеловал, подобно опьяненному любовью юноше, то, что было завернуто в бумагу.
Когда карета подъехала к городским воротам, он приказал:
— Улица Сен-Клод!
Вскоре он уже шагал через таинственный двор и входил в малую гостиную, где его встретил молчаливый привратник Фриц.
Бальзамо заставил кардинала ожидать четверть часа. Наконец он вошел в гостиную и объяснил задержку поздним временем; он полагал, что время визитов истекло.
Было в самом деле около одиннадцати вечера.
— Вы правы, господин барон, — проговорил кардинал, — прошу прощения за беспокойство. Но, помните, однажды вы мне сказали, что можно было бы узнать одну тайну?..
— Для этого мне были нужны волосы того лица, о котором мы в тот день говорили, — перебил Бальзамо, успевший заметить бумажку в руках наивного прелата.
— Совершенно верно, господин барон.
— Вы принесли мне эти волосы, монсеньер? Прекрасно!
— Вот они. Могу ли я получить их назад после опыта?
— Да, если не придется прибегнуть к огню… В этом случае…
— Разумеется, разумеется! — согласился кардинал. — Да я себе еще достану. Смогу ли я узнать разгадку?
— Сегодня?
— Я нетерпелив, как вам известно.
— Я должен сначала попробовать, монсеньер.
Бальзамо взял локон и поспешил к Лоренце.
«Итак, сейчас я узнаю секрет этой монархии, — рассуждал он сам с собою дорогой, — сейчас мне откроется Божья воля, скрытая от простых смертных».
Прежде чем отворить таинственную дверь, он через стену усыпил Лоренцу. Молодая женщина встретила его нежным поцелуем.
Бальзамо с трудом вырвался из ее объятий. Трудно сказать, что было мучительнее для бедного барона: упреки прекрасной итальянки во время ее пробуждения или ее ласки, когда она находилась в состоянии гипноза.
Наконец ему удалось разъединить прекрасные руки молодой женщины, кольцом обвившие его шею.
— Лоренца, дорогая моя! — обратился он к ней, вкладывая ей в руку бумажку. — Скажи мне: чьи это волосы?
Лоренца прижала локон к груди, потом ко лбу. Несмотря на то что глаза ее оставались раскрыты, она видела во время сна внутренним взором.
— О! Эти волосы тайком сострижены с головы, принадлежащей именитой особе! — сообщила она.
— Правда? А эта особа счастлива? Ответь!
— Она могла бы быть счастлива.
— Смотри внимательно, Лоренца.
— Да, она могла бы быть счастлива, ее жизнь еще ничем не омрачена.
— Однако она замужем…
— О! — только и могла ответить Лоренца с нежной улыбкой.
— Ну что? Что хочет сказать моя Лоренца?
— Она замужем, дорогой Бальзамо, — повторила молодая женщина, — однако…
— Однако?..
— Однако…
Лоренца опять улыбнулась.
— Я тоже замужем, — прибавила она.
— Разумеется.
— Однако…
Бальзамо с удивлением взглянул на Лоренцу; даже во сне лицо молодой женщины залила краска смущения.
— Однако?.. — повторил Бальзамо. — Договаривай!
Она вновь обвила руками шею возлюбленного и, спрятав лицо у него на груди, прошептала:
— Однако я еще девственница.
— И эта женщина, эта принцесса, эта королева, — вскричал Бальзамо, — будучи замужем, тоже?..
— И эта женщина, эта принцесса, эта королева, — повторила Лоренца, — так же чиста и девственна, как я; даже еще чище и целомудреннее, потому что она не любит так, как я.
— Это судьба! — пробормотал Бальзамо. — Благодарю тебя Лоренца, это все, что я хотел узнать.
Он поцеловал ее, бережно спрятал волосы в карман, потом отстриг у Лоренцы небольшую прядь черных волос, сжег их над свечкой, а пепел собрал на бумажку, в которую были завернуты волосы дофины.
Он спустился вниз, на ходу приказав молодой женщине пробудиться.
Теряя терпение, взволнованный прелат ожидал его в гостиной.
— Ну как, господин граф? — с сомнением спросил он.
— Все хорошо, монсеньер.
— Что оракул?
— Оракул сказал, что вы можете надеяться.
— Он так сказал? — восторженно воскликнул принц.
— Вы можете судить, как вам заблагорассудится, монсеньер: оракул сказал, что эта женщина не любит своего супруга.
— О! — вне себя от счастья воскликнул г-н де Роган.
— А волосы мне пришлось сжечь, добиваясь истины. Вот пепел, я аккуратно собрал его для вас, словно каждая частица стоит целого миллиона, и с удовольствием возвращаю.
— Благодарю вас, сударь, благодарю, — я ваш вечный должник.
— Не будем об этом говорить, монсеньер. Позвольте дать вам один совет, — продолжал Бальзамо. — Не подмешивайте этот пепел себе в вино, как делают некоторые влюбленные. Это очень опасный опыт: ваша любовь может стать неизлечимой, а возлюбленная к вам охладеет.
— Да, я от этого воздержусь, — в страхе проговорил прелат. — Прощайте, господин граф, прощайте!
Спустя двадцать минут карета его высокопреосвященства пересекла на углу улицы Пти-Шан путь экипажу г-на де Ришелье, едва не опрокинув его в одну из глубоких ям, вырытых для постройки дома.
Оба сеньора узнали друг друга.
— A-а, это вы, принц! — с улыбкой сказал Ришелье.
— A-а, герцог! — отвечал Луи де Роган, прижав к губам палец.
И кареты разъехались в разные стороны.
XCIII. ГОСПОДИН ДЕ РИШЕЛЬЕ ОТДАЕТ ДОЛЖНОЕ НИКОЛЬ.
Герцог де Ришелье направлялся в небольшой особняк барона де Таверне на улице Кок-Эрон.
Благодаря нашей возможности подобно хромому бесу легко проникать в запертые дома, мы раньше г-на де Ришелье узнаем, что в этот час барон сидел перед камином, уперев ноги в решетку для дров, под которой догорали головни. Он читал Николь наставления, время от времени беря ее за подбородок, несмотря на то что на ее лице появилось недовольное и пренебрежительное выражение.
То ли Николь привыкла к ласкам без наставлений, то ли предпочитала наставление без ласки — не смеем утверждать!
Хозяин и служанка вели серьезный разговор. Они выясняли, почему в определенные вечерние часы Николь не сразу являлась на звонок, почему ее постоянно задерживали какие-нибудь дела то в саду, то в оранжерее и почему во всех остальных местах, кроме этих двух — сада и оранжереи, — она плохо исполняла свои обязанности.
Николь кокетливо извивалась всем телом и со сладострастием в голосе говорила:
— Что ж поделаешь?.. Я здесь скучаю: мне обещали, что я отправлюсь в Трианон вместе с мадемуазель!..
Господин де Таверне милостиво потрепал Николь по щечке и подбородку, очевидно, чтобы немного ее развлечь.
Николь, уклоняясь от утешений барона, оплакивала свою горькую долю.
— Ведь я же говорю правду! — хныкала она. — Я заперта в этих чертовых четырех стенах, не вижу общества и просто задыхаюсь! А мне обещали развлечения и будущее!
— Что ты имеешь в виду? — спросил барон.
— Трианон! — воскликнула Николь. — В Трианоне меня окружала бы роскошь. Я бы хотела людей посмотреть и себя показать!
— Ого! Ну и малышка Николь! — заметил барон.
— Да, господин барон, ведь я женщина, и не хуже других.
— Черт побери! Хорошо сказано! — глухо молвил барон. — Она живет, волнуется. Эх, если бы я был молод и богат!..
Он не удержался и бросил восхищенный и завистливый взгляд на девушку, в которой было столько молодости, задора и красоты.
Выйдя из задумчивости, Николь нетерпеливо проговорила:
— Ложитесь, сударь, и я тоже пойду лягу.
— Еще одно слово, Николь!
Внезапно звонок у входной двери заставил Таверне вздрогнуть, а Николь так и подскочить.
— Кто к нам может прийти в половине двенадцатого? Поди взгляни, дорогая.
Николь отворила дверь, узнала имя посетителя и оставила входную дверь приоткрытой.
Через эту щель выскочил человек и с изрядным шумом пробежал через двор, что привлекло внимание позвонившего маршала — а это был он, — успевшего обернуться и заметить беглеца.
Николь прошла впереди Ришелье со свечой в руках; она вся сияла.
— Так-так-так! — улыбнулся маршал, следуя за ней в гостиную. — Этот старый плут де Таверне говорил мне только о своей дочери.
Герцог был из тех, кому довольно было одного взгляда, чтобы увидеть все, что ему нужно.
Промелькнувшая тень человека навела его на мысль о Николь, а Николь заставила задуматься о тени. По радостному лицу девушки герцог догадался, зачем приходил этот человек, а когда он рассмотрел лукавые глаза, белые зубки и тонкую талию субретки, у него не осталось больше сомнений ни о ее характере, ни о ее вкусах.
Войдя в гостиную, Николь с замиранием сердца объявила:
— Господин герцог де Ришелье!
Этому имени суждено было произвести в тот вечер сенсацию. Оно так подействовало на барона, что он поднялся с кресла и пошел к двери, не веря своим ушам.
Однако, не дойдя до порога, он заметил в сумерках коридора г-на де Ришелье.
— Герцог!.. — пролепетал он.
— Да, дорогой друг, герцог собственной персоной, — любезно отвечал Ришелье. — Это вас удивляет, особенно после оказанного вам недавно приема. Однако в этом нет ничего удивительного. А теперь — твою руку!
— Господин герцог! Вы слишком добры ко мне.
— Ты не слишком умен, мой дорогой! — хохотнул старый маршал, протягивая Николь трость и шляпу и поудобнее усаживаясь в кресле. — Ты отупел, ты городишь вздор… Ты не узнаешь своих, насколько я понимаю.
— Однако, герцог, мне кажется, что оказанный мне тобою третьего дня прием был настолько многозначителен, что ошибиться трудно, — отвечал взволнованный Таверне.
— Послушай, мой старый друг, третьего дня ты вел себя как школьник, а я — как педант, не хватило лишь розги, — возразил Ришелье. — Мы друг друга не поняли. Сейчас ты хочешь мне что-то сказать, а я — избавить тебя от этого труда. Иначе ты скажешь по этому поводу какую-нибудь глупость, а я отвечу тебе тем же. Перейдем лучше от вчерашнего дня к сегодняшнему. Знаешь, зачем я к тебе приехал?
— Разумеется, нет.
— Я привез тебе роту, о которой ты меня просил позавчера и которую король дает твоему сыну. Какого черта! Должен же ты улавливать тонкости: третьего дня я был почти министром — просить было бы с моей стороны неудобно; сегодня я отказался от портфеля и опять стал прежним Ришелье — было бы нелепо, ежели бы я не попросил за тебя. И вот я попросил, получил и принес!
— Герцог! Неужели это правда?.. Такая доброта с твоей стороны…
— … Вполне естественна, потому что это долг друга… То, в чем отказал бы министр, Ришелье добывает и дает.
— Ах, герцог, как ты меня порадовал! Так ты по-прежнему мой верный друг?
— Черт возьми!
— Но король!.. Неужели король согласился оказать мне такую милость?..
— Король сам не знает, что делает; впрочем, возможно, я ошибаюсь и он, напротив, прекрасно это знает.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Я хочу сказать, что у его величества, может быть, есть свои причины доставить неудовольствие графине Дюбарри. Возможно, именно этому ты обязан оказанной тебе милостью еще более, нежели моему влиянию.
— Ты полагаешь?
— Я в этом совершенно уверен, хотя и помог тебе. Ты ведь, должно быть, знаешь, что я отказался от портфеля из-за этой шлюхи.
— Так говорят, однако…
— Однако ты в это не веришь, скажи откровенно!
— Да, должен признаться…
— Это означает, что ты полагал, будто у меня нет совести.
— Это означает, что я считал тебя человеком без предрассудков.
— Дорогой мой! Я старею и люблю хорошеньких женщин, только если они полезны мне… И потом, у меня есть кое-какие соображения… Впрочем, вернемся к твоему сыну. Очаровательный мальчик!
— Он в очень скверных отношениях с Дюбарри, которого я встретил у тебя, когда так неловко явился с визитом.
— Мне это известно, поэтому-то я и не министр.
— Ну вот еще!
— Можешь не сомневаться, друг мой!
— Ты отказался от портфеля, чтобы доставить удовольствие моему сыну?
— Если я тебе скажу так, ты мне не поверишь. Твой сын тут ни при чем. Я отказался потому, что требования семейки Дюбарри начинались с изгнания твоего сына и неизвестно еще, какими бы нелепостями они могли закончиться.
— Так ты поссорился с этими ничтожествами?
— И да и нет: они меня боятся, я их презираю — они это заслужили.
— Это смело, но неосторожно.
— Почему ты так думаешь?
— Графиня в фаворе.
— Скажите пожалуйста!.. — презрительно проронил Ришелье.
— Как ты можешь так говорить!
— Я говорю как человек, чувствующий шаткость положения Дюбарри и готовый, если понадобится, подложить мину в подходящее место, чтобы разнести все в клочья.
— Если я правильно понял, ты оказываешь услугу моему сыну, чтобы уколоть семейство Дюбарри.
— В большей степени — ради этого, твоя проницательность тебя не подвела, твой сын служит мне запалом, я хочу поджечь с его помощью… А кстати, барон, нет ли у тебя и дочери?
— Есть…
— Молодая?
— Ей шестнадцать лет.
— Хороша собой?
— Как Венера.
— Она живет в Трианоне?
— Так ты с ней знаком?
— Я провел с ней вечер и целый час проговорил о ней с королем.
— С королем? — вскричал Таверне; щеки его пылали.
— С королем.
— Король говорил о моей дочери, о мадемуазель Андре де Таверне?
— Он с нее глаз не сводит, дорогой мой.
— Неужели?
— Тебе это не по душе?
— Мне?.. Ну что ты!.. Напротив! Король оказывает мне честь, глядя на мою дочь… но…
— Но что?
— Дело в том, что король…
— … Распутен? Ты это хотел сказать?
— Боже меня сохрани дурно отзываться о его величестве; он имеет право быть таким, каким ему хочется быть.
— В таком случае что означает твое удивление? Неужели ты мог вообразить, что король не будет влюбленными глазами смотреть на твою дочь? Ведь мадемуазель Андре — само совершенство!
Таверне ничего не ответил. Он пожал плечами и глубоко задумался. Ришелье следил за ним инквизиторским взглядом.
— Что же! Я догадываюсь, о чем ты думаешь, — продолжал старый маршал, подвигая свое кресло поближе к барону. — Ты думаешь, что король привык к дурному обществу… что он якшается со всяким сбродом, как выражаются в Першероне, и, следовательно, не станет заглядываться на благородную девицу, отличающуюся целомудренной чистотой и невинной любовью, что он не заметит это сокровище, полное грации и очарования… Ведь его влекут только непристойные разговоры, пошлые подмигивания да ухаживания за гризетками.
— Решительно, ты великий человек, герцог.
— Почему?
— Потому что ты все верно угадал, — молвил Таверне.
— Однако признайтесь, барон, — продолжал Ришелье, — давно пора нашему властелину перестать заставлять нас, знатных господ, пэров и друзей короля Французского, целовать плоскую и грязную руку куртизанки низкого происхождения. Пора было бы вернуть нам наше достоинство. Ведь от Шатору, которая была маркизой и принадлежала к роду герцогов, он опустился до Помпадур, дочери и жены откупщика, а после нее унизился до Дюбарри, которую звали просто Жаннсгон. Как бы ей на смену не явилась кухарка Мариторн или пастушка Гатон. Это унизительно для нас, барон. Наши шлемы увенчаны коронами, а мы склоняем головы перед этими дурами.
— Совершенно верно! — прошептал Таверне. — Теперь мне понятно, что при дворе нет достойных людей из-за новых порядков.
— Раз нет королевы, нет и женщин. Раз нет женщин, нет и придворных. Король содержит гризетку, и на троне теперь восседает простой народ в лице мадемуазель Жанны Вобернье, парижской белошвейки.
— Да, правда, и…
— Видишь ли, барон, — перебил его маршал, — если бы сейчас нашлась умная женщина, желающая править Францией, ей уготована прекрасная роль…
— Без сомнения! — с замиранием сердца прошептал Таверне. — К сожалению, место занято.
— Прекрасная роль для женщины, — продолжал маршал, — у которой нет таких пороков, как у этих шлюх, однако она должна обладать отвагой, вести себя расчетливо и осмотрительно. Она могла бы так высоко взлететь, что о ней станут говорить даже тогда, когда монархия перестанет существовать. Ты не знаешь, барон, твоя дочь достаточно умна?
— Она очень умна, у нее много здравого смысла.
— Она так хороша собой!
— Ты правда так думаешь?
— Да, она соблазнительна и прелестна, что так нравится мужчинам. Вместе с тем она до такой степени добра и целомудренна, что внушает уважение даже женщинам… Такое сокровище надо беречь, мой старый друг!
— Ты говоришь об этом с таким жаром…
— Я? Да я от нее без ума и хоть завтра женился бы на ней, не будь у меня за плечами семидесяти четырех лет. Однако хорошо ли она устроена? Окружена ли она роскошью, как того заслуживает прекрасный цветок?.. Подумай об этом, барон. Сегодня вечером она одна возвращалась к себе, не имея ни служанки, ни охраны, только в сопровождении лакея ее высочества, освещавшего ей фонарем дорогу; она была похожа на прислугу.
— Что же ты хочешь, герцог! Ведь ты знаешь, что я небогат.
— Богат ты или нет, дорогой мой, у твоей дочери должна быть, по крайней мере, служанка.
Таверне вздохнул.
— Я это и сам знаю, — согласился он, — камеристка ей нужна, вернее, была бы нужна.
— Ну и что же? Неужели у тебя нет ни одной?
Барон не отвечал.
— А эта миленькая девчонка? — продолжал Ришелье. — Она тут недавно вертелась… Хорошенькая, изящная, клянусь честью.
— Да, но…
— Что, барон?
— Ее-то я как раз и не могу послать в Трианон.
— Почему же? Мне, напротив, кажется, что она отлично подойдет; она будет прекрасной субреткой.
— Ты, верно, не видел ее лица, герцог?
— Я-то? Именно на него я и смотрел.
— Раз ты ее видел, ты должен был заметить странное сходство!..
— С кем?
— С… Угадай, попробуй!.. Подите сюда, Николь.
Николь явилась на зов. Как истинная служанка, она подслушивала под дверью.
Герцог взял ее за руки и притянул к себе, зажав между ног ее колени, однако бесцеремонный взгляд знатного сеньора и распутника нисколько ее не смутил, она ни на секунду не потеряла самообладания.
— Да, — сказал он, — да, она в самом деле похожа, это верно.
— Ты знаешь, на кого, и, значит, понимаешь, что нельзя рисковать благополучием нашей семьи из-за неблагоприятного стечения обстоятельств. Разве приятно будет самой прославленной даме Франции убедиться в том, что она похожа на мадемуазель Николь-Дырявый-Чулок?
— Да точно ли этот Дырявый-Чулок похож на самую прославленную даму? — ядовито заговорила Николь, освобождаясь из рук герцога, чтобы возразить барону де Таверне. — Неужели у прославленной дамы такие же округлые плечики, живой взгляд, полненькие ножки и пухлые ручки, как у Дырявого-Чулка? В любом случае, господин барон, — возмущенно закончила она, — я не могу поверить, что вы меня до такой степени низко цените.
Николь раскраснелась от гнева, и это ее очень красило.
Герцог снова схватил ее за руки, опять зажал ее колени меж ног и посмотрел на нее ласково и многообещающе.
— Барон! — заговорил он. — Николь, разумеется, нет равных при дворе: так я, во всяком случае, думаю. Ну а что касается блестящей дамы, с которой, признаюсь, у нее есть обманчивое сходство, тут мы свое самолюбие спрячем… У вас светлые волосы восхитительного оттенка, мадемуазель Николь. У вас царственные очертания бровей и носа. Ну что же, достаточно вам будет провести перед зеркалом четверть часа, и от недостатков, какие находит господин барон, не останется и следа. Николь, дитя мое, хотите отправиться в Трианон?
— О! — вскричала Николь; вся ее мечта выплеснулась в этом восклицании.
— Итак, вы поедете в Трианон, дорогая, и составите там свое счастье, не омрачая счастья других. Барон! Еще одно слово.
— Пожалуйста, дорогой герцог!
— Иди, прелестное дитя, оставь нас на минутку, — приказал Ришелье.
Николь вышла. Герцог приблизился к барону.
— Я потому так тороплю вас с отправкой служанки для вашей дочери, — сказал он, — что это доставит удовольствие королю. Его величество не любит бедности; напротив, ему приятно будет увидеть хорошенькое личико. Я так все это понимаю.
— Пусть Николь едет в Трианон, если ты думаешь, что это может доставить королю удовольствие, — отвечал барон, загадочно улыбаясь.
— Ну, раз ты мне позволяешь, я беру ее с собой: она доедет в моей карете.
— Однако сходство с дофиной… Надо бы что-нибудь придумать, герцог.
— Я уже придумал. Это сходство исчезнет под руками Рафте в четверть часа. За это я тебе ручаюсь… Напиши записочку дочери, барон, объясни важность, которую ты придаешь тому, чтобы при ней была служанка и чтобы ее звали Николь.
— Ты полагаешь, что это непременно должна быть Николь?
— Да, я так думаю.
— И что кто-то другой…
— … Не сможет ее заменить на этом месте — почетном, как мне представляется.
— Я сию минуту напишу.
Барон написал письмо и вручил его Ришелье.
— А указания, герцог?
— Я дам их Николь. Она сообразительна?
Барон улыбнулся.
— Ну, так ты мне ее доверяешь?.. — спросил Ришелье.
— Еще бы! Это твое дело, герцог. Ты у меня ее попросил, я ее тебе вручаю. Делай с ней что пожелаешь.
— Мадемуазель, следуйте за мной, — поднимаясь, предложил герцог, — и поскорее.
Николь не заставила повторять приказание дважды. Не спросив согласия барона, она в пять минут собрала свои пожитки в небольшой узелок и, легко ступая, точно на крыльях устремилась к карете, вспорхнула на козлы и уселась рядом с кучером его светлости.
Ришелье попрощался с другом, еще раз выслушав слова благодарности за услугу, оказанную им Филиппу де Таверне.
И ни слова об Андре: говорить о ней было излишне.
XCIV. МЕТАМОРФОЗЫ.
Николь никогда еще не была так довольна. Для нее даже отъезд из Таверне в Париж не был таким триумфом, как путешествие из Парижа в Трианон.
Она была так любезна с кучером г-на де Ришелье, что на следующее же утро о новой служанке только и было разговору во всех каретных сараях и мало-мальски аристократических передних Версаля и Парижа.
Когда карета прибыла в особняк Ганновер, г-н де Ришелье взял служанку за руку и повел во второй этаж, где его ожидал Рафте, аккуратно отвечавший от имени маршала на корреспонденцию.
Среди всех занятий маршала война играла важнейшую роль, и Рафте стал, по крайней мере, в теории, таким знатоком военного искусства, что, живи Полибий и шевалье де Фолар в наши дни, они были бы счастливы получить одну из тех памятных записок по фортификации или тактике, которые выходили из-под пера Рафте каждую неделю.
Рафте был занят составлением плана кампании против англичан в Средиземном море, когда вошел маршал и сказал:
— Рафте, взгляни-ка на эту девочку!
Рафте посмотрел на Николь.
— Очень мила, монсеньер, — многозначительно подмигнул он.
— Да, но ее сходство?.. Рафте, я имею в виду ее сходство!
— Э-э, верно. Ах, черт возьми!
— Ты заметил?
— Невероятно! Вот что ее погубит или, напротив, составит счастье.
— Сначала погубит, но мы наведем в этом деле порядок. Как видите, Рафте, у нее белокурые волосы. Да ведь это не беда, правда?
— Нужно только перекрасить их в черный цвет, монсеньер, — подхватил Рафте, взявший в привычку заканчивать мысли своего хозяина, а часто и думать за него.
— Ступай в мою туалетную комнату, малышка, — приказал маршал. — Этот господин очень ловок; он сейчас сделает из тебя самую красивую и самую неузнаваемую субретку Франции.
В самом деле, десять минут спустя при помощи состава, которым каждую неделю пользовался маршал, чтобы чернить свои седые волосы — это кокетство, какое герцог позволял себе, как он утверждал, еще довольно часто, отправляясь в знакомые ему закоулки Парижа, — Рафте выкрасил прекрасные пепельные волосы Николь в черный цвет. Затем он провел по ее густым светлым бровям булавочной головкой, перед тем подержав ее над пламенем свечи. Благодаря этому он придал ее жизнерадостному лицу фантастическое выражение, ее живым и светлым глазам сообщил страстный, а временами — мрачный взгляд. Можно было подумать, что Николь — фея, вышедшая по приказу повелителя из волшебной шкатулки, где до сих пор находилась по воле чародея.
— А теперь, красавица, — предложил Ришелье, протянув зеркало пораженной Николь, — взгляните, как вы обворожительны, а самое главное — как мало похожи на прежнюю Николь. Вам нечего больше опасаться гибели, теперь вы будете иметь успех.
— О, монсеньер! — воскликнула девушка.
— А для этого нам осталось только условиться.
Николь покраснела и опустила глаза; плутовка ожидала, без сомнения, речей, на которые г-н де Ришелье был большой мастер.
Герцог понял и, чтобы покончить с недоразумением, обратился к Николь:
— Сядьте вот в это кресло, милое дитя, рядом с господином Рафте. Слушайте меня внимательно… Господин Рафте нам не помешает, не беспокойтесь. Напротив, он выскажет нам свое мнение. Вы расположены меня слушать?
— Да, монсеньер, — пролепетала устыженная Николь, введенная в заблуждение своим тщеславием.
Беседа г-на де Ришелье с Рафте и Николь длилась добрый час. Потом герцог отослал девушку спать к служанкам особняка.
Рафте вернулся к своей памятной записке по военным делам, а г-н де Ришелье лег в постель, просмотрев прежде письма, предупреждавшие его о происках провинциальных парламентов против г-на д’Эгильона и шайки Дюбарри.
На следующее утро одна из его карет без гербов отвезла Николь в Трианон и, оставив ее с маленьким узелком возле решетки, укатила.
Высоко подняв голову, с надеждой во взоре, Николь спросила дорогу и подошла к дверям служб.
Было шесть часов утра. Андре уже встала и оделась. Она писала отцу о происшедшем накануне счастливом событии, о чем барона де Таверне уже известил, как мы говорили, г-н де Ришелье.
Должно быть, наши читатели не забыли о каменном крыльце, что ведет со стороны сада в часовню Малого Трианона. С паперти часовни лестница идет направо во второй этаж, то есть в комнаты дежурных фрейлин. Вдоль этих комнат тянулся длинный, как аллея, коридор, куда свет проникал со стороны сада.
Комната Андре в этом коридоре была первой налево. Она была довольно просторна, хорошо освещалась благодаря окну, выходившему на большой конюшенный двор; ее отделяла от коридора маленькая передняя, из которой влево и вправо уходили две туалетные комнаты.
Комната эта, слишком скромная, если принять во внимание образ жизни особ, находившихся на службе при блестящем дворе, была, впрочем, уютной, очень удобной для жилья кельей, веселым убежищем и местом отдохновения от дворцовой суеты. Здесь могла укрыться честолюбивая душа, переживая выпавшие на ее долю в этот день оскорбления или разочарования. Здесь также могла отдохнуть в тишине и одиночестве, укрывшись от великих мира сего, возвышенная и печальная душа.
В самом деле, здесь не существовало ни превосходства положения, ни замечаний — стоило лишь переступить порог и подняться по лестнице часовни. Тишина, как в монастыре, и такое же освобождение плоти, как в тюрьме. Кто был рабом во дворце, тот становился хозяином в помещении служб.
Андре, с ее нежной и гордой душой, умела находить радость во всех этих мелочах. И не потому, что ей необходимо было искать утешения для раненого честолюбия или пищи для ненасытной фантазии; просто Андре казалось, что она свободнее в четырех стенах своей комнаты, нежели в дорогих гостиных Трианона, по которым она проходила робко, а иногда и со страхом.
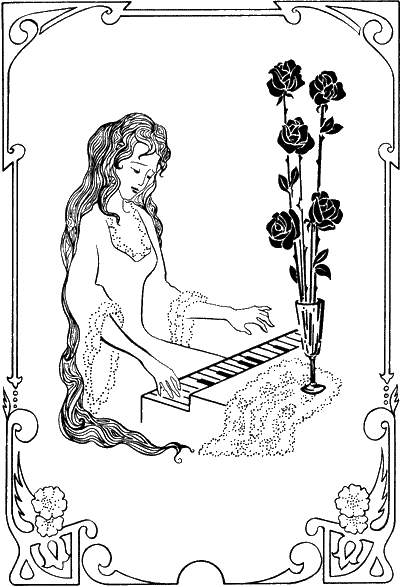
Здесь, в своем углу, где Андре чувствовала себя как дома, она без всякого смущения вспоминала великих мира сего, ослеплявших ее на протяжении всего дня. Находясь в окружении цветов, сидя за клавесином или погрузившись в немецкие книги, верные спутники тех, кто пропускает прочитанное через сердце, Андре не боялась, что судьба пошлет ей огорчение или отнимет радость.
«Здесь у меня есть почти все, что нужно до самой смерти, — думала она по вечерам, когда возвращалась, исполнив все свои обязанности, и, надев пеньюар в широкую складку, отдыхала душой и телом. — Может быть, мне суждено когда-нибудь разбогатеть, но я не стану беднее, чем теперь: со мной навсегда останутся цветы, музыка и хорошая книга, что поддержит в одиночестве».
Андре добилась позволения завтракать у себя в комнате, когда ей заблагорассудится. Она очень дорожила этой милостью, потому что могла теперь оставаться у себя до полудня, если ее высочество не вызывала ее для чтения или участия в утренней прогулке. В хорошую погоду она по утрам шла с книгой в лес, раскинувшийся от Трианона до Версаля. Проведя два часа на свежем воздухе в размышлениях и мечтах, она возвращалась к завтраку, не встретив порой ни одной души — ни господина, ни слуги.
Если было слишком жарко и солнце припекало даже сквозь густую листву, Андре всегда могла укрыться в прохладе своей комнаты, которую можно было быстро проветрить, открыв и окно и выходившую в коридор дверь. Небольшая софа, крытая индийским ситцем, четыре одинаковых стула, девичья кровать под круглым пологом с занавесками из той же ткани, что и обивка на мебели, две китайские вазы на камине, квадратный стол на медных ножках — таков был мир, в котором были заключены все надежды Андре, все ее желания.
Итак, мы сказали, что девушка сидела у себя в комнате и писала к отцу, когда робкий стук в дверь коридора привлек ее внимание.
Она подняла голову и, увидев, что дверь отворяется, тихонько вскрикнула от удивления, когда в дверях показалось улыбающееся лицо Николь.
XCV. КАК РАДОСТЬ ОДНИХ ПРИВОДИТ В ОТЧАЯНИЕ ДРУГИХ.
— Здравствуйте, мадемуазель! Это я! — присев в реверансе весело представилась Николь; зная нрав хозяйки, она, должно быть, испытывала некоторое беспокойство.
— Как вы здесь оказались? — спросила Андре, откладывая перо и готовясь к серьезному разговору.
— Мадемуазель совсем обо мне забыла, а я вот приехала!
— Если я о вас и забыла, мадемуазель, это означает лишь то, что у меня были для этого причины. Кто вам позволил явиться?
— Господин барон, разумеется, мадемуазель! — отвечала Николь, недовольно сдвинув красивые черные брови, которыми она была обязана благосклонным усилиям Рафте.
— Вы нужны моему отцу в Париже, мне же, напротив, нет в вас здесь ни малейшей надобности… Можете возвращаться, дитя мое.
— Ах, неужели мадемуазель совсем меня не любит? А я-то думала, что доставлю вам удовольствие!.. Стоит ли после этого любить, если вас ждет такая награда!.. — глубокомысленно заметила Николь.
Она изо всех сил выдавила из своих красивых глазок слезу.
И все же в ее упреке было достаточно искренности, чувствительности, и это пробудило в Андре сочувствие.
— Дитя мое, — заговорила она, — здесь есть кому прислужить мне; я же не могу себе позволить навязывать ее высочеству лишний рот.
— Как будто этот рот такой уж большой! — с непринужденной улыбкой возразила Николь.
— Это неважно, Николь. Твое присутствие здесь невозможно.
— Из-за сходства? — спросила девушка. — Разве вы ничего не замечаете, мадемуазель?
— Да, мне кажется, ты действительно изменилась.
— Еще бы! Добрый сеньор, который помог господину Филиппу получить чин, приехал к нам вчера вечером; увидав господина барона расстроенным тем, что оставил вас здесь без служанки, он сказал, что нет ничего проще, как превратить блондинку в брюнетку. Он взял меня с собой, перекрасил, как видите, и вот я здесь.
Андре улыбнулась:
— Должно быть, ты очень меня любишь, если любой ценой хочешь попасть в Трианон, где я почти пленница.
Николь окинула комнату беглым и вместе с тем проницательным взглядом.
— Невеселая комнатка, — заметила она. — Но ведь вы не все время проводите здесь?
— Нет, — ответила Андре. — А ты?
— Что я?
— Тебе не бывать в гостиной рядом с дофиной; у тебя не будет ни игр, ни прогулок, ни общества, ты всегда будешь здесь, ты рискуешь умереть от скуки.
— Да ведь есть же окошко, — возразила Николь, — из него я смогу увидеть хоть бы краешек этого мира; или, на худой конец, погляжу хоть через дверь… А если мне можно увидеть что-то, то и меня кто-нибудь сможет заметить. Вот и все, что мне нужно, не беспокойтесь обо мне.
— Повторяю, Николь: я не могу тебя оставить без позволения.
— Какого позволения?
— От батюшки.
— Это ваше последнее слово?
— Да, это мое последнее слово.
Николь вынула запрятанное на груди письмо барона де Таверне.
— Раз мои мольбы и моя преданность на вас не действуют, посмотрим, что вы скажете, ознакомившись с родительским наставлением.
Андре прочла письмо:
«Я знаю сам, и это стали замечать посторонние, дорогая Андре, что Вы живете в Трианоне не так, как того настоятельно требует занимаемое Вами положение. Вам следовало бы иметь двух служанок и выездного лакея, а мне — тысяч двадцать ливров годового дохода. Но я довольствуюсь только одной тысячей. Поступайте как я и возьмите Николь: она одна заменит всю необходимую Вам прислугу.
Николь — ловкая, умная и преданная Вам девушка. Она скоро усвоит тон и манеры, принятые при дворе. Вам придется не подгонять, а усмирять ее. Оставьте ее при себе и не думайте, что это жертва с моей стороны. Если такая мысль придет Вам в голову, вспомните, что его величество добр и при виде Вас подумал обо всем нашем семействе. Однако он обратил внимание на то — это передал мне по секрету один мой добрый друг, — что Вы не уделяете должного внимания своим туалетам и своему виду. Подумайте об этом, это очень важно.
Любящий Вас Отец».Это письмо привело Андре в печальное недоумение.
Неужели даже при теперешней удаче ее так и будет преследовать по пятам бедность? Она-то не считает ее недостатком, а вот все прочие так и будут относиться к Андре как к прокаженной.
Она была готова сломать перо, разорвать начатое письмо и ответить барону какой-нибудь полной философского бескорыстия убедительной тирадой, под которой Филипп подписался бы обеими руками.
Однако, едва она представила себе, как насмешливо улыбнется барон, когда прочтет этот шедевр, вся ее решимость улетучилась. Она ограничилась тем, что ответила на письмо барона пересказом светских новостей Трианона, а в конце приписала:
«Дорогой отец! Только что приехала Николь, и я оставляю ее, подчиняясь Вашей воле. Но то, что Вы написали по этому поводу, привело меня в отчаяние. Разве я не буду выглядеть среди пышных придворных еще нелепее, чем тогда, когда я была одна, если возьму себе в горничные деревенскую простушку? И Николь будет неприятно видеть мое унижение. Она будет мною недовольна, потому что лакеи гордятся богатством или, напротив, стыдятся бедности своих господ. Что касается замечания его величества, дорогой отец, позвольте с Вами не согласиться: король слишком умен, чтобы сердиться на меня за невозможность казаться богатой дамой. Кроме того, его величество слишком добр, он не станет обращать внимания на мою бедность или осуждать меня: разумнее было бы, не вызывая толков, положить этой бедности конец, чего вполне заслуживают Ваше имя и оказанные Вами в прошлом услуги».
Вот что написала в ответ юная особа, и надо признать, что ее простодушие, ее благородная гордость были выше лукавства и развращенности ее искусителей.
Андре не стала больше спорить с отцом из-за Николь. Возликовавшая служанка немедленно приготовила себе небольшую постель в правой туалетной комнате, выходившей в переднюю, и стала совсем незаметной, воздушной, нежной, чтобы никоим образом не стеснить хозяйку своим присутствием в скромном жилище. Казалось, она хотела быть похожей на лепесток розы, который персидские мудрецы уронили на поверхность наполненного водой бокала, чтобы доказать: можно еще кое-что в него добавить так, чтобы содержимое не перелилось через край.
Андре ушла в Трианон около часа. Никогда еще ее не одевали так быстро и с таким изяществом. Услужливая, внимательная, предупредительная, Николь превзошла себя: она показала все, на что была способна.
Когда мадемуазель де Таверне ушла, Николь почувствовала себя хозяйкой и произвела тщательный осмотр. Ничто от нее не ускользнуло: она просмотрела все, начиная от писем до последней мелочи туалета; она обследовала все — от камина до потайного уголка туалетной комнаты.
Затем она выглянула в окно, чтобы, как говорится, подышать местным воздухом.
Внизу, на большом дворе, конюхи чистили и скребли великолепных лошадей ее высочества. Конюхи — фи! Николь отвернулась.
Справа был ряд окон на одном уровне с окном Андре. В них показались служанки и полотеры. Николь презрительно отвела от них взгляд.
Напротив нее в просторном зале учителя музыки репетировали с хористами и музыкантами, готовясь к мессе в честь Людовика Святого.
Николь, вытирая пыль, напевала так громко, что отвлекала регента, и хористы стали немилосердно фальшивить.
Однако такое времяпровождение не могло долго занимать честолюбивую мадемуазель Николь; после того как из-за нее учителя перессорились с учениками, перевравшими все ноты, эта молодая особа перешла к осмотру верхнего этажа.
Все окна здесь были заперты; кстати сказать, все это были мансарды.
Николь снова принялась вытирать пыль. Спустя мгновение одно из окон верхнего этажа отворилось, хотя было совершенно непонятно, каким образом, потому что никто не появлялся.
Но ведь кто-то должен был его отворить! Этот кто-то увидел Николь и не стал на нее смотреть? Что за наглец?
Так, вероятно, думала Николь. Чтобы не упустить случая и изучить лицо этого наглеца — а Николь старалась изучать все, — она, занимаясь своими делами, при малейшей возможности возвращалась к окну и смотрела на мансарду — иными словами, в этот раскрытый глаз, оказавший ей неуважение тем, что за неимением зрачка не желал на нее смотреть. Однажды ей почудилось, что кто-то спрятался, когда она подходила… Это было невероятно, и она в это не поверила.
В другой раз она в этом почти уверилась, потому что успела увидеть спину беглеца, захваченного врасплох чересчур скорым ее возвращением, которого он не ожидал.
Николь решила пойти на хитрость: она спряталась за занавеской, оставив окно широко распахнутым, чтобы не вызывать подозрений.
Ей пришлось ждать довольно долго. Наконец показались темные волосы, потом дрожащие руки, на которые опиралась боязливо согнувшаяся человеческая фигура. Затем, когда этот человек приподнялся, стало отчетливо видно его лицо. Николь едва не упала навзничь, разорвав занавеску.
Это был Жильбер, смотревший в ее сторону с высоты мансарды.
Увидав, что занавеска затрепетала, Жильбер разгадал хитрость Николь и более не появлялся.
Вскоре и окно мансарды захлопнулось.
Не оставалось никаких сомнений, что Жильбер видел Николь; он был поражен. Он хотел убедиться, что в Трианоне появился его злейший враг, и, когда понял, что его самого узнали, бежал в смущении и гневе.
Так, по крайней мере, объяснила себе эту сцену Николь и была совершенно права: именно так и следовало ее объяснить.
Жильбер предпочел бы увидеть дьявола, нежели встретить здесь Николь. Он представлял себе разные ужасы, связанные с появлением этой надзирательницы. У него еще сохранились остатки былой ревности; она знала его тайную вылазку в сад на улице Кок-Эрон.
Жильбер скрылся в смущении, но не только в смущении, а и в гневе, кусая от бешенства кулаки.
«Какое теперь значение имеет мое дурацкое открытие, чем я так гордился?.. — говорил он себе. — Ну и что из того, что у Николь был там любовник. Зло свершилось, и теперь ее не выгонят. Зато если она расскажет, что я делал на улице Кок-Эрон, меня могут лишить места в Трианоне… Теперь не Николь у меня в руках, а я у нее… Проклятье!».
Самолюбие Жильбера подогревало злобу, кровь клокотала в нем с неслыханной силой.
Ему казалось, что, вступив в комнату Андре, Николь своей дьявольской улыбкой изгнала оттуда все прекрасные мечты, которые он обращал к мадемуазель де Таверне вместе со своей горячей любовью, мольбами и посылаемыми ей цветами. До сих пор голова Жильбера была занята совсем другими мыслями. А может, он нарочно старался не думать о Николь, чтобы не испытывать ужаса, который она ему внушала? Вот чего мы не сможем сказать. Зато мы можем утверждать, что видеть Николь ему было очень неприятно.
Он предощущал, что рано или поздно между ним и Николь вспыхнет война. Но он вел себя осторожно и дипломатично, он не хотел, чтобы война началась раньше, чем будет в состоянии вести ее мужественно и успешно.
И он решил затаиться до тех пор, пока не представится случай снова выйти на свет или пока Николь, по слабости или из необходимости, не рискнет на новом месте на поступок, который приведет к потере всех ее преимуществ.
Вот почему, неусыпно и по-прежнему осторожно следя за Андре, Жильбер продолжал быть свидетелем всего происходящего в первой по коридору комнате, устроившись так, что Николь ни разу не встретила его в саду.
К несчастью для Николь, она не была святой. Даже если бы она стала вести себя безупречно, в ее прошлом все же оставался камень преткновения и она неизбежно должна была споткнуться.
Это и произошло неделю спустя. Выслеживая ее по вечерам и по ночам, Жильбер в конце концов через решетку заметил плюмаж, показавшийся ему знакомым. Этот плюмаж неизменно развлекал Николь: он принадлежал г-ну Босиру, переехавшему из Парижа в Трианон.
Николь долгое время была беспощадной; она заставляла г-на Босира дрожать от холода или жариться на солнце, и это ее добродетельное поведение приводило Жильбера в отчаяние. Но настал вечер, когда Босир достиг такого совершенства в языке жестов, что сумел убедить Николь; она воспользовалась минутой, когда Андре обедала в павильоне вместе с герцогиней де Ноай, и последовала за Босиром, помогавшим своему другу, смотрителю конюшни, объезжать ирландскую лошадку.
Со двора они прошли в сад, а из сада — на тенистую аллею, ведущую в Версаль.
Жильбер отправился вслед за влюбленной парой, испытывая жестокую радость идущего по следу тигра. Он сосчитал все их шаги, вздохи, наизусть запомнил долетевшие до него слова; можно себе представить его удовлетворение, если на следующий день он бесстрашно показался, напевая, в окне своей мансарды, и не только не опасался, что его увидит Николь, а, напротив, словно искал ее взгляда.
Николь штопала расшитую шелковую митенку своей хозяйки; при звуке песни она подняла голову и увидела Жильбера.
Она посмотрела на него с презрительным выражением, от которого портится настроение и веет чем-то враждебным… Жильбер выдержал ее взгляд и ее мину с такой странной улыбкой, а в его поведении и его пении было столько вызова, что Николь опустила глаза и покраснела.
«Она поняла, — подумал Жильбер, — это все, что мне было нужно».
С тех пор он начал вести прежний образ жизни, зато теперь трепетала Николь. Она дошла до того, что стала искать встречи с Жильбером, стремясь успокоить сердце, встревоженное насмешливыми взглядами юного садовника.
Жильбер заметил, что она его ищет. Он не мог ошибиться, слыша под окном сухое покашливание Николь в те минуты, когда она наверное знала, что он находится в своей мансарде; он угадывал в коридоре шаги девушки, подстерегавшей его, когда он собирался выйти, или, напротив, подняться к себе.
Некоторое время он торжествовал, приписывая победу своей силе воли и расчетливости. Николь так старательно его выслеживала, что один раз даже увидела, как он поднимается по лестнице к себе в мансарду; она окликнула его, но он не ответил.
Девушка пошла еще дальше в своем любопытстве или в своих опасениях; в один прекрасный вечер она сняла свои туфельки на каблучках, подаренные ей Андре, и, дрожа от страха, устремилась к пристройке, в глубине которой виднелась дверь Жильбера.
Было еще довольно светло, и Жильбер, заслышав шаги Николь, мог отчетливо разглядеть ее в щель между досками.
Она толкнулась в дверь, хорошо зная, что он у себя.
Жильбер не отвечал.
Для него это было опасным искушением. Он мог вволю унижать ту, которая таким образом хотела испросить прощение. Он был одинок, горяч; каждую ночь, когда он приникал глазом к двери, с жадностью пожирая взглядом чарующую красоту этой сладострастницы, его охватывала дрожь при воспоминании о Таверне. Раздразнив свое сластолюбие, он уже поднял руку, чтобы отодвинуть засов, на который он, со свойственной ему подозрительностью, запер дверь, не желая быть захваченным врасплох.
«Нет, — сказал он себе. — У нее есть какой-то расчет. Она пришла ко мне по необходимости или имея какой-нибудь интерес. Она надеется извлечь из этого выгоду. Кто знает, что суждено потерять мне?».
Поразмыслив, он опустил руку. Постучав несколько раз в дверь, Николь удалилась.
Итак, Жильбер сохранил все свои преимущества. Тогда Николь умножила уловки, чтобы не лишиться окончательно своих завоеваний. И наконец ее ответная хитрость привела к тому, что воюющие стороны встретились однажды под вечер около часовни.
— Смотри-ка! Добрый вечер, господин Жильбер! Так вы здесь?
— A-а, здравствуйте, мадемуазель Николь! Вы в Трианоне?
— Как видите: я служанка мадемуазель.
— А я помощник садовника.
Затем Николь присела в изящном реверансе; Жильбер поклонился как настоящий придворный, и они расстались.
Жильбер сделал вид, что поднимается к себе.
Николь вышла из дому. Жильбер бесшумно спустился и пошел за Николь, полагая, что она направляется на свидание к г-ну Босиру.
В тенистой аллее ее действительно ожидал мужчина. Николь подошла к нему. Было уже слишком темно, и Жильбер не мог разглядеть его лица, однако отсутствие плюмажа так его заинтересовало, что он не пошел вслед за Николь обратно к дому, а последовал за мужчиной до самой решетки Трианона.
Это был не Босир, а господин в годах, по виду — знатный сеньор; несмотря на солидный возраст, у него была довольно быстрая походка. Жильбер подошел совсем близко и, забыв осторожность, прошел почти перед его носом; он узнал г-на герцога де Ришелье.
«Вот чертовка! — подумал он. — После капрала-гвардейца — маршал Франции! Мадемуазель Николь повысилась в чине!».
XCVI. ПАРЛАМЕНТЫ.
Пока мелкие интрижки зрели и распускались под тополями и среди цветов Трианона, оживляя в этом тесном мирке существование букашек вроде Николь и Жильбера, в городе начиналась настоящая буря, нависшая над дворцом Фемиды, как образно выражался Жан Дюбарри в письме к сестре.
Парламенты, выродившиеся остатки былой французской оппозиции, вздохнули свободнее, когда к власти пришел капризный Людовик XV. Однако с тех пор, как пал покровитель парламента г-н де Шуазёль, члены парламента почувствовали надвигавшуюся опасность и приготовились, насколько позволят обстоятельства, предотвратить ее самым решительным образом.
Всякое большое потрясение начинается с малого, так же как великие сражения начинаются с отдельных выстрелов.
С той поры как г-н де Ла Шалоте взялся за г-на д’Эгильона, в этой схватке олицетворялась борьба третьего сословия с феодалами, а общественное мнение, уверовав, что так оно и есть, не потерпело бы подмены этого вопроса другим.
Парламенты Бретани и остальной Франции обрушили на короля целый поток представлений, правда более или менее почтительных и смиренных. Однако Людовик XV, по просьбе г-жи Дюбарри назначил г-на д’Эгильона командиром шеволежеров и тем самым в борьбе с третьим сословием поддержал феодальную партию.
Жан Дюбарри дал этому шагу точное определение: это была увесистая пощечина возлюбленным и верным советникам, заседавшим в парламенте.
Как будет принята эта пощечина? Вот какой вопрос обсуждался и при дворе и в городе с раннего утра до позднего вечера.
Члены парламента — ловкие господа: где другие испытывают затруднение, там они чувствуют себя свободно.
Они начали с того, что уговорились между собой, как им следует относиться к полученному оскорблению и какие оно может иметь последствия. Единодушно посчитав, что оскорбление было нанесено и достигло цели, они ответили на него следующим решением:
«Палата парламента обсудит поведение бывшего губернатора Бретани и выразит свое суждение».
Однако король отразил удар, запретив пэрам и принцам отправиться во Дворец правосудия для участия в прениях, касавшихся д’Эгильона; те беспрекословно подчинились.
Тогда парламент, решивший обойтись собственными силами, объявил, что против герцога д’Эгильона выдвигаются серьезные обвинения, что он подозревается в совершении преступлений, могущих запятнать его честь, а потому он временно лишается звания пэра до тех пор, пока собрание пэров не вынесет решение по всей форме и в полном соответствии с законом и королевским указом, не требующим никаких поправок, и пока с г-на д’Эгильона не будут сняты все обвинения и подозрения, порочащие его имя.
Однако такое решение ничего не значило, будучи только провозглашенным на заседании парламента и внесенным в его регистры: необходимо было его обнародовать, сделать достоянием гласности. Нужен был скандал, который во Франции способна была вызвать песенка: куплет приобретал власть над событиями и людьми. Необходимо было сделать обвинение достоянием всемогущего куплета.
Парижу только и надо было скандала. Мало расположенный по отношению к двору, равно как и к парламенту, город находился в постоянном возбуждении и ожидал лишь подходящего повода для смеха, чтобы потом перейти к слезам, причины для которых не иссякали вот уже лет сто.
Итак, решение было вынесено. Парламент назначил уполномоченных, лично отвечавших за распространение этого решения; оно было отпечатано в десяти тысячах экземпляров, разошедшихся в одно мгновение.
Так как надлежало уведомить главное заинтересованное лицо о том, что с ним сделала палата, те же уполномоченные отправились к г-ну герцогу д’Эгильону в его особняк, куда он только что прибыл для неотложного свидания.
Ему необходимо было откровенно объясниться со своим дядюшкой.
Благодаря Рафте весь Версаль одновременно узнал о благородном сопротивлении старого герцога королевскому приказу касательно портфеля г-на де Шуазёля. Вслед за Версалем эта новость облетела Париж, а потом и всю Францию. Таким образом, г-н де Ришелье с некоторых пор был вознесен на щите популярности и с высоты своего нового положения строил политические гримасы г-же Дюбарри и своему дорогому племяннику.
У д’Эгильона, по-прежнему не пользовавшегося популярностью, положение было незавидное. А маршал, хотя его и ненавидели в народе, вызывал трепет, будучи живым воплощением аристократии, что особенно почиталось при Людовике XV. Маршал отличался непостоянством; едва примкнув к какой-либо партии, он сейчас же изменял ей без зазрения совести, как только того требовали обстоятельства или просто ради забавы. Одним словом, Ришелье был ненавистником постоянства.
Поэтому он был опасным противником, и хуже всего для врагов маршала было то, что он сам называл сюрпризами.
Со времени встречи с г-жой Дюбарри в броне герцога д’Эгильона появилось два слабых места. Догадываясь, что Ришелье скрывает озлобление и жажду мести за внешним спокойствием, он совершил то, что следовало бы предпринять лишь в том случае, если бы буря уже разразилась: уверенный в том, что потери будут меньше, если смело взяться за дело, он решил нанести удар.
Итак, он стал всюду искать встречи со своим дядюшкой для важного разговора. Однако это оказалось невозможным с тех пор, как маршал пронюхал о его намерении.
Начались бесконечные уловки: стоило маршалу завидеть своего племянника, он издалека посылал ему улыбку и тотчас окружал себя такими людьми, в чьем присутствии говорить было совершенно немыслимо. Так он избегал своего врага, словно прячась от него в неприступной крепости.
Герцог д’Эгильон пошел напролом. Он отправился к дядюшке в его версальский особняк. Однако у небольшого окошка, выходившего во двор, дежурил Рафте. Он узнал лакеев герцога и предупредил хозяина.
Герцог дошел до спальни маршала, нашел там Рафте, и тот, улыбаясь, под большим секретом сообщил племяннику, что дядюшка не ночевал дома.
Господин д’Эгильон прикусил губу и удалился.
Вернувшись к себе, он написал маршалу письмо с просьбой его принять.
Маршал не мог оставить письмо без ответа. Не мог он также в случае ответа отказать в аудиенции. А если он согласится принять д’Эгильона, то как уйти от объяснения? Д’Эгильон напоминал вежливого, любезного бретёра, который скрывает дурные намерения под изысканной вежливостью, с поклонами выводит врага на место дуэли и там безжалостно перерезает ему горло.
Маршал был не настолько самоуверен, чтобы обольщаться на его счет, он знал силу своего племянника. Столкнувшись с ним лицом к лицу, этот противник способен был вырвать у него либо прощение, либо уступку. Однако Ришелье никогда ничего не прощал, ведь уступки врагу — чудовищная политическая ошибка.
Вот почему, получив письмо д’Эгильона, он объявил, что на несколько дней уезжает из Парижа.
Рафте, у которого он спросил совета, сказал ему следующее:
— Мы по пути к тому, чтобы уничтожить господина д’Эгильона. Наши друзья в парламенте этим занимаются. Если господину д’Эгильону, который об этом подозревает, удастся напасть на вас раньше, чем разразится скандал, он вырвет у вас обещание помочь ему в случае несчастья: как бы вы ни были злопамятны, вы не можете открыто пренебречь интересами семьи. Если же вы ему откажете, господин д’Эгильон уйдет, назвав вас своим врагом, и припишет вам все свои неприятности. Он почувствует облегчение, как бывает всякий раз, когда найдена причина болезни, даже если болезнь неизлечима.
— Совершенно верно, — согласился Ришелье. — Однако я не могу скрываться вечно. Сколько еще ждать скандала?
— Шесть дней, монсеньер.
— Это точно?
Рафте вынул из кармана письмо от советника парламента. Оно состояло всего из трех строк:
«Принято решение о вынесении приговора. Это произойдет в четверг — в крайний срок, назначенный собранием».
— В таком случае нет ничего проще, — заметил маршал. — Отошли герцогу назад его письмо, сопроводив его запиской:
«Господин герцог!
Сообщаю Вам о том, что господин маршал уехал в ***. Доктор господина маршала настоятельно советовал ему сменить обстановку. Он находит, что господин маршал очень утомлен. Если, судя по тому, что я имел честь услышать от Вас третьего дня, Вы желаете переговорить с господином маршалом, я могу Вас заверить, что в четверг вечером герцог, вернувшись из ***, будет ночевать в своем парижском особняке. Вы сможете его там застать».
— А теперь, — прибавил маршал, — спрячь меня где-нибудь до четверга.
Рафте в точности исполнил все указания. Записка была отправлена, укромное место найдено. Но изнывающий от скуки герцог де Ришелье однажды вечером отправился в Трианон поговорить с Николь. Он ничем не рисковал или полагал, что ничем не рискует, так как знал, что г-н д’Эгильон находится в замке Люсьенн.
Таким образом, если бы даже г-н д’Эгильон и заподозрил неладное, он все равно не мог бы предотвратить угрожавший ему удар, потому что не мог скрестить с противником шпаги.
Встреча в четверг была вполне ему по душе. В этот день он покинул Версаль в надежде наконец встретиться и сразиться с неуловимым дядюшкой.
Как мы уже говорили, в этот день парламент вынес свое решение.
В городе постепенно начиналось брожение, так хорошо знакомое любому парижанину, безошибочно определяющему высоту волны.
На карету д’Эгильона, следовавшую по парижским улицам, не обратили внимания: он из осторожности ехал в экипаже без гербов в сопровождении двух доверенных слуг, словно следовал на свидание.
Он видел то здесь, то там обеспокоенных людей, передававших друг другу лист бумаги; они читали его, отчаянно размахивая руками, собирались группками, подобно муравьям, сползающимся на оброненный кусок сахару. Впрочем, это было время безобидных волнений: народ точно так же собирался, обсуждал цены на хлеб, статью в «Голландской газете», четверостишие Вольтера или песенку против Дюбарри или г-на Мопу.
Господин д’Эгильон направился прямо к г-ну Ришелье, где застал только Рафте.
— Мы ожидаем господина маршала с минуты на минуту, — сообщил Рафте. — Он, вероятно, задерживается из-за перемены лошадей у городской заставы.
Д’Эгильон решил подождать маршала, выразив неудовольствие Рафте, потому что принял его извинение как свое новое поражение.
Еще большее неудовольствие вызвал у него ответ Рафте. Секретарь сообщил, что маршал будет в отчаянии, когда вернется и узнает, что д’Эгильона заставили ждать. Кроме того, должно быть, он не станет ночевать в Париже, как было условлено первоначально; несомненно, он вернется из загородной поездки не один и лишь заедет в парижский особняк за новостями. Поэтому герцогу д’Эгильону лучше было бы вернуться к себе, куда маршал непременно заглянет по дороге.
— Послушайте, Рафте! — обратился к нему д’Эгильон, выслушав путаные объяснения секретаря с мрачным видом. — Вы совесть моего дядюшки. Ответьте мне как честный человек. Меня обманули, ведь правда? Господин маршал не желает меня видеть? Не перебивайте меня, Рафте! У вас часто находился для меня хороший совет, и я был для вас тем, чем могу еще быть в будущем: добрым другом. Следует ли мне возвратиться в Версаль?
— Господин герцог! Клянусь честью, вы сможете меньше чем через час принять господина маршала у себя.
— Но тогда мне лучше подождать его здесь, раз герцог все-таки приедет.
— Я имел честь доложить вам, что герцог, возможно, прибудет не один.
— Понимаю… и полагаюсь на ваше слово, Рафте.
С этими словами герцог вышел с задумчивым видом однако не теряя достоинства и любезного выражения, чего нельзя сказать о маршале, появившемся из-за застекленной двери кабинета после отъезда племянника.
Улыбавшийся маршал напоминал злого демона из тех, какими Калло населил свои «Искушения».
— Он ни о чем не догадывается, Рафте? — спросил Ришелье.
— Ни о чем, монсеньер.
— Который теперь час?
— Время не имеет значения, монсеньер. Надо ждать, пока прибудет наш маленький прокурор из Шатле. Уполномоченные находятся пока в типографии.
Не успел Рафте договорить, как лакей ввел через потайную дверь грязного человечка, некрасивого, чумазого, одного из тех ловких судейских крючков, к которым г-н Дюбарри испытывал сильнейшую неприязнь.
Рафте подтолкнул маршала к кабинету, а сам с улыбкой пошел навстречу этому господину.
— A-а, это вы, метр Флажо! — проговорил он. — Очень рад вас видеть.
— Ваш покорный слуга, господин де Рафте! Ну что ж, дело сделано!
— Все отпечатано?
— Пять тысяч уже готово. Первые экземпляры ходят по рукам, другие сохнут.
— Какое несчастье! Дорогой господин Флажо! Какое отчаяние постигнет семейство господина маршала!
Избегая ответа, потому что ему не хотелось лицемерить, г-н Флажо достал из кармана большую серебряную табакерку и, не торопясь, взял щепотку испанского табаку.
— Что же дальше? — продолжал Рафте.
— Остались формальности, дорогой господин де Рафте. Когда господа уполномоченные будут уверены, что достаточное количество экземпляров отпечатано и распространено, они сядут в ожидающую их у дверей типографии карету и отправятся для объявления решения к господину герцогу д’Эгильону, который, к счастью, — ах, простите, к несчастью, господин Рафте! — находится сейчас в своем парижском особняке, где они смогут с ним переговорить.
Рафте сделал резкое движение, достал со шкафа огромный мешок с бумагами по судопроизводству и передал его метру Флажо:
— Вот бумаги, о которых я вам говорил, сударь. Господин маршал всецело вам доверяет и поручает вам это дело, обещающее выгоду. Благодарю вас за услуги в прискорбном столкновении господина д’Эгильона с всемогущим парижским парламентом. Благодарю за ваши мудрые советы.
И он легко, но с некоторой торопливостью подтолкнул к двери в приемную метра Флажо, довольного только что полученным пухлым досье. Затем Рафте тотчас освободил маршала из заточения.
— А теперь, монсеньер, садитесь в карету! Вам не стоит терять времени, если вы желаете стать свидетелем представления. Постарайтесь, чтобы ваши лошади опередили лошадей господ уполномоченных.
XCVII. ГЛАВА, ИЗ КОТОРОЙ ЯВСТВУЕТ, ЧТО ПУТЬ К МИНИСТЕРСКОМУ ПОРТФЕЛЮ ОТНЮДЬ НЕ УСЫПАН РОЗАМИ.
Лошади г-на де Ришелье опередили лошадей господ уполномоченных: маршал первым въехал во двор особняка д’Эгильона.
Герцог уже не ждал дядюшку и собирался уехать в Люсьенн, чтобы сообщить графине Дюбарри, что враг сбросил маску. Но, когда швейцар доложил о прибывшем маршале, в его оцепеневшей душе проснулась надежда.
Герцог бросился навстречу дядюшке и взял его за руки с выражением нежности, равной пережитому им страху.
Маршал поддался волнению герцога: картина была трогательной. Однако чувствовалось, что г-н д’Эгильон спешил с объяснениями, в то время как маршал изо всех сил их оттягивал, то рассматривая картину, то любуясь бронзовой статуэткой или гобеленом, жалуясь при этом на смертельную усталость.
Герцог отрезал дядюшке пути к отступлению, загнав его в кресло, как г-н де Виллар запер принца Евгения в Маршьенне, чтобы атаковать его.
— Дядюшка! — сказал он. — Неужели вы, умнейший человек Франции, могли подумать обо мне так дурно и не поверили, что если я способен на эгоистический поступок, то только в наших общих с вами интересах?
Отступать было некуда. Ришелье был вынужден высказаться.
— О чем ты говоришь? — возразил он. — И с чего ты взял, что я думаю о тебе хорошо или дурно, дорогой мой?
— Дядюшка, вы на меня сердитесь.
— Я? Да за что?
— К чему эти уловки, господин маршал? Избегаете меня, когда вы так мне нужны! Вот и все.
— Клянусь вам, я ничего не понимаю.
— Сейчас я вам все объясню. Король не пожелал назначить вас министром, и, раз я согласился принять на себя командование шеволежерами, вы предполагаете, что я вас покинул, предал. Дорогая графиня питает к вам нежные чувства…
Ришелье насторожился, но не только от того, что услышал от племянника.
— Так ты говоришь, что дорогая графиня питает ко мне нежные чувства? — повторил он.
— Я могу это доказать.
— Я не спорю, дорогой мой… Я и взял тебя тогда с собой, чтобы помочь выдвинуться. Ты моложе и, стало быть, сильнее; ты преуспеваешь — я терплю неудачу; это в порядке вещей, и, могу поклясться, я не понимаю, почему тебя мучают угрызения совести; если ты действовал в моих интересах, ты сто раз это уже доказал; если ты действовал против, что ж… я отвечу тебе тем же… Так нужны ли нам объяснения?
— Дядюшка! По правде говоря…
— Ты просто младенец, герцог. У тебя прекрасное положение: пэр Франции, герцог, командующий королевскими шеволежерами, через полтора месяца будешь министром — ты должен быть выше всяких мелочей; победителей не судят, дорогой мой. Вообрази… я очень люблю притчи… вообрази, что мы с тобой — два мула из басни… Однако что там за шум?
— Вам показалось, дядюшка. Продолжайте!
— Да нет же, я слышу, что во двор въехала карета.
— Дядюшка, не прерывайтесь, прошу вас! Ваш рассказ меня чрезвычайно интересует, я тоже люблю притчи.
— Так вот, дорогой мой, я хотел тебе сказать, что, пока ты процветаешь, никто не посмеет ни в чем тебя упрекнуть; тебе не нужно опасаться завистников. Однако стоит тебе оступиться, споткнуться, и… Ах, черт возьми, вот тут-то и берегись нападения волка! Стой! А ведь я был прав, в твоей приемной — шум, тебе, вероятно, привезли портфель… Графиня, должно быть, славно потрудилась для тебя в алькове.
Вошел лакей.
— Господа уполномоченные парламента! — в беспокойстве объявил он.
— Вот тебе раз! — воскликнул Ришелье.
— Что здесь нужно уполномоченным парламента? — спросил герцог, ничуть не ободренный улыбкой дядюшки.
— Именем короля! — раздался звонкий и громкий незнакомый голос в тишине приемной.
— Ого! — вскричал Ришелье.
Бледный г-н д’Эгильон пошел к порогу гостиной навстречу двум уполномоченным, за ними показались двое невозмутимых судебных исполнителей, а за ними на некотором расстоянии — целая толпа перепуганных лакеев.
— Что вам угодно? — спросил взволнованный герцог.
— Мы имеем честь говорить с господином герцогом д’Эгильоном? — спросил один из уполномоченных.
— Да, господа, я герцог д’Эгильон.
В ту же секунду уполномоченный с низким поклоном достал из-за пояса составленную по всей форме бумагу и прочел громко и отчетливо.
Это было обстоятельное решение, подробное, полное; в нем выдвигались тяжелые обвинения против герцога д’Эгильона и выражались подозрения в преступлениях, затрагивавших его честь; исполнение герцогом обязанностей пэра королевства приостанавливалось.
Герцог слушал это постановление как громом пораженный. Он стоял не шевелясь, подобно статуе, застывшей на пьедестале, и даже не протянул руки, чтобы взять у уполномоченного копию решения.
Бумагу взял маршал. Он выслушал постановление также стоя, однако выглядел бодро и был оживлен. Прочтя документ, он поклонился господам уполномоченным.
Они уже давно ушли, а герцог по-прежнему находился в оцепенении.
— Тяжелый удар! — проговорил Ришелье. — Ты больше не пэр Франции — это унизительно.
Герцог повернулся к дяде с таким видом, словно только сейчас к нему вернулась жизнь вместе со способностью мыслить.
— Ты этого не ожидал? — удивился Ришелье.
— А вы, дядюшка? — спросил д’Эгильон.
— Как я мог предвидеть, что парламент нанесет такой страшный удар любимцу короля и фаворитки?.. Эти господа рискуют головой.
Герцог сел, прижав руку к пылавшей щеке.
— Только вот если парламент лишает тебя звания пэра в ответ на назначение командующим шеволежерами, — продолжал старый маршал, вонзая кинжал в открытую рану, — то он приговорит тебя к заключению и сожжению на костре в тот день, когда ты будешь назначен министром. Эти господа тебя ненавидят, д’Эгильон, остерегайся их.
Герцог героически перенес эту отвратительную насмешку: несчастье его возвышало, оно очищало душу.
Ришелье принял его стойкость за бесчувственность, даже за тупость; он подумал, что его уколы слишком слабы.
— Не будучи пэром, — продолжал он, — ты перестанешь быть бельмом на глазу у этих судейских крючков… Уйди на несколько лет в неизвестность. Кстати, видишь ли, неизвестность — это твое спасение, оно придет к тебе так, что ты и не заметишь этого. Будучи лишен звания пэра, ты почувствуешь, что тебе труднее стать министром, это выбьет тебя из седла. Впрочем, если ты хочешь бороться, друг мой, что ж, у тебя в распоряжении графиня Дюбарри; она питает к тебе нежные чувства, а это надежная опора.
Господин д’Эгильон встал. Он даже не удостоил маршала злобного взгляда в ответ на те страдания, которые старик только что заставил его вынести.
— Вы правы, дядюшка, — спокойно отвечал он, — и в последнем вашем совете чувствуется мудрость. Графиня Дюбарри, которой вы любезно меня представили, к кому советуете мне обратиться и которой вы сказали обо мне столько хорошего и так горячо, что любой в Люсьенне может это подтвердить, графиня Дюбарри меня защитит. Слава Богу, она меня любит, она смелая, имеет влияние на его величество. Благодарю вас, дядюшка, за совет, я укроюсь там, как в спасительном порту во время бури. Лошадей! Бургиньон, в Люсьенн!
На губах маршала застыла улыбка.
Господин д’Эгильон почтительно поклонился дядюшке и вышел из гостиной, оставив маршала сильно озадаченным, больше того — в смущении от того, с каким озлоблением он вцепился в благородную и живую плоть.
Старый маршал почувствовал некоторое утешение, видя безумную радость парижан, когда вечером они читали на улице десять тысяч экземпляров постановления, вырывая его друг у друга из рук. Однако он не мог сдержать вздоха, когда Рафте спросил у него отчет о вечере.
Маршал рассказал ему все, ничего не утаив.
— Значит, удар отражен? — спросил секретарь.
— И да и нет, Рафте; рана оказалась несмертельной; но у нас есть в Трианоне кое-что получше, и я сожалею, что не посвятил себя этому целиком. Мы гнались за двумя зайцами, Рафте… Это безумие…
— Почему же, если поймать лучшего? — возразил Рафте.
— Ах, дорогой мой, вспомни, что лучший всегда тот, который убежал, а ради того, чего у нас нет, мы готовы пожертвовать другим, то есть тем, что держишь в руках.
Рафте пожал плечами, хотя герцог был недалек от истины.
— Вы полагаете, — спросил он, — что господин д’Эгильон выйдет из этого положения?
— А ты полагаешь, что король из него выйдет, болван?
— О! Король всюду отыщет лазейку, но речь идет не о короле, насколько я понимаю.
— Где пройдет король, там пройдет и графиня Дюбарри, ведь она держится поблизости от короля… А где пройдет Дюбарри, там пройдет и д’Эгильон… Да ты ничего не смыслишь в политике, Рафте!
— А вот метр Флажо другого мнения, монсеньер.
— Ну, хорошо! И что же говорит метр Флажо? Да и что он сам за птица?
— Он прокурор, ваша светлость.
— Что же дальше?
— А то, что господин Флажо утверждает, будто король не выпутается.
— Ого! Что может помешать льву?
— По-моему, крыса, монсеньер!..
— А крыса — это метр Флажо?
— Он так говорит.
— И ты ему веришь?
— Я всегда готов поверить прокурору, который обещает напакостить.
— Посмотрим, что может сделать метр Флажо.
— Посмотрим, ваша светлость.
— Иди ужинать, а я пойду лягу… Я совершенно потрясен тем, что мой племянник больше не пэр Франции и не станет министром. Дядя я ему или нет, Рафте?
Герцог де Ришелье повздыхал, а потом рассмеялся.
— У вас есть все, чтобы стать министром, — заметил Рафте.
XCVIII. ГЕРЦОГ Д’ЭГИЛЬОН ОТЫГРЫВАЕТСЯ.
На следующий день после того, как Париж и Версаль были потрясены новостью о грозном решении парламента, когда все только и ждали, что же последует за постановлением, герцог де Ришелье отправился в Версаль и продолжал там вести привычный образ жизни. Рафте вошел к нему с письмом в руке. Секретарь обнюхивал и взвешивал на руке конверт с беспокойством, которое немедленно передалось хозяину.
— Что там еще, Рафте? — спросил маршал.
— Что-то малоприятное, как мне представляется, ваша светлость, и заключено оно вот здесь, внутри.
— Почему ты так думаешь?
— Потому что это письмо от герцога д’Эгильона.
— Ага! От моего племянника? — спросил герцог.
— Да, господин маршал. Выйдя из кабинета короля, где заседал совет, лакей подошел ко мне и передал это письмо. И вот я так и этак верчу его уже минут десять и никак не могу отделаться от мысли, что в нем какая-то дурная новость.
Герцог протянул руку.
— Дай сюда! — приказал он. — Я храбрый!
— Должен вас предупредить, — остановил его Рафте, — что, передавая эту бумагу, лакей хохотал до упаду.
— Дьявольщина! Вот это действительно настораживает… Все равно давай! — сказал маршал.
— Он еще прибавил: «Господин герцог д’Эгильон советует господину маршалу прочесть это послание незамедлительно».
— Боль, ты не заставишь меня сказать, что ты зло! — вскричал старый маршал, твердой рукой сломав печать.
Он прочел письмо.
— Эге!.. Вы изменились в лице, — проговорил Рафте, заложив руки за спину и наблюдая за герцогом.
— Неужели это возможно? — пробормотал Ришелье, продолжая читать.
— Кажется, это серьезно?
— А ты доволен?
— Разумеется, я вижу, что не ошибся.
Маршал перечитал письмо.
— Король добр, — заметил он через мгновение.
— Он назначил господина д’Эгильона министром?
— Еще лучше!
— Ого! Так что же?
— Прочти и скажи свое мнение.
Рафте в свою очередь стал читать письмо. Оно было написано рукой герцога д’Эгильона и содержало в себе следующее:
«Дорогой дядюшка!
Ваш добрый совет принес свои плоды: я рассказал о своих неприятностях дорогому другу нашего дома, госпоже графине Дюбарри, а она довела их до сведения его величества. Король возмутился насилием, учиненным господами из парламента надо мной, человеком, честно исполнявшим свой долг. Сегодня же его величество отменил решение парламента и предписал мне продолжать носить звание пэра Франции.
Дорогой дядюшка! Зная, какое удовольствие Вам доставит эта новость, посылаю Вам снятую секретарем копию решения его величества, принятого на сегодняшнем совете. Вы узнаёте о нем раньше всех.
Примите уверения в моем искреннем уважении, дорогой дядюшка; надеюсь, что Вы не оставите меня и в будущем, оказывая милости и подавая мудрые советы.
Подписано: Герцог Д’Эгильон».— Он, помимо всего прочего, еще и смеется надо мной! — вскричал Ришелье.
— Клянусь честью, вы правы, монсеньер.
— Король, сам король влез в это осиное гнездо!
— А вы еще вчера не хотели в это поверить.
— Я не говорил, что он туда не полезет, господин Рафте, я сказал, что он выпутается… И вот, как видишь, он выпутался.
— Да, парламент проиграл.
— И я вместе с ним.
— Сейчас — да.
— Навсегда! Я еще вчера это предчувствовал, а ты меня утешал, как будто никаких неприятностей вообще не могло произойти.
— Монсеньер! Как мне представляется, вы слишком рано отчаиваетесь.
— Господин Рафте, вы глупец! Я проиграл и заплачу за это. Вы, может быть, не понимаете, как мне неприятно быть посмешищем в замке Люсьенн. В эту самую минуту герцог смеется надо мной в объятиях графини Дюбарри. Мадемуазель Шон и господин Жан Дюбарри тоже зубоскалят по моему адресу. Негритенок лопает конфеты и подшучивает надо мной. Черт побери! Я человек добрый, но все это приводит меня в бешенство!
— В бешенство, монсеньер?
— Да, именно в бешенство!
— В таком случае, не надо было делать того, что вы сделали, — глубокомысленно заметил Рафте.
— Вы сами меня на это толкнули, господин секретарь.
— Я?
— Вы.
— А мне-то что за дело, будет герцог д’Эгильон пэром Франции или не будет? Я вас спрашиваю, монсеньер? Мне как будто не за что обижаться на вашего племянника.
— Господин Рафте! Вы наглец!
— Я уже сорок девять лет от вас это слышу, монсеньер.
— И еще услышите.
— Только не сорок девять лет, вот что меня утешает.
— Вот как вы отстаиваете мои интересы, Рафте!
— Интересы, побужденные вашими мелкими страстями, я не отстаиваю никогда, господин герцог… Как бы вы ни были умны, вам иногда случается делать глупости, которые я не простил бы даже такому болвану, как я.
— Объяснитесь, господин Рафте, и если я пойму, что не прав, то признаю свою ошибку.
— Вчера вам захотелось отомстить, ведь правда? Вы пожелали увидеть унижение вашего племянника. Вы захотели в некотором смысле сами вынести решение парламента по его делу и насладиться зрелищем агонизирующей жертвы, как сказал бы Кребийон-сын. Ну что же, господин маршал, такие зрелища, такие удовольствия дорого стоят… Вы богаты, так платите, господин маршал, платите!
— Что бы вы предприняли на моем месте, господин мыслитель? Ну?
— Ничего… Я стал бы ждать, не подавая признаков жизни. Но вам не терпелось настроить парламент против графини Дюбарри с той минуты, как Дюбарри предпочла вам более молодого д’Эгильона.
Вместо ответа маршал проворчал что-то себе под нос.
— И парламент, — продолжал Рафте, — сделал то, что вы ему подсказали. Когда его определение было обнародовано, вы предложили свои услуги ничего не подозревавшему племяннику.
— Все это прекрасно, и я готов согласиться, что был не прав. Однако вы должны были меня предупредить…
— Чтобы я помешал совершить зло?.. Вы меня принимаете за кого-то другого, господин маршал. Вы каждому встречному повторяете, что создали меня по своему образу и подобию, что вы меня выдрессировали; вы хотите, чтобы я не приходил в восторг из-за того, что кто-то делает глупость или что с кем-то случается несчастье?..
— Так несчастье должно случиться, господин колдун?
— Несомненно.
— Какое?
— Вы заупрямитесь, а герцогу д’Эгильону тем временем удастся помирить парламент с графиней Дюбарри. В этот день он станет министром, а вы отправитесь в изгнание… или в Бастилию.
От возмущения маршал просыпал на ковер все содержимое своей табакерки.
— В Бастилию? — переспросил он, пожав плечами. — Разве мы живем при Людовике Четырнадцатом, а не при Людовике Пятнадцатом?
— Нет! Однако графиня Дюбарри вдвоем с герцогом д’Эгильоном стоят госпожи де Ментенон. Берегитесь! Я не знаю сегодня ни одной принцессы крови, которая бы стала приносить вам в тюрьму конфеты и гусиную печенку.
— Вот так предсказания! — заметил маршал после долгого молчания. — Вы читаете в книге будущего, ну а что в настоящем?
— Господин маршал слишком мудр, чтобы ему советовать.
— Скажи-ка, господин шут, уж не собираешься ли и ты надо мной посмеяться?..
— Осторожно, господин маршал, не забывайте о возрасте; нельзя так называть человека, которому перевалило за сорок, а мне ведь уже шестьдесят семь лет.
— Ну, это пустяки… Помоги мне выйти из этого положения и… скорее, скорее!..
— Помочь советом?
— Чем хочешь.
— Еще не время.
— Ты определенно шутишь?
— Боже сохрани!.. Если бы я хотел пошутить, я выбрал бы для этого другое время. К несчастью, теперь не до шуток.
— Что означает это поражение? Оно подоспело не вовремя?
— Да, ваша светлость, не вовремя. Если весть об отмене приговора дошла до Парижа, я не отвечаю за… Может быть, послать курьера к президенту д’Алигру?
— Чтобы над нами посмеялись еще раньше?..
— При чем здесь самолюбие, господин маршал? Тут бы и святой потерял голову… Послушайте! Позвольте мне закончить мой план высадки войск в Англии, а сами постарайтесь выкарабкаться из этой интриги, связанной с портфелем, потому что половина дела уже сделана.
Маршал знал, что временами Рафте бывал не в духе. Он знал, что, когда его секретарь впадал в меланхолию, ею лучше было не раздражать.
— Ну, не сердись на меня, — сказал он. — Если я чего-нибудь не понимаю, объясни мне.
— Значит, монсеньер желает, чтобы я набросал приблизительный план поведения?
— Вот именно, раз ты утверждаешь, что я не умею себя вести.
— Ну что ж, пусть будет так! Слушайте!
— Слушаю.
— Вы должны послать господину д’Алигру, — ворчливо начал Рафте, — письмо герцога д’Эгильона, присовокупив копию решения об отмене приговора, принятого королем на совете. Дождитесь, пока парламент соберется для обсуждения и примет решение — это произойдет очень скоро. Тогда садитесь в карету и поезжайте с визитом к вашему поверенному, метру Флажо.
— Как? — вскричал Ришелье; это имя заставило его подпрыгнуть, как и накануне. — Опять господин Флажо! Какое метру Флажо до всего этого дело и какого черта я поеду к метру Флажо?
— Как я имел честь сообщить вашей светлости, метр Флажо — ваш поверенный.
— Ну и что же?
— Раз он ваш поверенный, у него ваши бумаги… касающиеся каких-нибудь процессов… И вы поедете для того, чтобы поинтересоваться, как идут ваши дела.
— Завтра?
— Да, господин маршал, завтра.
— Но это же ваше дело, господин Рафте.
— Вовсе нет, вовсе нет… Так было, когда метр Флажо был простым писцом. Тогда я мог разговаривать с ним как с равным. Но с завтрашнего дня метр Флажо становится Аттилой, бичом королей, ни больше ни меньше; с таким всемогущим господином должен беседовать только герцог, пэр и маршал Франции.
— Ты это все серьезно или опять ломаешь комедию?
— Завтра вы сами увидите, насколько это серьезно, монсеньер.
— Ты мне растолкуй, что со мной будет у твоего метра Флажо.
— Мне бы этого не хотелось… Ведь вы завтра станете мне доказывать, что все предугадали заранее… Спокойной ночи, господин маршал! Запомните следующее: сейчас же послать курьера к господину д’Алигру, а завтра поезжайте к метру Флажо. Ах да, адрес… Впрочем, кучер знает, в течение этой недели он возил меня туда не раз.
XCIX. ГЛАВА, В КОТОРОЙ ЧИТАТЕЛЬ СНОВА ВСТРЕТИТСЯ СО СВОЕЙ СТАРОЙ ЗНАКОМОЙ, ПОТЕРЯННОЙ ИМ ИЗ ВИДУ, ВОЗМОЖНО, БЕЗ ОСОБЫХ СОЖАЛЕНИЙ.
Читатель нас, без сомнения, спросит, почему Флажо, собирающийся сыграть столь величественную роль, был нами назван прокурором, а не адвокатом. И читатель был бы прав; мы сейчас ответим на этот вопрос.
Парламент с недавнего времени был распущен на каникулы, и у адвокатов было так мало работы, что не стоило о ней и говорить.
Предвидя наступление времени, когда защищать и вовсе будет некого, метр Флажо заключил соглашение с прокурором Гильду; тот уступил ему и контору и клиентуру за двадцать пять тысяч ливров, выплаченных единовременно. Вот как метр Флажо оказался прокурором. Если нас спросят, где он взял двадцать пять тысяч ливров, мы можем ответить, что он женился на мадемуазель Маргарите, получившей эту сумму в наследство. Это произошло в конце тысяча семьсот семидесятого года за три месяца до изгнания г-на де Шуазёля.
Метр Флажо уже давно выказал себя ярым сторонником оппозиции. Став прокурором, он оказался еще неистовее и благодаря этой горячности приобрел некоторую известность. Эта известность вкупе с опубликованием зажигательной статьи о столкновении герцога д’Эгильона с г-ном де Ла Шалоте привлекла к нему внимание Рафте, который во что бы то ни стало хотел быть в курсе парламентских событий.
Однако, несмотря на новое звание и возросшую известность, метр Флажо остался жить на улице Пти-Лион-Сен-Совер. Было бы слишком жестоко не дать мадемуазель Маргарите порадоваться тому, что прежние соседки называют ее госпожой Флажо, и не дать ей насладиться почтительностью писцов метра Гильду, перешедших на службу к новому прокурору.
Нетрудно догадаться, как страдал г-н де Ришелье, проезжая через зловонный в этой части Париж, добираясь до вонючей дыры, которую парижские городские власти нарекли громким именем улицы.
Перед дверью метра Флажо карета г-на де Ришелье столкнулась с другой каретой.
Маршал заметил в ней высокую женскую прическу, и так как, несмотря на семидесятипятилетний возраст, он оставался галантным кавалером, то поспешил ступить ногой в грязь, чтобы предложить руку даме, выходившей из кареты без чьей-либо помощи.
Однако в этот день маршалу не везло: на подножку ступила сухая бугорчатая нога старухи. Морщинистое лицо, темно-коричневое под толстым слоем румян, окончательно убедило его в том, что это даже не пожилая дама, а дряхлая старуха.
Впрочем, отступать было некуда; маршал сделал движение, и движение было замечено. Господин де Ришелье и сам был немолод. Однако сутяга — а какая еще женщина могла бы прибыть в карете на эту улицу, если не сутяга? — в отличие от герцога, не колеблясь и с улыбкой, от которой становилось жутко, оперлась на руку Ришелье.
«Где-то я уже видел это лицо», — подумал герцог, а вслух прибавил:
— Сударыня тоже желает подняться к метру Флажо?
— Да, герцог, — отвечала старуха.
— Я имею честь быть вам знакомым, сударыня? — вскричал неприятно удивленный герцог и остановился у грязного подъезда.
— Кто же не знает господина маршала, герцога де Ришелье? — ответила старуха. — Для этого пришлось бы забыть, что я женщина.
«Неужели эта мартышка считает себя женщиной?» — подумал покоритель Маона и согнулся в изящнейшем поклоне.
— Осмелюсь задать вопрос, с кем имею честь говорить?
— Графиня де Беарн, к вашим услугам, — отвечала старуха, приседая в реверансе на грязной дощатой мостовой в трех дюймах от откинутой крышки погреба, в котором, как злорадно надеялся про себя маршал, старуха должна была вот-вот исчезнуть после третьего приседания.
— Очень приятно, сударыня, я в восторге, — проговорил он, — благодарю судьбу за счастливый случай. — Так у вас тоже процессы, графиня?
— Ах, герцог, у меня всего один процесс, но какой! Не может быть, чтобы вы о нем не слыхали!
— Разумеется, разумеется, этот большой процесс… Вы правы, простите. Ах, черт, забыл только, с кем вы судитесь…
— С Салюсами.
— Да, да, с Салюсами, графиня. Об этом процессе еще сочинили куплет…
— Куплет?.. — раздраженно спросила старуха. — Какой еще куплет?
— Осторожно, графиня, не упадите, — предупредил герцог, с огорчением отметив, что старуха так и не свалилась в яму. — Держитесь за перила, вернее, за веревку.
Старуха первой стала подниматься по ступенькам. Герцог последовал за ней.
— Да, довольно смешной куплет, — продолжал он.
— Смешной куплет о моем процессе?..
— Бог мой, вы сами можете оценить!.. Да вы, может быть, его знаете?..
— Ничего я не знаю.
— Поется на мотив «Прекрасной Бурбоннезки»:
— Вы понимаете, что это говорит графиня Дюбарри.
— Как это оскорбительно для нее!..
— Что вы хотите! Эти куплетисты… Для них нет ничего святого. Боже, до чего засалена веревка! А вы на это отвечаете:
— Это ужасно! — вскричала графиня. — Нельзя так оскорблять благородную женщину!
— Прошу прощения, графиня, если я спел фальшиво: я задыхаюсь на лестнице… Ну вот мы и пришли. Позвольте, я подергаю за ручку двери.
Старуха с ворчанием пропустила герцога вперед.
Маршал позвонил. Хотя г-жа Флажо стала женой прокурора, в ее обязанности по-прежнему входило отворять дверь и готовить еду. Она впустила посетителей и проводила их в кабинет Флажо.
Сутяги обнаружили здесь разгневанного хозяина, изощрявшегося с пером в зубах, диктуя ужасный обличительный текст своему первому писцу.
— Боже мой! Метр Флажо! Что же это творится? — вскричала графиня.
Прокурор обернулся на ее голос.
— A-а, графиня! Ваш покорный слуга! Стул графине де Беарн! Этот господин с вами, графиня?.. Э-э, господин герцог де Ришелье, если не ошибаюсь? У меня?.. Еще стул, Бернарде, давай сюда еще один стул.
— Метр Флажо! — заговорила графиня. — Прошу вас сказать, в каком состоянии мой процесс?!
— Ах, графиня! Я как раз только что занимался вами.
— Прекрасно, метр Флажо, прекрасно!
— Думаю, графиня, что он наделает много шуму, я на это надеюсь.
— Хм! Будьте осторожны…
— Что вы, графиня, теперь нечего опасаться.
— Если вы занимаетесь моим делом, то можете сначала дать аудиенцию господину герцогу.
— Господин герцог, простите меня, — смутился Флажо, — однако вы слишком галантны, чтобы не понять…
— Понимаю, метр Флажо, понимаю.
— Теперь я весь к вашим услугам.
— Будьте покойны, я у вас много времени не отниму: вы знаете, что меня к вам привело.
— Бумаги, которые передал мне третьего дня господин Рафте.
— Да, некоторые документы, касающиеся моего процесса с… моего процесса о… А черт! Должны же вы знать, какой процесс я имею в виду, метр Флажо.
— Ваш процесс о землях в Шапна.
— Не спорю. Могу ли я надеяться с вашей помощью на успех? Это было бы весьма любезно с вашей стороны.
— Господин герцог! Это дело отложено на неопределенный срок.
— Почему же?
— Дело будет слушаться не раньше, чем через год, самое раннее.
— На каком основании, скажите на милость?
— Обстоятельства, господин герцог, обстоятельства… Вы знаете об указе его величества?..
— Думаю, что знаю… О каком именно вы говорите? Его величество часто издает указы.
— Я имею в виду тот, который отменяет наше решение.
— Прекрасно! Ну и что же?
— А то, господин герцог, что мы в ответ готовы сжечь наши корабли.
— Сжечь ваши корабли, дорогой мой? Вы сожжете корабли парламента? Вот это не совсем ясно; я и не знал, что у парламента есть корабли.
— Может быть, первая палата отказывается регистрировать королевские указы? — спросила графиня де Беарн; процесс герцога де Ришелье не мог отвлечь ее от тяжбы, какую вела она.
— Это еще что!
— И вторая тоже?
— Это бы ничего… Обе палаты приняли решение ничего больше не рассматривать, прежде чем король не уберет герцога д’Эгильона.
— Ба! — всплеснув руками, вскричал маршал.
— Больше не рассматривать… чего? — в волнении спросила графиня.
— Да… процессы, графиня!
— И мой процесс будет отложен? — вскричала г-жа де Беарн в ужасе, который она даже не пыталась скрыть.
— И ваш, и процесс господина герцога — тоже.
— Но это беззаконие! Это неповиновение указам его величества!
— Сударыня! — с пафосом отвечал прокурор. — Король забылся… Мы тоже готовы забыться.
— Господин Флажо, вас засадят в Бастилию, это говорю вам я!
— Я отправлюсь туда с пением, сударыня, и, уж если я туда пойду, все мои собратья последуют за мной с пальмовыми ветвями в руках.
— Он взбесился! — обратилась графиня к Ришелье.
— Мы, все до одного, готовы сражаться до конца! — продолжал прокурор.
— Ого! — обронил маршал. — Это становится интересно.
— Сударь! Да ведь вы сами сейчас только мне сказали, что занимаетесь мною, — снова заговорила графиня де Беарн.
— Я так и сказал, и это правда… Вас, сударыня, я привожу в качестве первого примера в своем выступлении. Вот абзац, имеющий к вам отношение.
Он вырвал из рук писца начатую обличительную речь, нацепил на нос очки и с выражением прочитал:
«…Потеряв состояние, заложив имение, поправ свои обязательства… Его Величество поймет, как они должны страдать… Итак, докладчик имел в своем распоряжении важное дело, от которого зависит благосостояние одного из первых домов королевства; его стараниями, благодаря его предприимчивости, таланту — да позволено будет ему так сказать — это дело шло прекрасно, и право знатной и могущественной дамы Анжелики Шарлотты Вероники графини де Беарн было бы признано, объявлено, как вдруг дыхание раздора… погубив…».
— На этом месте я остановился, сударыня, — сообщил прокурор, выпятив грудь колесом, — я надеюсь, что портрет получится великолепный.
— Господин Флажо, — заговорила графиня де Беарн, — сорок лет назад я впервые обратилась к вашему отцу, достойному человеку; после его смерти я передала свои дела в ваши руки; на моих делах вы заработали около десяти или двенадцати тысяч ливров; возможно, вы заработали бы еще больше…
— Записывайте, все записывайте, — с живостью приказал метр Флажо канцеляристу, — это будет свидетельство, доказательство: мы внесем его в речь.
— Так вот я забираю у вас свои бумаги, — перебила его графиня, — с этой минуты вы утратили мое доверие.
Растерявшись от внезапной немилости, словно громом пораженный, метр Флажо застыл в недоумении. Оправившись от удара, он почувствовал себя мучеником, пострадавшим за веру.
— Пусть так! Бернарде, верните бумаги графине и отметьте, что докладчик предпочел совесть состоянию.
— Прошу прощения, графиня, — шепнул маршал на ухо г-же де Беарн, — однако вы поступаете необдуманно, как мне представляется.
— О чем я не подумала, господин герцог?
— Вы забираете свои бумаги у этого храброго бунтовщика, но что вы собираетесь с ними делать?
— Отнесу их другому поверенному, другому адвокату! — вскричала графиня.
Метр Флажо поднял глаза к небу с мрачной улыбкой самоотречения и стоического смирения.
— Но ведь раз принято решение, — шепотом продолжал маршал, — что палаты не будут больше проводить судебных заседаний, дорогая графиня, следовательно, никакой другой поверенный не станет вами заниматься, как и Флажо…
— Это что же, заговор?
— Неужели вы, черт побери, считаете метра Флажо таким глупцом, чтобы он протестовал в одиночку, рискуя потерять свою контору? Должно быть, собратья поддерживают его?
— Что же намереваетесь делать вы?
— Я заявляю, что метр Флажо — честный поверенный и мои бумаги будут у него в целости и сохранности… Я оставляю их у него и продолжаю, разумеется, платить, как если бы он и дальше занимался моим делом.
— Вы по праву считаетесь умным человеком и либералом, господин маршал! — воскликнул Флажо. — Я буду распространять это суждение, господин герцог!
— Вы слишком добры ко мне, дорогой поверенный! — с поклоном отвечал Ришелье.
— Бернарде! — крикнул вдохновленный прокурор своему писцу. — Включите похвалу господина маршала де Ришелье в заключительную часть!
— Нет, нет, не стоит, метр Флажо! Я вас умоляю… — с живостью возразил маршал. — Ах, черт побери, что вы там собираетесь делать? Я предпочитаю тайну в том, что принято называть делом… Не огорчайте меня, метр Флажо. Я буду отрицать, опровергать: видите ли, я очень скромен и недоверчив. Ну, графиня, что вы на это скажете?
— Я скажу так: мой процесс будет слушаться… Мне нужно судебное разбирательство, и оно состоится!
— А я вам скажу: чтобы ваш процесс состоялся, королю придется послать швейцарцев, шеволежеров и двадцать пушек в зал заседаний, — с воинственным видом отвечал Флажо, и это привело старуху в полное отчаяние.
— Вы, значит, не верите, что его величество на это способен? — шепнул Ришелье, обращаясь к Флажо.
— Это невозможно, господин маршал! Это просто неслыханно! Это означало бы, что во Франции нет больше справедливости, как уже нет хлеба.
— Вы полагаете?
— Вы сами в этом убедитесь.
— Однако король разгневается.
— Мы готовы на все!
— Даже на изгнание?
— На смерть, господин маршал! Оттого, что на нас мантия, мы не стали трусливее!
И г-н Флажо ударил себя кулаком в грудь.
— Теперь я уверен, — сказал Ришелье своей спутнице, — что кабинету министров не поздоровится!
— О да! — после некоторого молчания заметила графиня. — И это весьма для меня прискорбно, потому что я никогда не вмешиваюсь в происходящее, а теперь вот оказываюсь втянутой в этот конфликт.
— Я совершенно убежден, — продолжал маршал, — что есть одно лицо, которое может вам помочь в этом деле, человек могущественный… Но захочет ли он?
— Надеюсь, не будет с моей стороны слишком нескромным полюбопытствовать, господин герцог, кто это могущественное лицо?
— Ваша «крестница», — отвечал герцог.
— Графиня Дюбарри?
— Она самая.
— А ведь, пожалуй, вы правы… Вы подали мне прекрасную мысль!
Герцог прикусил губу.
— Так вы поедете в Люсьенн? — спросил он.
— Без малейшего колебания.
— Однако графине Дюбарри не осилить оппозиции парламента.
— Я скажу ей, что хочу рассмотрения моего дела в суде. Она ни в чем не сможет мне отказать после того, что я для нее сделала. Она скажет королю, что ей этого хочется. Его величество поговорит с канцлером, а у канцлера — длинные руки, господин герцог… Метр Флажо, будьте любезны, хорошенько изучите мое дело. Оно сыграет роль более значительную, чем вы предполагаете, это говорю вам я!
Метр Флажо недоверчиво покачал головой, однако графиня была непоколебима.
Выйдя из задумчивости, герцог подхватил:
— Раз вы отправляетесь в Люсьенн, графиня, передайте, пожалуйста, от меня нижайший поклон.
— С большим удовольствием, герцог.
— Мы с вами друзья по несчастью: ваш процесс приостановлен, мой — тоже. Когда вы будете просить за себя, вы тем самым ускорите рассмотрение и моего дела… Кроме того, вы можете засвидетельствовать там мое неудовольствие, которое нам причиняют эти умные головы в парламенте. Прибавьте к этому, пожалуйста, что именно я посоветовал вам прибегнуть к помощи божественной хозяйки Люсьенна.
— Не премину, герцог. Прощайте, господа!
— Имею честь предложить вам свою руку и проводить вас до кареты. Еще раз прощайте, метр Флажо, не буду вам мешать заниматься делами…
Маршал проводил графиню до кареты.
«Рафте прав, — подумал он, — такие, как Флажо, способны произвести революцию. Слава Богу, у меня есть поддержка с обеих сторон. Я придворный и в то же время член парламента. Графиня Дюбарри попытается вмешаться в политику и падет одна. Если она устоит, я ей подложу в Трианон маленькую мину. Да, этот чертов Рафте в самом деле мой ученик. Я его поставлю во главе моей канцелярии, когда стану министром».
C. ГЛАВА, В КОТОРОЙ ДЕЛА ЕЩЕ БОЛЕЕ ЗАПУТЫВАЮТСЯ.
Графиня де Беарн воспользовалась советом Ришелье. Спустя два с половиной часа после того, как она рассталась с герцогом, она уже сидела в приемной Люсьенна в обществе Замора.
Она некоторое время не показывалась у г-жи Дюбарри, и потому ее присутствие вызвало некоторое любопытство в будуаре, когда было произнесено имя графини.
Господин д’Эгильон тоже не терял времени даром. Он замышлял вместе с фавориткой заговор, когда Шон вошла с просьбой принять г-жу де Беарн.
Герцог собрался было удалиться, но графиня его удержала.
— Я бы хотела, чтобы вы остались, — сказала она. — В том случае, если старая скупердяйка станет клянчить деньги, вы окажетесь полезны: в вашем присутствии она попросит меньше.
Герцог остался.
Госпожа де Беарн с подобающим случаю выражением лица села напротив графини в предложенное ей кресло. Когда они обменялись приветственными фразами, г-жа Дюбарри спросила:
— Могу ли я узнать, какому счастливому случаю я обязана вашим посещением, сударыня?
— Ах, графиня! — воскликнула старуха. — Меня привело к вам огромное несчастье!
— Что случилось?
— У меня есть новость, которая очень опечалит его величество.
— Говорите скорее!
— Парламент…
— Ага! — проворчал герцог д’Эгильон.
— Господин герцог д’Эгильон! — поспешила представить графиня своего гостя посетительнице во избежание недоразумения.
Однако старая графиня была такой же хитрой, как все придворные вместе взятые. Она могла допустить оплошность только умышленно, когда недоразумение было ей на руку.
— Я наслышана обо всех гнусностях этих судейских крючков и об их неуважению к заслугам и знатному происхождению, — сказала она.
Ее комплимент герцогу достиг цели: герцог низко поклонился старой графине, она поднялась и тоже поклонилась.
— Однако речь идет не только о господине герцоге, затронуты интересы целой нации: парламент отказывается заседать.
— Неужели? — вскричала г-жа Дюбарри, откидываясь на софу. — Так во Франции больше не будет правосудия?.. И что же дальше? И что же тогда случится?
Герцог улыбнулся. Однако вместо того, чтобы свести все к шутке, графиня де Беарн еще больше нахмурила и без того суровое лицо.
— Это огромное бедствие, — молвила она.
— Вы так думаете? — спросила фаворитка.
— Сразу видно, графиня, что у вас нет процесса.
— Гм! — обронил г-н д’Эгильон, желая привлечь внимание графини Дюбарри; она, наконец, поняла, куда клонит гостья.
— Увы, графиня, — спохватилась она, — вы правы: вы мне напомнили, что у меня нет процесса, но у вас-то он есть, и очень серьезный!
— Да, графиня!.. И любая отсрочка для меня разорительна.
— Бедная графиня!
— Необходимо, чтобы король принял решение!
— Его величество давно готов выслать господ советников.
— Да, но тогда дело будет отложено на неопределенный срок!
— Вы знаете какой-нибудь другой способ? Не предложите ли вы что-нибудь еще?
Сутяга вся ушла в чепец, словно Цезарь, умирающий под своей тогой.
— Есть одно средство, — заговорил д’Эгильон, — однако его величество вряд ли на него согласится.
— Какое средство? — озабоченно спросила старая графиня.
— Обыкновенное оружие французского монарха, когда его воля встречает сколько-нибудь чрезмерное сопротивление — занять королевское кресло в парламенте и сказать: «Я так хочу!», в то время как противники думают: «А я так не хочу!».
— Превосходная мысль! — в восторге вскричала г-жа Дюбарри.
— Однако не стоит ее разглашать, — тонко заметил д’Эгильон с жестом, понятным графине де Беарн.
— Сударыня! — подхватила сутяжница. — Вы имеете такое влияние на его величество! Добейтесь того, чтобы он сказал: «Я хочу, чтобы состоялся процесс графини де Беарн». Кстати, как вы знаете, это мне уже давно было обещано.
Господин д’Эгильон прикусил губу, поклонился графине Дюбарри и вышел из будуара: он услыхал, как во двор въехала карета короля.
— А вот и король! — поднялась г-жа Дюбарри, давая этим понять, что аудиенция окончена.
— Позвольте мне пасть его величеству в ноги!
— Чтобы попросить его устроить королевское заседание? Я ничего не имею против, — оживилась графиня Дюбарри. — Оставайтесь здесь, раз вам этого так хочется.
Едва графиня де Беарн успела поправить чепец, как вошел король.
— A-а, у вас гости, графиня?..
— Госпожа де Беарн, сир.
— Сир, правосудия! — вскричала старая дама, приседая в низком реверансе.
— О! — воскликнул Людовик XV с едва различимой насмешкой, понятной только тем, кто его знал. — Вас кто-нибудь оскорбил, сударыня?
— Сир, я прошу правосудия!
— Против кого?
— Против парламента.
— Вот оно что! — досадливо поморщился король, хлопнув в ладоши. — Вы жалуетесь на мой парламент? Доставьте мне удовольствие, образумьте его. У меня тоже есть основание быть им недовольным, и я тоже прошу у вас правосудия! — прибавил он, передразнивая реверанс старой графини.
— Сир, ведь вы же, наконец, король, вы повелитель.
— Король — да; повелитель — не всегда.
— Сир, изъявите свою волю.
— Это как раз то, что я делаю каждый вечер. Но на следующее утро господа члены парламента тоже проявляют свою волю. А так как наши желания диаметрально противоположны, мы напоминаем Землю и Луну, которые летают вечно одна за другой, никогда не встречаясь.
— Сир, у вас довольно мощный голос, чтобы заглушить этих крикунов.
— Вот тут вы ошибаетесь. Это ведь не я адвокат, а они. Если я говорю «да», они отвечают «нет». Найти общий язык совершенно невозможно… Вот если бы, когда я говорю «да», вы нашли средство помешать им сказать «нет», я заключил бы с вами союз.
— Сир, я знаю такое средство.
— Немедленно дайте мне его.
— Ну что же, сир, извольте: устройте королевское заседание.
— Час от часу не легче! Королевское заседание! — отвечал король. — Как вы могли до этого додуматься? Да это почти революция!
— У вас будет возможность сказать этим бунтовщикам прямо в лицо, что вы повелитель. Вы знаете, сир, что когда король проявляет таким образом свою волю, то он один имеет право говорить, никто ему не отвечает. Вы им скажете: «Я так хочу!» — и они склонят головы…
— Верно, идея великолепная! — воскликнула графиня Дюбарри.
— Да, великолепная, — согласился Людовик XV, — но она не подходит.
— До чего же красиво, — с жаром продолжала г-жа Дюбарри, — кортеж, дворяне, пэры, вся королевская гвардия, за ними огромная толпа народа, потом само королевское кресло с пятью подушками, расшитыми золотыми лилиями… Пышная была бы церемония!
— Вы полагаете? — не очень уверенно спросил король.
— И роскошный королевский наряд: горностаевая мантия, бриллиантовый венец, золотой скипетр — в общем, весь блеск, который так идет к царственному и красивому лицу. Ах, до чего вы были бы великолепны, сир! — воскликнула графиня Дюбарри.
— Но королевского заседания не было уже довольно давно, — бросил король с деланной небрежностью.
— Со времени вашего детства, сир, — прибавила графиня де Беарн. — Воспоминание о вашей необыкновенной красоте хранится в каждом сердце.
— Кроме того, — добавила г-жа Дюбарри, — это был бы удобный случай для господина канцлера проявить свое суровое сдержанное красноречие, чтобы эти людишки были раздавлены правдой, достоинством, авторитетом.
— Я должен дождаться преступления со стороны парламента, — сказал Людовик XV, — а уж тогда посмотрим.
— Чего еще ждать, сир? Что может быть ужаснее того, что сделано?
— Что же сделано? Рассказывайте.
— А вы не знаете?
— Парламент слегка подразнил герцога д’Эгильона, это не смертельно… Хотя дорогой герцог — один из моих друзей, — прибавил король, взглянув на г-жу Дюбарри. — Итак, парламент подразнил герцога — я положил конец их злобным выпадам, отменив его решение вчера или третьего дня, не помню точно. Вот мы и в расчете.
— А знаете, сир, — перебила его г-жа Дюбарри, — графиня только что нам сообщила, что нынче утром эти господа в черных мантиях дождались удобного случая.
— Что такое? — нахмурившись, спросил король.
— Расскажите, графиня! Король позволяет, — сказала фаворитка.
— Сир! Господа советники решили больше не проводить судебных заседаний парламента до тех пор, пока вы, ваше величество, не решите дело в их пользу.
— Неужели? — усмехнулся король. — А вы не ошибаетесь, графиня? Ведь это было бы неповиновение, а мой парламент не осмелится восстать, я надеюсь…
— Сир, уверяю вас, что…
— Полно, сударыня, это, верно, слухи.
— Выслушайте меня, ваше величество.
— Говорите, графиня.
— Так вот, мой поверенный вернул мне сегодня мое дело… Он больше не выступает в суде, потому что теперь никто больше не судит.
— Уверяю вас, что это только слухи. Они пытаются меня запугать.
При этих словах король взволнованно заходил по комнате.
— Сир! Может быть, ваше величество скорее поверит герцогу де Ришелье? Так вот, в моем присутствии герцогу де Ришелье вернули, как и мне, все бумаги, и герцог удалился в ярости.
— Кто-то скребется в дверь, — заметил король, желая переменить тему.
— Это Замор, сир.
Вошел Замор.
— Хозяйка! Письмо!
— Вы позволите, сир? — спросила графиня. — О Господи! — вдруг вскрикнула она.
— Что такое?
— Это от господина канцлера, сир. Зная, что ваше величество собирался ко мне с визитом, господин де Мопу просит меня испросить для него аудиенцию.
— Что там еще могло случиться?
— Просите господина канцлера! — приказала г-жа Дюбарри.
Графиня де Беарн встала и хотела откланяться.
— Вы не мешаете, графиня, — сказал ей король. — Здравствуйте, господин де Мопу! Что нового?
— Сир! — с поклоном отвечал канцлер. — Парламент вам раньше мешал — теперь больше нет парламента.
— Как так? Они, что же, все умерли? Наелись мышьяку?
— Боже сохрани!.. Нет, сир, они здравствуют. Но они больше не желают заседать и подали в отставку. Я только что принимал их скопом.
— Советников?
— Нет, сир, отставки.
— Я же вам говорила, сир, что это серьезно, — вполголоса заметила графиня.
— Очень серьезно! — в нетерпении подтвердил король. — Ну и что же вы сделали, господин канцлер?
— Я пришел за приказаниями вашего величества.
— Давайте всех их вышлем, Мопу.
— Сир, в изгнании они тоже не станут проводить судебные заседания.
— Так прикажем им заседать!.. Неужели не существует более ни предписаний, ни королевских указов?..
— Сир, на этот раз вам придется изъявить свою волю.
— Да, вы правы.
— Смелее! — шепнула графиня де Беарн г-же Дюбарри.
— И поступить как повелитель, после того, как вы слишком часто вели себя как отец! — вскричала графиня.
— Канцлер! — задумчиво проговорил король. — Я знаю только одно средство. Оно сильное, но действенное. Я собираюсь устроить королевское заседание в парламенте. Надо на этот раз как следует напугать этих господ.
— Сир! — вскрикнул канцлер. — Прекрасно сказано! Мы их или согнем, или сломаем!
— Графиня! — обратился король к старой сутяжнице. — Если ваше дело еще и не слушалось, то, как видите, в том не моя вина.
— Сир! Вы величайший в мире король!
— Да! Да!.. — эхом отозвались графиня, Шон и канцлер.
— Однако мир так не думает, — пробормотал король.
CI. КОРОЛЕВСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ.
Итак, состоялось это знаменательное событие с соответствующим случаю церемониалом, которого требовали, с одной стороны, тщеславие короля, с другой — интриги, подталкивавшие его к государственному перевороту.
Королевская гвардия была поставлена под ружье. Огромное количество стрелков в куртках, солдат городской стражи и полицейских должны были охранять господина канцлера. А он, словно генерал в день решающего сражения, должен был явить собой центральную фигуру этого предприятия.
Господина канцлера все ненавидели. Он сам это знал, и если тщеславие мешало ему понять губительность для него готовящегося шага, то люди, лучше осведомленные о сложившемся общественном мнении, могли бы без всякого преувеличения предсказать ему позор или, по крайней мере, шиканье.
Такой же прием был оказан и герцогу д’Эгильону, которого народ инстинктивно недолюбливал, хотя, правда, после парламентских дебатов отношение к нему несколько изменилось. Король притворялся спокойным. Однако он был встревожен. Но видно было, как ему нравится его великолепный королевский наряд; он полагал, что ничто его не может так защитить, как величие.
Он мог бы прибавить: «И любовь подданных». Но эти слова ему часто повторяли в Меце во время его болезни, и он решил, что если скажет так, то его обвинят в плагиате.
Для дофины зрелище было внове, и она в глубине души, может быть, желала его увидеть. Однако, когда наступило утро, она с грустным видом отправилась на церемонию и не меняла выражения лица во все ее продолжение; это способствовало тому, что о ней сложилось благожелательное мнение.
Графиня Дюбарри была отважная дама. Она верила в свою судьбу, потому что была молода и хороша собой. И потом, разве о ней не все уже было сказано? Что нового можно было прибавить? Казалось, она сияла, освещенная отблеском величия своего возлюбленного — короля.
Герцог д’Эгильон гордо вышагивал среди шедших впереди короля пэров. Его благородное, выразительное лицо не выдавало ни малейшего огорчения или неудовольствия. В то же время он, чувствуя себя победителем, не выказывал своего торжества. При виде того, как он шел, никто не догадался бы о том, какую битву затеяли из-за него король и парламент.
В толпе на него показывали друг другу пальцем; члены парламента бросали испепеляющие взгляды — и только!
Большой зал Дворца правосудия был набит битком, собралось более трех тысяч человек.
А вокруг Дворца толпа, сдерживаемая палками привратников и дубинками стрелков, глухо гудела. Свое присутствие толпа выдавала только этим гулом, временами очень явственным, в котором тонули отдельные голоса и выкрики и который вполне справедливо можно было назвать гласом народного моря.
В большом зале установилась тишина; когда стихли шаги, каждый занял свое место, и величавый монарх мрачно повелел канцлеру начинать.
Члены парламента знали заранее, что королевское заседание не обещает им ничего хорошего. Они понимали, зачем их позвали. Они справедливо полагали, что король собирается объявить им свою волю; однако они знали и то, что король робок, чтобы не сказать — труслив, и если им и суждено было испугаться, то лишь последствий церемонии, а не самого заседания.
Канцлер взял слово. Он любил поговорить. Начало его речи было построено весьма искусно, и любители красноречия нашли его многообещающим.
Однако сама речь превратилась постепенно в столь сильный обвинительный акт, что вызвала у знатных господ улыбку, а членам парламента стало не по себе.

Устами канцлера король приказывал немедленно покончить с бретонскими делами, которые ему надоели. Он предписывал парламенту примириться с герцогом д’Эгильоном, чью службу он благосклонно принимал, а также не прерывать более отправление правосудия. После этого все должно было пойти как в благословенные времена золотого века, когда текли ручейки судебных и совещательных речей в пяти частях, а на деревьях росли папки с делами, так что господам адвокатам и прокурорам, имевшим право их срывать, ибо эти плоды принадлежали им, оставалось только протянуть руку.
Эти сладкие речи не примирили парламент с г-ном де Мопу, так же как не заставили помириться и с герцогом д’Эгильоном. Впрочем, речь была произнесена, и на нее не было возможности ответить.
Члены парламента, к сильной досаде короля, все как один — что само по себе придает силы — приняли спокойный и безразличный вид, не понравившийся его величеству и занимавшим трибуны аристократам.
Ее высочество дофина побледнела от ярости. Она впервые явилась свидетельницей неповиновения толпы. Она собиралась хладнокровно прикинуть возможности этого сопротивления.
Отправляясь на церемонию королевского заседания, она намеревалась хотя бы внешне проявить несогласие с решением, которое должно было приниматься или быть официально объявлено. Однако мало-помалу она почувствовала себя втянутой в борьбу, причем была на стороне равных ей по крови и по положению. По мере того как канцлер вгрызался в парламентскую плоть, юная гордячка все сильнее возмущалась тем, что его зубы недостаточно остры. Ей казалось, что она могла бы найти такие слова, которые заставили бы дрогнуть сборище, как стадо быков под палкой погонщика. Короче говоря, она нашла, что канцлер слишком слаб, а члены парламента — очень сильны.
Людовик XV был великолепным физиономистом, как все эгоисты, если только они не были лентяями. Он огляделся, желая увидеть, как встречена его воля, выраженная, как ему казалось, достаточно красноречиво.
Закушенные губы ее высочества побелели, и он понял, что творится в ее душе.
Он перевел взгляд на графиню Дюбарри, уверенный в том, что увидит нечто противоположное, но, вместо победоносной улыбки, заметил лишь страстное желание привлечь к себе взгляд короля словно для того, чтобы узнать, о чем он думает.
Ничто так не смущает слабые умы, как мысль о том, что их опередят ум и воля другого человека. Если они замечают на себе решительные взгляды, они заключают, что действовали недостаточно смело и теперь будут выглядеть или уже выглядят смешными, что с них потребуют больше того, что они сделали.
Тогда они бросаются в другую крайность: робость переходит в ярость, неожиданный взрыв дает выход опасениям, оказавшимся сильнее их прежних страхов.
Королю не было нужды прибавлять ни одного слова к выступлению канцлера — кстати, это противоречило бы этикету. Однако его словно обуял демон словоохотливости: он махнул рукой, показывая, что желает говорить.
На сей раз присутствующие оцепенели. Головы всех членов парламента повернулись, словно по команде, к креслу короля.
Принцы, пэры, военные — все взволновались. Было не исключено, что после стольких хороших слов его христианнейшее величество возьмет да и скажет ненужную грубость, а их благоговение перед его величеством не позволяло им прервать короля.
Кое-кто заметил, что герцог де Ришелье, до этого явно показывавший свое отчуждение от племянника, неожиданно устремил на него взгляд, странным образом похожий на сочувственный.
Однако его взгляд, уже готовый выразить возмущение, встретился с взглядом графини Дюбарри. Ришелье, как никто, обладал бесценным даром перевоплощения: он сменил насмешливое выражение на восхищение и выбрал прекрасную графиню точкой пересечения между этими крайностями.
Итак, он послал на ходу приветственную и любезную улыбку г-же Дюбарри, однако это не обмануло графиню. Маршал, вступивший в сношения с парламентом и с находившимися в оппозиции принцами, не мог теперь прервать эти связи, дабы никто не заметил, что он представляет собой на самом деле.
Сколько возможностей в капле воды! Это целый океан для наблюдательного человека! Как много веков спрессовано в одной секунде! Неописуемая вечность! Все, о чем мы рассказываем, произошло за то короткое время, пока его величество Людовик XV, собираясь заговорить, раскрывал рот.
— Вы слышали от канцлера, — решительно начал он, — какова моя воля. Подумайте же о том, как ее исполнить, потому что я никогда не изменю свои намерения!
Последние слова Людовика XV прогремели с силой порохового взрыва.
Все собрание было буквально потрясено.
Члены парламента затрепетали от ужаса, немедленно передавшегося толпе со скоростью бегущей по проводам электрической искры. Такой же трепет охватил и сторонников короля. Удивление и восхищение были написаны на всех лицах, отдались в каждом сердце.
Дофина, сама того не желая, благодарно взглянула на короля своими прекрасными глазами.
Взвинченная графиня Дюбарри вскочила и захлопала в ладоши, нисколько не боясь того, что ее забросают при выходе камнями или что на следующий день она получит сотню куплетов, один отвратительнее другого.
С этой минуты Людовик XV наслаждался своим триумфом.
Члены парламента покорно склонили головы, не сдавая, однако, своих позиций.
Король привстал с расшитых золотыми лилиями подушек.
Сейчас же вслед за ним поднялись капитан гвардейцев, командир военной свиты короля и все дворяне.
С улицы послышалась барабанная дробь, заиграли трубы. Король гордо прошел через зал сквозь строй склоненных голов. Почти неуловимый на слух гул толпы при появлении короля сменился оглушительным ревом, который затих в отдалении, там, куда оттеснили народ солдаты и стрелки.
Герцог д’Эгильон шел по-прежнему впереди короля, не выказывая своего торжества.
Подойдя к двери, ведущей на улицу, канцлер ужаснулся при виде людского моря, волнение которого он почувствовал на расстоянии. Он приказал стрелкам:
— Сомкнитесь вокруг меня!
Низко кланяясь герцогу д’Эгильону, маршал де Ришелье сказал:
— Обратите внимание, герцог, на эти склоненные головы: придет день, и они чертовски высоко поднимутся. Вот тогда надо будет поберечься!
Графиня Дюбарри проходила в эту минуту вместе со своим братом, маршальшей Мирпуа и некоторыми придворными дамами. Она услыхала предостережение старого маршала и, не столько желая возразить ему, сколько стремясь блеснуть своим остроумием, заметила:
— Да что вы, маршал! По-моему, бояться нечего! Вы же слышали, что сказал его величество? Если не ошибаюсь, он объявил, что никогда не изменит своих намерений?
— Слова его величества в самом деле грозные, графиня, — с улыбкой отвечал старый маршал. — Однако эти несносные члены парламента не видели, к счастью для вас, как король смотрел на вас, когда говорил, что не отступится от своих намерений.
Он заключил этот мадригал одним из тех неподражаемых реверансов, какие в наши дни не умеют делать даже на сцене.
Госпожа Дюбарри была прежде всего женщина, а никак не политик. Она увидела лишь комплимент там, где г-н д’Эгильон почувствовал насмешку и вместе с тем угрозу.
Вот почему она ответила улыбкой, тогда как ее союзник закусил губу и побледнел. Он понял, что маршал его не простил.
Последствия церемонии королевского заседания не замедлили сказаться. Они были благоприятны для короля. Но, как часто случается, сильное потрясение ошеломляет. Зато после него кровь быстрее течет в жилах, она словно очищается.
Так, во всяком случае, думали просто одетые люди, собравшиеся небольшой группкой на углу набережной Цветов и Бочарной улицы, наблюдая за отъездом короля и его пышного кортежа.
Группа состояла из трех человек. Случай соединил их на этом углу, откуда они, как казалось, с любопытством смотрели на толпу. Не будучи знакомы между собой, они, однако, обменялись несколькими словами и стали держаться вместе. Еще раньше чем кончилось заседание парламента, они уже сделали заключение.
— Ну что же, страсти разгорелись! — заговорил один из них, старик со сверкающими глазами и добрым, благородным лицом. — Королевское заседание — великая вещь!
— Да! — с горькой улыбкой подхватил молодой человек. — Да, если бы слова подтверждались делами…
— Сударь, кажется, я вас знаю… — проговорил старик, повернувшись к юноше. — Где я мог вас видеть?
— Ночью тридцать первого мая. Вы не ошиблись, господин Руссо.
— A-а, вы тот самый молодой хирург, мой соотечественник, господин Марат?
— Да, сударь, к вашим услугам.
Они обменялись поклонами.
Третий пока не проронил ни слова. Это был приятный молодой человек. Во время церемонии он не сводил взгляда с толпы, внимательно наблюдая за борьбой ее страстей.
Молодой хирург ушел первым. Он отважно ринулся в самую гущу людей, не столь благодарных, как Руссо, и уже позабывших, с какой самоотверженностью он спасал пострадавших во время давки. Но он надеялся, что придет день, и его имя всплывет в памяти народной.
Другой молодой человек подождал, пока он уйдет, и обратился к Руссо:
— А вы не уходите, сударь?
— Я слишком стар, чтобы рисковать жизнью в такой давке.
— В таком случае, — понизив голос, продолжал незнакомец, — до встречи на улице Платриер сегодня вечером, господин Руссо… Непременно приходите!
Философ вздрогнул так, словно перед ним встал призрак. Бледный от природы, он еще сильнее побледнел и стал похож на мертвеца. Пока он собирался с духом, чтобы ответить незнакомцу, тот исчез.
CII. О ВПЕЧАТЛЕНИИ, ПРОИЗВЕДЕННОМ СЛОВАМИ НЕЗНАКОМЦА НА ЖАН ЖАКА РУССО.
Услышав необычные слова, произнесенные незнакомым господином, несчастный Руссо задрожал и пошел сквозь толпу, позабыв о том, что он стар и что боится давки; наконец он вырвался на свободу. Он дошел до моста Богоматери и, погруженный в задумчивость, прошел через квартал, прилегающий к Гревской площади, выбрав самый короткий путь к дому.
«Оказывается, что тайна, которую каждый посвященный хранит с риском для жизни, доступна первому встречному, — рассуждал он. — Вот что происходит с тайными обществами, когда они выдержат все испытания перед лицом народа… Какой-то человек меня знает, он понимает, что я скоро буду его товарищем, а возможно, и сообщником. Нет, такой порядок вещей абсурден и невыносим».
Эти мысли заставили Руссо зашагать быстрее, хотя обыкновенно он передвигался с большой осторожностью, особенно после происшествия на улице Менильмонтан.
«Таким образом, — продолжал философ, — пожелав поближе познакомиться с будущим возрождением человечества, о котором якобы известно так называемым иллюминатам, я едва не сделал глупости, поверив в то, что дельные мысли к нам могут прийти из Германии, страны пива и туманов; я опорочил бы свое имя, связавшись с дураками или интриганами, а они прикрывали бы им свои глупости. Нет, не бывать этому! Нет, словно при вспышке молнии мне открылась бездна, и я не собираюсь бросаться туда очертя голову!».
Отдыхая, Руссо остановился на минуту посреди улицы и опёрся на палку.
«А красивая была химера! — продолжал философ. — Свобода в лоне рабства; будущее, завоеванное без потрясений и без всякого шума; таинственная сеть, раскинутая в то время, пока тираны всего мира дремлют… Это было чересчур красиво; с моей стороны было глупо в это поверить… Не нужно ни опасений, ни подозрений, ни сомнений: все это недостойно свободомыслящего и независимого человека».
Он пошел дальше и вдруг заметил ищеек г-на де Сартина, шаривших всюду глазами. Они так напугали свободомыслящего и независимого человека, что он отскочил в тень ограды, мимо которой в эту минуту проходил.
От этого места уже недалеко было и до улицы Платриер. Руссо быстрым шагом прошел это расстояние, поднялся по лестнице, задыхаясь, словно загнанная лань, и упал на стул в своей комнате, не в силах отвечать на расспросы Терезы.
Немного погодя он объяснил ей причину своего волнения: он бежал, было жарко, его поразила новость — на церемонии королевского заседания король разгневался; народ потрясен произошедшими событиями.
Тереза в ответ проворчала, что все это не оправдание для того, чтобы опаздывать к обеду, и что мужчине не пристало шарахаться от малейшего шума, подобно мокрой курице.
Руссо не нашелся, что ответить на последнее замечание: он много раз говорил о том же — правда, в других выражениях.
Тереза прибавила, что философы да и вообще люди с богатым воображением все скроены на один лад. В своих книгах они только и делают, что трубят в фанфары и утверждают, что ничего не боятся, что им наплевать и на Бога, и на людей. Однако, стоит тявкнуть собачонке, как они кричат: «На помощь!», а раз чихнув, готовы завопить: «Ах, Боже мой, я умираю!».
Это была одна из излюбленных тем Терезы, когда она давала волю своему красноречию, а робкий от природы Руссо не находил что ответить. И потому под звуки ее пронзительного голоса Руссо вынашивал свою мысль, представлявшую для него гораздо большую ценность, чем мысли Терезы, несмотря на обидные слова, которыми награждала его жена.
«Счастье состоит из запахов и звуков, — думал он, — а запах и звук — вещи условные… Кто сказал, что лук пахнет хуже розы, а павлин поет хуже соловья?».
Сформулировав эту аксиому — ее можно было принять за чистейший парадокс, — он сел за стол и стал обедать.
После обеда Руссо, против обыкновения, не сел к клавесину. Он двадцать раз прошелся по комнате и раз сто выглянул в окно, изучая улицу Платриер.
У Терезы начался один из приступов ревности, обычно возникающих из духа противоречия у людей вздорных, то есть в действительности наименее подверженных ревности.
Право, нет ничего несноснее, чем притворный порок, уж лучше притворная добродетель!
Тереза испытывала глубокое отвращение к внешности своего мужа, к его телосложению, уму и привычкам; она считала, что он стар, болен и некрасив. Она не боялась, что у нее отнимут мужа, так как не могла даже предположить, что какая-нибудь женщина способна взглянуть на него иначе, чем она сама. Однако самая сладкая мука для женщины — ревность. Вот почему Тереза позволяла себе порой это удовольствие.
Заметив, что Руссо так часто в задумчивости подходит к окну, что ему не сидится на месте, она заявила:
— Теперь я понимаю ваше беспокойство… Должно быть, вы недавно кое с кем расстались…
Руссо посмотрел на нее с испугом, что явилось для нее лишним доказательством ее правоты.
— …Кое с кем, кого вы хотели бы еще раз увидеть, — продолжала она.
— Вы так думаете? — сказал Руссо.
— Похоже, мы стали бегать на свидания?
— На свидания? — переспросил Руссо, до которого наконец дошло, что она его ревнует. — Вы с ума сошли, Тереза!
— Я прекрасно понимаю, что это было бы безумием, — сказала она. — Впрочем, вы на все способны. Бегайте, бегайте! С вашей физиономией цвета папье-маше, с вашим сердцебиением, дурацким покашливанием — ступайте, завоевывайте сердца! Самый лучший способ прославиться!
— Тереза! Вы сами прекрасно знаете, что ничего такого нет! — с раздражением заметил Руссо. — Дайте мне спокойно подумать!
— Вы распутник! — с самым серьезным видом выпалила Тереза.
Руссо покраснел так, словно это была правда или он услышал комплимент.
Тогда Тереза сочла себя вправе разгневаться, перевернуть все вверх дном, хлопнуть дверью, испытывая терпение Руссо, — так ребенок, играющий металлическим колечком, кладет его в коробочку и гремит им изо всех сил.
Руссо укрылся в кабинете. Крики Терезы расстроили его мысли.
Он решил, что, вне всякого сомнения, было бы не совсем безопасно не пойти на таинственную встречу, о которой ему говорил незнакомец на углу набережной.
«Если уж они преследуют предателей, то наверняка это распространяется на колеблющихся и безразличных, — подумал он. — Я давно заметил, что большая опасность — ничто, как и серьезная угроза, потому что в подобных случаях дело редко доходит до приведения угрозы в исполнение. Но вот когда речь идет о мелкой мести, ударах исподтишка, мистификации и других мелочах, их-то и надо опасаться. В один прекрасный день братья-масоны отплатят мне за мое презрение, натянув веревку у меня на лестнице: я сломаю ногу и растеряю десять последних зубов… Или, пожалуй, уронят мне на голову камень, когда я буду проходить мимо какой-нибудь стройки… А еще лучше, если у них в братстве найдется какой-нибудь памфлетист, живущий у меня под боком, может быть, на одной со мной лестнице, и заглядывающий ко мне в комнату через окно. В этом нет ничего невозможного, раз собрания проходят на улице Платриер… Ну вот, этот бездельник напишет обо мне всякие глупости, высмеет меня на весь Париж… Ведь у меня всюду враги!».
Спустя мгновение Руссо думал уже о другом.
«Ну что же! — говорил он себе. — Где моя смелость? Где моя честь? Разве я испугался бы, оставшись наедине с самим собой? Неужели, взглянув в зеркало, я увидел бы только труса и негодяя? Нет, это не так… Пускай хоть весь свет против меня сговорится, пусть потолок того погреба обрушится на мою голову, я все равно туда пойду… Кстати, все красивые рассуждения порождают страх. С того времени как, встретившись с незнакомцем, я вернулся домой, я все время топчусь на одном месте из трусости. Я сомневаюсь во всех и в себе самом! Это нелогично… Я себя знаю, меня нельзя обвинить в восторженности: если я увидел в будущей организации что-то необычайное, значит, оно в ней есть. Кто осмелится мне сказать, что я не окажусь тем, кто восстановит род человеческий? Меня так долго искали, таинственные посланцы безгранично могущественной организации прибыли для обсуждения идей, изложенных в моих сочинениях. Так вот, я готов отступить, когда речь идет о том, чтобы, следуя моим советам, перейти от слов к делу и от изложенной мною теории к практике!».
Руссо все более оживлялся.
«Чего еще и желать! Время идет… Народы перестают быть забитыми, они идут друг за другом в темноте на ощупь; они образуют огромную пирамиду, которую будущие столетия увенчают бюстом Руссо, гражданина Женевы. Стремясь жить так, чтобы слова его не расходились с делом, он рисковал свободой, жизнью, то есть оставался верен своему девизу: «Vitam impendere vero»[25].
Увлекшись, Руссо сел за клавесин и окончательно забылся, извлекая из инструмента громкие, шумные, воинственные звуки.
Стемнело. Терезе надоело мучить своего пленника, и она заснула, сидя на стуле. Руссо с сильно бьющимся сердцем надел новую одежду, словно собирался на любовное свидание. Он некоторое время наблюдал за игрой своих черных глаз и нашел, что они у него живые и выразительные. Руссо остался собой доволен.
Он взял трость и, стараясь не разбудить Терезу, выскользнул из дома.
Спустившись по лестнице и открыв потайной замок входной двери, Руссо выглянул наружу, желая убедиться в том, что вокруг все тихо.
Не видно было ни одной кареты; на улице, по обыкновению, было много гуляющих; одни из них глазели на прохожих, как это принято и в наши дни; другие останавливались у окон лавок, разглядывая в лорнет хорошеньких продавщиц за прилавком.
В таком водовороте новый человек вряд ли привлек бы к себе внимание. Руссо торопливо шагнул на улицу; путь ему предстоял недолгий.
У двери, что указали Руссо, стоял уличный певец со скрипкой, издававшей пронзительные звуки. Эта музыка, к которой так чувствителен каждый истинный парижанин, разносилась на всю улицу; эхо отвечало издалека последними тактами куплета, пропетого скрипкой или самим музыкантом.
Трудно было вообразить что-либо более неблагоприятное для уличного движения, чем пробка, образовавшаяся из-за скопления слушателей. Прохожие вынуждены были обходить собравшихся либо слева, либо справа; те, что сворачивали налево, шли потом по улице, те же, что обходили толпу справа, следовали затем вдоль указанного Руссо дома и vice versa[26].
Руссо обратил внимание на то, что некоторые прохожие словно терялись по дороге, будто попадали в ловушку. Он понял: эти люди подходили к дому с тою же целью, что и он, и решился последовать их примеру — это было нетрудно.
Подойдя к кучке собравшихся, будто он тоже хотел послушать, он стал поджидать первого, кто будет проходить к дому, чтобы понаблюдать за ним. У Руссо, разумеется, было больше оснований для опасения, потому что он рисковал более других; он все не раз взвесил, прежде чем решил, что представился благоприятный случай.
Впрочем, ему не пришлось долго ждать. Ехавший по улице кабриолет рассек кружок слушателей надвое, прижав их к стенам домов. Руссо оставалось сделать последний шаг… Наш философ убедился в том, что любопытных отвлек кабриолет; Руссо воспользовался тем, что все отвернулись от дома, и исчез в глубине подъезда.
Через несколько секунд он заметил лампу; под ней мирно сидел какой-то человек, по виду — отдыхавший после трудового дня лавочник, который читал газету или притворялся, что читает.
Услыхав шаги Руссо, человек поднял голову и выразительным жестом прижал палец к груди, освещенной лампой.
Руссо ответил на условный знак, прижав палец к губам.
Человек быстро встал и толкнул находившуюся справа от него и невидимую в деревянной обшивке стены дверь, которую он до этого закрывал спиной. Он указал Руссо на крутую лестницу, уходившую под землю.
Руссо вошел; дверь бесшумно и быстро за ним затворилась.
Опираясь на трость, Руссо стал спускаться. Ему не понравилось, что члены тайного общества заставляют его в качестве первого испытания спускаться с риском свернуть себе шею и переломать ноги.
Впрочем, лестница скоро кончилась. Руссо насчитал семнадцать ступенек, после этого в его лицо пахнул горячий воздух погреба.
Влажная духота была следствием того, что в этом погребе собралось довольно много людей.
Руссо увидал на стенах белые и красные гобелены, изображавшие разного рода рабочие инструменты, скорее символические, чем настоящие. Со сводчатого потолка спускалась одна-единственная лампа, отбрасывавшая зловещие отблески на лица почтенных с виду собравшихся, что сидели на деревянных скамьях и тихо между собою беседовали.
На полу не было ни паркета, ни ковра. Он был покрыт толстой тростниковой циновкой, заглушавшей шум шагов.
Появление Руссо не вызвало никакой сенсации. Казалось, никто не заметил, как он вошел.
Еще пять минут назад Руссо страстно желал такого приема. Однако теперь он был раздосадован невниманием.
Найдя свободное место на одной из задних скамеек, он сел там как мог скромнее, позади всех.
Он насчитал тридцать три человека. На возвышении стояло бюро, предназначенное для председателя.
CIII. ЛОЖА НА УЛИЦЕ ПЛАТРИЕР.
Руссо обратил внимание на то, что присутствовавшие разговаривали несмело и сдержанно. Многие вообще не разжимали рта. И только три или четыре пары обменивались словами.
Те, кто не разговаривал, пытались даже спрятать лица, и это им вполне удавалось благодаря тени, которую отбрасывало возвышение для ожидаемого председателя.
В тени этого возвышения укрылись самые робкие. Зато двум-трем членам общества не терпелось познакомиться с товарищами. Они ходили взад и вперед, разговаривали; то один, то другой поминутно исчезал за дверью, скрытой за черным занавесом, на котором были изображены языки пламени.
Вскоре раздался звонок. Какой-то человек поднялся со скамьи, где он сидел вместе с другими масонами, и занял место за столом.
Он сделал несколько знаков руками и пальцами; все присутствующие повторили их вслед за ним; он прибавил последний знак, наиболее из всех выразительный, и объявил заседание открытым.
Господин этот был совершенно незнаком Руссо; за его внешностью богатого ремесленника скрывались немалая сила духа и такое красноречие, что ему позавидовал бы любой оратор.
Его речь была ясной и краткой. Он объявил, что члены ложи собрались для того, чтобы принять в свои ряды нового брата.
— Пусть вас не удивляет, — сказал он, — что мы пригласили вас в такое место, где не могут быть проведены обычные испытания. Верховные члены общества пришли к выводу, что в этом случае испытания излишни. Брат, которого мы сегодня принимаем, представляет собой светоч современной философии. Этот мудрец будет нам предан по убеждению, а не из страха. На того, кто постиг все тайны природы и премудрости человеческого сердца, невозможно произвести впечатление теми же приемами, какими можно запугать простого смертного, готового служить нам руками, волей, деньгами. А чтобы добиться сотрудничества с этим выдающимся человеком благородного и деятельного характера, нам будет довольно его обещания, простого его согласия.
На этом оратор закончил свою речь и огляделся, желая убедиться в произведенном впечатлении.
На Руссо его слова оказали магическое действие: женевский философ знал все приготовительные таинства масонского братства; он взирал на них с отвращением, вполне объяснимым у просвещенных людей; все эти ненужные и потому бессмысленные испытания, каким высшие чины ложи подвергали новых членов, чтобы вызвать у них страх, когда всем известно, что бояться нечего, представлялись ему верхом ребячества и пустого суеверия.
Но что еще важнее, робкий философ был противником всего демонстративного, показного. Ему было бы нестерпимо участвовать в представлении перед незнакомыми людьми, которые к тому же мистифицировали бы его, пусть с более или менее добрыми намерениями.
Вот почему, видя, что его собираются освободить от испытаний, он почувствовал нечто большее, чем простое удовлетворение. Он знал, что все члены были равны перед строгими законами масонского братства. И потому исключение, которое для него готовы были сделать, он воспринял как огромную победу.
Он уже собирался в нескольких словах поблагодарить красноречивого и любезного председателя, как вдруг из зала послышался чей-то голос.
— Раз уж вам вздумалось обходиться словно с принцем с таким же человеком, как мы все, — едко и с дрожью проговорил кто-то, — раз уж вы освобождаете его от физических испытаний, как будто они уже перестали быть одним из наших символов поиска свободы духа через страдание плоти, то, по крайней мере, мы надеемся, что вы не собираетесь пожаловать драгоценное звание незнакомцу прежде, чем мы зададим ему вопросы согласно обычаю, чтобы выяснить, какую веру он исповедует.
Руссо обернулся, желая увидеть лицо воинственного господина, так чувствительно задевшего самолюбие торжествовавшего старика.
Он очень удивился, узнав молодого хирурга, которого он утром встретил на набережной Цветов.
Искренность да еще, может быть, презрение к «драгоценному званию» помешали ему ответить.
— Вы слышали? — спросил председатель, обращаясь к Руссо.
— Да! — отвечал философ, вздрогнув от собственного голоса, непривычно прозвучавшего под сводами мрачного погреба. — И я еще более удивился этому требованию, когда увидал, от кого оно исходит. Как! Человек, который по роду занятий обязан бороться с тем, что называется физическим страданием, и помогать братьям не только потому, что они масоны, но и обыкновенные люди, — этот человек проповедует пользу физических страданий!.. Он выбрал весьма необычный путь, чтобы привести человека к счастью, а больного — к выздоровлению.
— Речь здесь идет не о каком-то определенном лице, — живо возразил молодой человек. — Новый член общества не знает меня, как я не знаю его. Мои слова не лишены логики, и я смею утверждать, что уважаемому председателю следовало бы действовать не взирая на лица. Я не признаю в этом господине философа, — продолжал он, указав на Руссо, — пусть и он забудет о том, что я врач. И так нам придется, возможно, прожить всю жизнь, ни единым взглядом, ни единым жестом не выдав нашего знакомства, более близкого, впрочем, благодаря узам братства, чем обычная дружба. Еще раз повторяю: если вы сочли своим долгом освободить нового члена от испытаний, то сейчас самое время, по крайней мере, задать ему вопросы.
Руссо не проронил ни слова. Председатель понял по его лицу, что ему неприятен этот спор и он сожалеет о том, что ввязался в это дело.
— Брат! — властно проговорил он, обратившись к молодому человеку. — Не угодно ли вам помолчать, когда говорит руководитель, и не позволять себе обсуждать его действия: они суверенны.
— Я имею право сделать запрос, — вежливо возразил молодой человек.
— Сделать запрос — да, но не выступать с осуждением. Брат, вступающий в общество, слишком известен для того, чтобы мы привносили в наши отношения смешную и ненужную таинственность. Всем присутствующим здесь братьям известно его имя, и оно является гарантией. Однако, так как он сам, в чем я совершенно уверен, любит равенство, я прошу его ответить на вопрос, который я задаю только ради формы: чего вы ищете в сообществе?
Руссо сделал два шага вперед и, отделившись от толпы, обвел собрание задумчивым и грустным взглядом.
— Я ищу в нем то, — заговорил он, — чего не нахожу: истину, а не софизмы. Зачем вам направлять на меня кинжалы, которые не могут заколоть; зачем предлагать мне яд, если на самом деле это чистая вода; зачем бросать меня в люк, если внизу расстелен матрац? Я знаю, на что способны люди. Я знаю предел своих физических возможностей. Если вы их превысите, вам незачем будет выбирать меня своим братом. Будучи мертвым, я ни на что вам не пригожусь; следовательно, вы не хотите меня убивать, еще менее — ранить. Никто в целом свете не заставит меня поверить в необходимость такого посвящения, во время которого нужно было бы сломать мне руку или ногу.
Я больше вас всех изведал боль; я изучил тело и нащупал душу. Если я согласился прийти к вам, когда меня об этом попросили, — он подчеркнул это слово, — то только потому, что подумал: я смогу быть полезным. Таким образом, я даю, но ничего не получаю взамен. Увы! Прежде чем вы сможете как-то меня защитить; прежде чем вы своими силами сможете вернуть мне свободу, если я окажусь в тюрьме, дать мне хлеба, когда меня станут морить голодом, утешить меня, если меня опечалят; прежде чем, повторяю, вы станете действительной силой, брат, которого вы сегодня принимаете в свои ряды, если будет угодно этому господину, — прибавил он, взглянув на Марата, — этот брат уже отдаст дань природе, потому что прогресс и просвещение — вещи медлительные, а из того места, куда он попадет, никто из вас не сумеет его извлечь…
— Вы ошибаетесь, прославленный брат! — проникновенно произнес тихий голос, привлекший внимание Руссо. — Сообщество, в которое вы любезно согласились вступить, гораздо могущественнее, чем вы полагаете. Оно держит в своих руках будущее всего мира. А будущее, как вам известно, это надежда, это наука; будущее — это Бог, отдающий, как и обещал, свет людям. А Бог не может солгать.
Удивленный этой возвышенной речью, Руссо взглянул на собравшихся и узнал еще одного молодого человека, того самого, что назначил ему утром встречу.
Он был в черном элегантном костюме и стоял, прислонившись к боковой стенке возвышения; его лицо в неясном свете лампы казалось прекрасным, благородным и выразительным.
— Наука — это бездна! — воскликнул Руссо. — И вы еще будете говорить мне о науке! Утешения, будущее, обещания! Другой мне рассказывает о материи, выносливости и насилии. Кому я должен верить? Так, пожалуй, собрание братьев превратится в стаю голодных волков того мира, что шумит над нашими головами! Волки и овцы! Слушайте мой символ веры, раз вы не читали моих книг.
— Ваши книги! — вскричал Марат. — Они представляют собой нечто возвышенное, согласен! Но это утопии. Вы полезны так же, как Пифагор, Солон и софист Цицерон. Вы учите добру, но добру выдуманному, несуществующему, неприемлемому. Вы уподобляетесь тому, кто пытается накормить голодную толпу радужными мыльными пузырями.
— Видели ли вы когда-нибудь, — насупившись, возразил Руссо, — чтобы большие потрясения в природе происходили без предварительной подготовки? Наблюдали ли вы за рождением человека — событием обыкновенным и вместе с тем возвышенным? Обращали ли вы внимание на то, как он в материнской утробе девять месяцев готовится к жизни? А вы хотите, чтобы я обновил мир только действиями?.. Это не будет означать обновления, сударь, — это явилось бы революцией.
— Так вы, стало быть, против независимости? — яростно набросился на него молодой хирург. — Вы против свободы?
— Напротив, — отвечал Руссо, — независимость — это идол, которому я поклоняюсь, а свобода — моя богиня. Разница в том, что я желаю свободы нежной, радостной, которая согревает и оживляет. Я хочу такого равенства, что сближает друзей в дружбе, а не из страха. Я стремлюсь к тому, чтобы каждая частица общественного организма была образованна и воспитанна, как механик стремится к гармонии, а резчик по дереву — к сходству, то есть к безупречному подбору, исключительной сочетаемости всех деталей его работы. Я повторяю то, о чем уже писал: я призываю к прогрессу, согласию, самоотверженности.
На губах Марата блуждала презрительная улыбка.
— Да! Реки, кипящие млеком и медом! — подхватил он. — Елисейские поля Вергилия, поэтические мечты, которые философия надеется превратить в реальность.
Руссо не стал возражать. Он почувствовал, как нелегко отстаивать ему свою умеренность, ему, кого вся Европа считала яростным проповедником новых идей.
Чтобы успокоиться, наивный и робкий философ вопросительно взглянул на защищавшего его недавно господина и, получив его молчаливое одобрение, тоже молча сел.
Председательствовавший поднялся с места.
— Вы все слышали? — спросил он, обратившись к собранию.
— Да! — было ему ответом.
— Считаете ли вы этого господина достойным вступления в общество? Верно ли он понимает свои обязанности?
— Да, — отвечали собравшиеся, однако довольно сдержанно, что свидетельствовало о том, что до единодушия далеко.
— Принесите клятву! — обратился председатель к Руссо.
— Мне было бы неприятно думать, — высокомерно отвечал философ, — что я не понравился кому-либо из членов общества, и я должен еще раз повторить то, о чем сейчас только говорил и в чем совершенно убежден. Если бы я был оратором, я сумел бы развить свою мысль так, чтобы она захватила всех. Однако мой язык меня не слушается и искажает мою мысль, когда я прошу его немедленно ее передать. Я хотел бы сказать, что делаю гораздо больше и для мира, и для всех вас, находясь вне этого общества, чем если бы я старательно исполнял все ваши обычаи. Так позвольте мне остаться за моим занятием, с моими слабостями, в одиночестве. Как я уже сказал, я одной ногой в могиле: огорчения, болезни, нищета толкают меня туда. Вам не задержать этого великого действа природы. Оставьте меня, я создан не для того, чтобы шагать в одном строю с другими людьми, я их ненавижу и избегаю. Впрочем, я служу им, потому что я сам человек, и, отдавая им свои силы, верю в то, что они становятся лучше. Теперь вы полностью знакомы с моими мыслями, мне нечего прибавить.
— Так вы отказываетесь принести клятву? — в некотором волнении спросил Марат.
— Решительно отказываюсь. Я не желаю быть членом общества. Я вижу слишком много доказательств тому, что буду бесполезен.
— Брат! — миролюбиво заговорил незнакомец. — Позвольте мне называть вас так, потому что мы в самом деле братья, невзирая на различия наших воззрений. Итак, брат, не поддавайтесь минутной досаде, вполне естественной. Принесите в жертву свою законную гордость. Сделайте ради нас то, что вам неприятно. Ваши советы, ваши мысли, само ваше присутствие несет свет! Не ввергайте нас во мрак.
— Вы ошибаетесь, — возразил Руссо, — я ничего вас не лишаю, я всегда давал любому своему читателю, любому газетчику то, что и всему миру; если вам нужны имя и сущность Руссо…
— Нужны! — вежливо подхватили несколько голосов.
— Тогда возьмите собрание моих сочинений, разложите книги на столе председателя и, когда вы перейдете к обсуждению какого-нибудь вопроса и настанет моя очередь высказать свое мнение, раскройте мою книгу: вы найдете там мое мнение, мое суждение.
Руссо шагнул к выходу.
— Одну минутку! — остановил его хирург. — Свобода воли должна быть для каждого: и для прославленного философа, и для всех остальных. Однако было бы неверно допускать в наше святилище любого непосвященного, который, не будучи связан никаким условием, даже устным, мог бы выдать наши тайны.
Руссо взглянул на него и снисходительно улыбнулся.
— Вы требуете, чтобы я поклялся молчать? — спросил он.
— Вы сами об этом сказали.
— Извольте.
— Будьте любезны прочитать клятву, уважаемый брат, — проговорил Марат.
«Уважаемый брат» прочел клятву:
«Клянусь перед лицом всемогущего Бога, Создателя всего сущего, в присутствии верховных членов и уважаемого собрания никогда не передавать ни устно, ни письменно, ни намеком ничего из того, что мне будет открыто, а в случае неосторожности готов осудить себя сам и буду наказан по законам великого основателя, всех вышестоящих членов и буду достоин гнева моих отцов».
Руссо протянул было руку, как вдруг незнакомец, внимательно слушавший и следивший за спором с превосходством, которое никто и не ставил под сомнение, хотя он ничем не выделялся из толпы, подошел к председателю и шепнул ему на ухо несколько слов.
— Вы правы, — согласился почтенный председатель и, обращаясь к Руссо, прибавил: — Вы обыкновенный человек, а не брат, вы человек чести, случайно оказавшийся среди нас и в том же положении, что и мы. И потому мы отрекаемся от нашего правила и просим лишь дать честное слово забыть обо всем, что между нами произошло.
— Клянусь честью, что забуду все, как утренний сон! — в волнении отвечал Руссо.
С этими словами он вышел, а за ним и многие члены ложи.
CIV. ОТЧЕТ.
После того, как вышли братья второго и третьего разрядов, в ложе остались семь братьев, семь верховных членов.
Они узнали друг друга благодаря условному знаку, доказывавшему, что они посвящены в высшую степень.
Прежде всего они позаботились о том, чтобы двери были заперты. Затем их, глава обнаружил себя, показав братьям перстень с выгравированными на нем таинственными буквами L.∙.P.∙.D.
Он был уполномочен поддерживать самые главные связи ордена и состоять в сношениях с шестью другими верховными членами, проживавшими в Швейцарии, России, Америке, Швеции, Испании и Италии.
Он принес некоторые весьма важные известия, которые получил от своих собратьев для передачи кругу посвященных, занимавших положение более высокое, чем остальные, но более низкое, чем он сам.
Мы узнали в этом верховном члене Бальзамо.
Наиболее важным сообщением было письмо, в котором содержались угрожающие сообщения. Оно пришло из Швеции от Сведенборга.
«Следите за югом, братья! — говорилось в нем. — Под обжигающим солнцем пригрелся предатель. Этот предатель вас погубит.
Следите за Парижем, братья! Предатель находится там. В его руках тайны ордена, им движет ненависть.
Предательство носится в воздухе, я слышу его едва уловимый шепот. Мне было открыто, что месть будет ужасной, но она, возможно, придет слишком поздно. А пока — берегитесь, братья! Будьте осторожны! Иногда бывает довольно одного предателя, пусть недостаточно сведущего, чтобы разрушить все наши тщательно подготовленные планы».
Братья удивленно переглянулись, не проронив ни слова. Слова сурового ясновидца, его предвидение, подтверждаемое многочисленными примерами, еще более омрачили членов комитета, возглавляемого Бальзамо.
Он тоже доверял ясновидению Сведенборга. По прочтении письма у него появилось болезненное ощущение того, что грядет нечто очень страшное.
— Братья! — провозгласил он. — Вдохновенный пророк ошибается редко. Будьте же бдительны, как он вас к тому призывает. Вы не хуже меня знаете, что вот-вот начнется борьба. Давайте же постараемся, чтобы нас не одолели враги, которых мы способны без труда устранить. Не забывайте, что они располагают целым штатом наемных шпионов. Это самое сильное оружие в нашем мире, где взгляды людей простираются не далее границ земной жизни. Братья, будем же остерегаться подкупленных предателей!
— Эти опасения кажутся мне ребяческими, — раздался чей-то голос. — У нас с каждым днем прибывают силы, нас уверенно ведут за собой блестящие умы.
Бальзамо поклонился, благодаря льстеца за похвалу.
— Да, это так! Однако, как сказал наш прославленный вождь, предательство просачивается отовсюду, — возразил брат, оказавшийся не кем иным, как хирургом Маратом, возведенным, несмотря на его молодость, в высшую степень, благодаря чему он присутствовал теперь впервые на подобном совещании. — Вспомните, братья, что, чем больше приманка, тем больше и добыча. Если господин де Сартин за кошелек экю может купить признания одного из наших неизвестных братьев, то министр, посулив миллион или высокий чин, может купить одного из наших верховных членов. Вот почему у нас принято, чтобы братья низших степеней ничего не знали. Самое большее, что им известно, это несколько сот имен товарищей, да и то эти имена сами по себе ничего не значат. Наш орден прекрасно организован, но эта организация весьма аристократична: низшие братья ничего не знают, ничего не могут; их собирают, чтобы сообщить или услышать от них ничего не значащие сведения. Впрочем, они тратят деньги и время для укрепления нашего здания. Задумайтесь над тем, что подручный каменщика приносит лишь камень и раствор, но сможете ли вы без камня и раствора построить дом? Итак, этот подручный получает скудное вознаграждение, однако я склонен рассматривать его наравне с архитектором, по плану которого создается все здание. А еще я считаю архитектора и каменщика равными друг другу потому, что, с философской точки зрения, последний тоже человек, такой же человек, как и все, он несет свою долю несчастий, отпущенных ему судьбой, и даже в большей степени, чем другие: на него может упасть камень, или под ним могут рухнуть леса.
— Я позволю себе вас прервать, брат, — вмешался Бальзамо. — Вы отклонились от занимающей нас темы. Ваш недостаток, брат, заключается в излишнем усердии и стремлении к обобщениям. Сегодня мы не обсуждаем, хороша или плоха наша организация. Нам необходимо укрепить свои ряды, сплотиться внутри нашего общества. Если бы я собирался с вами дискутировать, я ответил бы вам следующим образом: нет, орган, производящий движение, не может быть приравнен к гению создателя. Нет, рабочий не может рассматриваться наравне с архитектором; нет, мозг и рука не равны друг другу.
— Допустим, что господин де Сартин схватит одного из наших братьев низшего ранга, — вскричал Марат, — разве он не сгноит его в Бастилии точно так же, как вас и меня?
— Согласен. Однако в первом случае ущерб будет лишь для индивида, а не для ордена, который должен для нас быть превыше всего, а вот если в тюрьму попадет верховный член, движение остановится: если нет генерала, армия проигрывает сражение. Так радейте же, братья, о спасении вождей!
— Да, но пусть и они о нас заботятся!
— Это их долг.
— И пусть за свои ошибки они расплачиваются вдвойне.
— Еще раз вынужден повторить, брат мой, что вы удаляетесь от установлений ордена. Разве вам не известно, что клятва, объединяющая всех членов нашего братства, едина и предусматривает для всех одинаковое наказание?
— Знатные всегда найдут возможность его избежать.
— Сами они придерживаются другого мнения, брат. Послушайте конец письма нашего пророка Сведенборга, одного из наших верховных членов. Вот что он прибавляет:
«Зло придет от одного из верховных членов, от очень высокого чина ордена, если же и не от него лично, его вина от этого не будет меньшей; помните, что огонь и вода могут быть заодно; один дает свет, другая — откровения.
Будьте бдительны, братья! Следите за всем и вся, следите!».
— Тогда давайте повторим связывающую нас клятву, — продолжал Марат, ухватившись в речи Бальзамо и письме Сведенборга за то, из чего он рассчитывал извлечь выгоду, — давайте пообещаем сдержать ее во всей строгости, кем бы ни оказался предавший или послуживший причиной предательства.
Бальзамо некоторое время собирался с мыслями, затем поднялся с места и произнес священные слова, уже знакомые нашим читателям. Он говорил медленно, торжественно, угрожающе.
— «Во имя распятого Бога-сына клянусь порвать плотские связи, соединяющие меня с отцом, матерью, братьями, сестрами, женой, близкими, друзьями, любовницами, монархами, благодетелями — с любым существом, которому я обещал верность, повиновение или помощь.
Клянусь открыть начальнику, которого я признаю согласно статуту ордена, то, что я видел или совершил, прочел или о чем слышал, узнал или догадался, а также выведывать или искать то, что не сразу откроется моему взору.
Клянусь отдавать должное яду, мечу и огню как средствам очищения земного шара смертью или одурманиванием врагов истины или свободы.
Клянусь соблюдать закон молчания. Я готов умереть, пораженный громом и молнией, в тот день, когда заслужу наказание, и я встречу без стонов удар ножа, который настигнет меня в любом уголке земного шара, где бы я ни находился».
Семь человек, составлявших мрачное собрание, слово в слово повторили клятву, поднявшись и обнажив головы.
Когда клятва была произнесена, снова заговорил Бальзамо:
— Мы заручились клятвой. Давайте же не отвлекаться от предмета нашей беседы. Я должен представить комитету отчет об основных событиях года.
Мое управление нашими делами во Франции будет представлять некоторый интерес для ваших просвещенных и пытливых умов.
Итак, я начинаю.
Франция есть центр Европы, как сердце в живом организме. Она живет сама и дарит жизнь. Стоит ей взволноваться, как весь организм чувствует недомогание.
Я приехал во Францию и поступил с Парижем, как доктор поступает с больным сердцем: я выслушал, ощупал, провел наблюдения. Когда год назад я к нему только приблизился, монархия недомогала; сегодня пороки ее убивают. Мне следовало ускорить действие этих губительных оргий, а для этого я им способствовал.
У меня на пути было одно препятствие в лице человека. Это был не просто первый, но и самый могущественный человек в государстве после короля.
Он был наделен некоторыми из тех качеств, что нравятся другим людям. Правда, он был чрезмерно честолюбив, однако он умело вплетал честолюбие в свои дела. Он знал, как смягчить порабощение народа, заставив его поверить, а иногда воочию убедиться в том, что народ — часть государства; советуясь с ним временами о его нуждах, он поднимал знамя, вокруг которого всегда объединяют массы: это дух нации.
Он ненавидел англичан, естественных врагов Франции. Он ненавидел фаворитку, всегдашнего врага народа. И вот если бы этому человеку суждено было бы когда-нибудь стать узурпатором, если бы он стал одним из нас, если бы он следовал нашим путем, действовал в наших интересах, я берег бы его, он нашел бы у меня всяческую поддержку, я ничего бы для него не пожалел. Ведь вместо того чтобы подправлять прогнивший трон, он опрокинул бы его вместе с нами в назначенный день. Но он принадлежал к аристократическому классу, у него в крови было почитание верховной власти — он на нее не претендовал, монархии — на нее он не осмеливался замахнуться; он бережно относился к королевской власти, хотя и презирал короля; он делал еще больше: он служил щитом этой самой власти, на которую были направлены наши удары. Парламент и народ были преисполнены уважения к этой живой преграде расширению королевской прерогативы и оказывали ему лишь умеренное сопротивление, уверенные в том, что им будет обеспечена мощная поддержка, когда придет их час.
Я понял, как сложились обстоятельства. Я подготовил падение господина де Шуазёля.
Это сложное дело, за которое все десять лет брались многочисленные заинтересованные лица, питавшие ненависть к министру, я начал и завершил всего за несколько месяцев при помощи таких средств, о которых не стоит рассказывать. Благодаря некой тайной силе, являющейся моим оружием, тем более мощным, что оно останется навсегда скрыто от всех глаз, я опрокинул, прогнал господина де Шуазёля, а вслед за ним потянулся длинный шлейф сожалений, разочарований, жалоб и озлоблений.
И вот теперь мой труд приносит плоды: вся Франция требует вернуть Шуазёля и встанет на его защиту, как сироты обращаются к Небу, когда Бог прибирает их родителя.
Парламенты пользуются своим единственным правом: правом бездеятельности. И вот уже они прекратили свои заседания. В хорошо налаженном организме, каким должно быть сильное государство, остановка одного из основных органов смертельна. Парламент выполняет в общественном организме роль желудка: как только он перестает работать, народ — потроха государства — тоже не работает, а следовательно, и не платит. Таким образом, становится ощутимой недостача золота, выполняющего функцию крови в этом организме. Правительство, разумеется, захочет бороться. Однако кто станет воевать против народа? Уж во всяком случае, не армия, дочь народа, питающаяся хлебом хлебопашца и пьющая вино виноградаря. Остаются военная свита короля, привилегированные части, гвардия, швейцарцы, мушкетеры — всего пять-шесть тысяч человек! Что может сделать эта горстка пигмеев, когда народ поднимается, подобно великану?
— Так пусть поднимается, пусть! — закричали сразу несколько голосов.
— Да, да! За дело! — крикнул Марат.
— Молодой человек, я не просил еще вашего совета, — холодно остановил его Бальзамо. — Такое возмущение масс, — продолжал он, — такое восстание слабых, почувствовавших свою силу в единстве и сплоченности против одинокого гиганта, могло бы быть вызвано сейчас только незрелыми умами! И оно было бы достигнуто без особых усилий, что меня особенно пугает. Однако я все хорошо обдумал, изучил, взвесил. Я спустился в народные глубины, облекся в одежды народа и проникся его сущностью, выносливостью, грубостью, я увидел его так близко, что сам стал его частью. Итак, сегодня я могу сказать, что знаю его. И я не ошибусь в его оценке. Он силен, но невежествен; его легко возмутить, но он незлопамятен — одним словом, он еще не созрел для такого восстания, каким я его себе мыслю и хотел бы видеть. Ему не хватает знаний, которые помогают видеть события с двух сторон — с точки зрения истории и с точки зрения их полезности. Ему не хватает памятливости, чтобы запомнить свой собственный опыт.
Он похож на дерзких юношей, какие мне встречались в Германии на народных гуляньях: они отважно взбирались на самую верхушку корабельной мачты, к которой ландфогт приказывал привязать окорок и серебряный кубок. Разгоряченные желанием достать приз, они бросались к мачте и необыкновенно проворно взбирались вверх. Но когда они почти достигали цели, когда оставалось лишь протянуть руку и схватить приз, силы их оставляли и они падали под свист толпы.
В первый раз это случалось с ними так, как я только что описал; в другой раз они сберегали силы и следили за дыханием; однако, затрачивая больше времени на подъем, они падали из-за медлительности, как в первый раз — из-за поспешности. Наконец, в третий раз они находили золотую середину и благополучно взбирались наверх. Вот план, что я обдумываю. Попытки, бесконечные попытки приближают нас к цели вплоть до того дня, когда верная удача позволит нам ее достичь.
Бальзамо замолчал и оглядел нетерпеливых слушателей, кипевших молодостью и неопытностью.
— Говорите, брат, — разрешил он Марату, волновавшемуся более других.
— Я буду краток, — начал Марат. — Попытки только утомляют народ, если и вовсе не расхолаживают. Попытки — это в духе господина Руссо, гражданина Женевы, великого поэта, но гения робкого, гражданина бесполезного, которого Платон изгнал бы из своей республики! Ждать! Опять ждать! Со времен эмансипации коммун и восстания майотенов вы ждете уже семь столетий! Пересчитайте, сколько поколений умерло в ожидании, и попробуйте после этого произнести это роковое слово: «Ждать!» Господин Руссо говорит нам об оппозиции, какой она была в пору великого века, когда ее представляли перед маркизами и у ног короля Мольер со своими комедиями, Буало со своими сатирами, Лафонтен со своими баснями.
Жалкая и немощная оппозиция, ни на йоту не приблизившая счастья человечества. Все это сказочки для маленьких детей. Рабле тоже занимался политикой в вашем понимании, однако такая политика вызывает только смех и ничего более. Видели ли вы за последние триста лет, чтобы хоть одно злоупотребление властей было исправлено? Довольно с нас поэтов! Довольно теоретиков! Труд, действие — вот что нам необходимо! Мы уже три столетия пытаемся вылечить Францию с помощью медицины — настала пора вмешаться хирургии со скальпелем в руках. Общество поражено гангреной, остановим же ее железом! Ждать может только тот, кто, встав из-за стола, ложится на пуховую перину, с которой рабы сдувают лепестки роз, потому что полный желудок сообщает мозгу нежные пары, веселящие и радующие его. А вот голод, нищета, отчаяние отнюдь его не насыщают; стихи, сентенции, фаблио не приносят облегчения. Нищие громко кричат от голода. Только глухой может не слышать этих стонов. Пусть будет проклят тот, кто не отвечает на них. Восстание, даже если оно будет подавлено, прояснит умы больше, чем целое тысячелетие наставлений, больше, чем три столетия примеров; восстание покажет в истинном свете королей, если и не опрокинет их вовсе. А этого уже много, этого уже довольно!
Послышался одобрительный шепот.
— Где наши враги? — продолжал Марат. — Это те, кто в обществе выше нас; они охраняют вход во дворцы, занимают ступеньки вокруг трона. На этом троне — палладий, который они охраняют с еще большим усердием и страхом, чем троянцы. Ведь этот самый палладий делает их всемогущими, богатыми, заносчивыми — вот что такое для них королевская власть. К королю можно подобраться только через трупы тех, кто его охраняет, как можно захватить генерала, разбив батальон его охраны. Если верить истории, много батальонов было разбито, много генералов взято в плен со времен Дария вплоть до короля Иоанна, начиная от Регула и до Дюгеклена.
Разобьем гвардию — и мы доберемся до идола. Разгромим сначала часовых — и мы одолеем командира. Первая атака — на придворных, на благородных, на аристократов! Последняя — на короля! Сочтите всех привилегированных: наберется едва ли двести тысяч. Пройдитесь с острым мечом в руках по прекрасному саду под названием «Франция» и срубите эти двести тысяч голов, как поступил Тарквиний на маковом поле в Лации, — и делу конец. После этого две силы предстанут одна против другой: народ и король. Король — не более чем символ — попытается бороться с народом, этим колоссом. Вот тогда вы увидите, на чьей стороне будет победа. Когда карлики нападают на великана, они начинают с пьедестала. Когда дровосеки хотят срубить дуб, они рубят под корень. Дровосеки! Дровосеки! Возьмемся за топор, начнем с корней, и придет час, когда древний дуб окажется на земле.
— И раздавит вас, как пигмеев, в своем падении, несчастные! — громовым голосом вскричал Бальзамо. — Вы обрушиваетесь на поэтов, а сами говорите еще более поэтично, более образно, чем они! Брат, брат! — продолжал он, обращаясь к Марату. — Вы заимствовали эти слова, я в этом уверен, из какого-нибудь романа, который вы пописываете в своей мансарде.
Марат покраснел.
— Знаете ли вы, что такое революция? — продолжал Бальзамо. — Я видел их сотни две и могу вам о них рассказать. Я видел революции в Древнем Египте, Ассирии, Греции, Риме, Византийской империи. Я был свидетелем средневековых революций, когда одни люди бросались на других, Восток шел стеной на Запад, а Запад — на Восток, люди резали друг друга, не умея договориться. Со времен резни, учиненной царями-пастухами, и до наших дней произошла, может быть, сотня революций. Вы жаловались, что живете в рабстве. Значит, революции ни к чему не приводят. А почему? Потому что те, кто производил революцию, страдали одним и тем же недугом: нетерпением.
Разве Бог, направляющий революции смертных, торопится?
«Срубите, срубите дуб!» — кричите вы, вместо того чтобы сообразить: дуб падает всего одну секунду и покрывает собою площадь, которую лошадь, пущенная вскачь, будет обегать в тридцать секунд. Значит, те, что будут рубить дуб, не смогут избежать его стремительного падения и окажутся погребены под его необъятной кроной. Вы этого хотите? Ну так от меня вам этого не добиться. Я, подобно Богу, сумел прожить двадцать, тридцать, сорок человеческих жизней. Я, как Бог, вечен и, так же как он, терпелив. Я несу свою судьбу, а вместе с ней — вашу и всего человечества, в своих руках. Никто не заставит меня разжать руки, полные потрясающих истин. Ведь это было бы подобно громовому раскату. И я знаю это! Молния так же надежно спрятана в моей руке, как во всемогущей Божьей деснице.
Господа! Господа! Давайте оставим эти высоты и спустимся на землю.
Господа! Скажу вам просто и убежденно: еще не время! Нынешний король, последний потомок великого предка, еще почитаем в народе; в его величии есть нечто такое, что способно погасить вспышки вашего гнева. Тот, что сейчас у власти, — настоящий король и умрет королем. Его происхождение написано у него на лбу, оно определяется по жесту, по звуку голоса. Этот властитель всегда останется королем. Если мы его свалим, произойдет то, что уже было с Карлом Первым: палачи первые падут перед ним ниц, а придворные, виновные в его несчастье, вроде лорда Кейпела, станут лобызать топор, отсекший голову их господину.
Как все вы, господа, знаете, Англия поторопилась. Король Карл Первый умер на эшафоте, это верно. Однако Карл Второй, его сын, умер на троне.
Подождите, подождите, господа! Сейчас время играет нам на руку.
Вы хотите растоптать лилии. Это наш общий девиз: «Lilia pedibus destrue». Но нужно сделать это так, чтобы не осталось ни единого корешка, позволявшего надеяться на то, что цветок Людовика Святого распустится еще раз. Вы хотите уничтожить королевскую власть? Чтобы королевской власти более не существовало, необходимо прежде всего навсегда ослабить ее престиж и ее основы. Вы хотите уничтожить королевскую власть? Дождитесь, пока королевская власть перестанет быть служением религии и превратится в должность, подождите, пока обязанности короля будут исполняться не в храме, а в лавке. Таким образом королевская власть лишится своего священного смысла, то есть король перестанет быть законным преемником и наместником Бога на земле, и власть его будет утрачена навсегда. Слушайте! Слушайте! Этот непобедимый, непреодолимый барьер между нами, ничтожествами, и существами почти божественными… Народ никогда не осмеливался переступить ту грань, которая зовется наследственным правом на престол. Эти слова сияли, словно маяк в ночи, и до сего дня оберегали королевскую власть от крушения. И вот теперь этим словам суждено угаснуть под влиянием роковой тайны.
Принцесса, привезенная во Францию для продолжения королевского рода, добавив к нему свою императорскую кровь, принцесса, год назад ставшая супругой наследника французского престола… Подойдите ближе, господа: я бы не хотел, чтобы мои слова вышли за пределы вашего круга.
— Так что же? — беспокойно переспросили шесть верховных членов.
— Так вот, господа: дофина — пока девственница!
Зловещий ропот, способный напугать сразу всех королей — столько в нем было злорадства и мстительного торжества, — вырвался, словно отравленная стрела, из тесного круга сомкнутых шести голов, а над ними словно парил Бальзамо, наклонившись с возвышения.
— При таком положении вещей, — продолжал Бальзамо, — представляются возможными два пути, оба одинаково благоприятные для достижения нашей цели.
Первая гипотеза заключается в том, что дофина останется бездетной. В этом случае род угаснет и будущее не обещает нашим друзьям ни боев, ни трудностей, ни сомнений. Светлое будущее наступит само собой, благодаря тому, что этому роду предопределено вымирание, как уже случалось во Франции всякий раз, когда наследников престола оставалось трое. Так было с сыновьями Филиппа Красивого: Людовик Сварливый, Филипп Длинный и Карл Четвертый, умершие бездетными после того, как поочередно сидели на королевском троне. Так случилось и с тремя сыновьями Генриха Второго: Франциском Вторым, Карлом Девятым и Генрихом Третьим, скончавшимися бездетными после того, как каждый из них побывал у власти. Подобно им, его высочество дофин, граф Прованский и граф д’Артуа один за другим будут править страной и все трое умрут бездетными, как их предки: таков закон судьбы.
А затем, как после Карла Четвертого, последнего из рода Капетингов, пришел Филипп Шестой Валуа, родственник по боковой линии предыдущих королей; после того как Генриха Третьего, последнего из рода Валуа, сменил Генрих Четвертый Бурбон, побочный родственник предыдущего рода; после графа д’Артуа, записанного в книге судеб как последнего из королей старейшего рода, придет, быть может, какой-нибудь Кромвель или Вильгельм Оранский, чужак либо по крови, либо по праву наследования.
Вот что нам даст первая гипотеза.
Вторая заключается в том, что у ее высочества будут дети. Вот прекрасная ловушка для наших врагов, куда они попадутся, будучи уверенными в том, что загнали в нее нас с вами. Если ее высочество не останется бездетной, если она станет матерью, ах, как все при дворе возрадуются и будут считать, что королевская власть во Франции укрепилась! У нас тоже будут причины для радости: мы будем располагать тайной столь страшной, что никакой престиж, никакая власть, никакие усилия не умалят известных лишь нам преступлений и не спасут от несчастий, грозящих будущей королеве из-за ее плодовитости. Мы без труда докажем, что наследник, которого она подарит трону, — незаконный, а ее плодовитость мы объявим результатом супружеской неверности. Рядом с этим мнимым счастьем, словно посланным Небом, бездетность покажется ее высочеству великой милостью Божьей. Вот почему я воздерживаюсь, господа. Вот почему я выжидаю, братья! Вот почему, наконец, я считаю бесполезным разжигать сегодня страсти в народе: я смогу употребить их с пользой, когда настанет час.
Теперь, господа, вы знаете, что было сделано за этот год. Вы видите, как мы продвинулись. Можете быть уверены, что мы победим благодаря гению и отваге тех, кто будет глазами и мозгом; благодаря настойчивости и трудам тех, кто будет руками; благодаря вере и преданности тех, кто будет сердцем нашего союза. Вы должны проникнуться необходимостью слепого повиновения. Помните, что ваш руководитель тоже подчинится воле статутов ордена в тот день, когда эти статуты того потребуют.
На этом, господа, на этом, возлюбленные братья, я и закрыл бы заседание, если бы мне не надо было совершить еще одно благое дело и указать на зло.
Сегодня нас посетил великий писатель. Он был бы уже в наших рядах, если бы неуместное усердие одного из наших братьев не испугало его робкое сердце. Писатель был совершенно прав, когда говорил о нашем собрании, и я рассматриваю как огромное несчастье тот факт, что посторонний одержал верх над большинством братьев, плохо знающих наши правила и не имеющих понятия о нашей конечной цели.
Руссо, победивший софизмами, взятыми из своих книг, истины нашего братства, указал на серьезный порок, который я выжег бы каленым железом, если бы у меня не оставалась надежда излечить его при помощи убеждения. У одного из наших братьев болезненно развито самолюбие. Оно привело к тому, что в этой дискуссии мы потерпели поражение. Надеюсь, что это более не повторится, в противном случае мне придется прибегнуть к дисциплинарным мерам.
Теперь, господа, призываю вас к тому, чтобы вы распространяли нашу веру добром и убеждением. Действуйте внушением, не навязывайте истину, не насаждайте ее против воли, огнем и мечом, как инквизиторы или палачи. Не забывайте, что мы станем великими, только когда сумеем стать добрыми, а нас признают добрыми лишь в том случае, если мы будем казаться лучше тех, кто нас окружает. Запомните также, что лучшие и добрейшие из нас — ничто без науки, искусства и веры. Наконец, они ничтожны по сравнению с теми, кого Господь отметил особым даром руководить людьми и управлять империями!
Господа! Заседание закрыто.
С этими словами Бальзамо надел шляпу и завернулся в плащ.
Посвященные в полном молчании расходились по одному, дабы не вызвать подозрений.
CV. ТЕЛО И ДУША.
Рядом с Бальзамо остался только Марат, хирург.
Побледнев, он почтительно и робко подошел к грозному оратору, власть которого не знала границ.
— Учитель! Неужели я и в самом деле допустил ошибку? — спросил он.
— И немалую, — отвечал Бальзамо. — Но что еще хуже — вы не верите в то, что в самом деле виноваты.
— Да, признаюсь, вы правы. Я не только не думаю, что допустил ошибку, — я верю в то, что говорил правильно.
— Гордыня! Гордыня! — прошептал Бальзамо. — Гордыня — демон разрушения! Люди сумеют победить лихорадку в крови больного, одолеют чуму в воде и в воздухе, но они позволяют гордыне пустить столь глубокие корни в их сердца, что потом никак не могут вырвать ее оттуда.
— Учитель! До чего же вы плохого обо мне мнения! Неужели я и в самом деле так ничтожен, что не выдерживаю сравнения с себе подобными? Неужели я так мало почерпнул из своего труда и неспособен сказать свое слово, чтобы не быть сейчас же уличенным в невежестве? Или я уже не страстный приверженец и сила моего убеждения вызывает сомнение? Даже если это так, я все ж, по меньшей мере, живу преданностью святому делу народа.
— Добро еще борется в вас со злом, — заметил Бальзамо. — И мне кажется, что придет тот день, когда зло возьмет верх. Я попытаюсь избавить вас от недостатков. Если мне суждено в этом преуспеть, если гордыня еще не подавила в вас другие чувства, я мог бы сделать это в течение часа.
— Часа? — переспросил Марат.
— Да. Угодно вам подарить мне этот час?
— Разумеется.
— Где я могу вас увидеть?
— Учитель! Это я должен прийти туда, где вы изволите назначить встречу своему покорному слуге.
— Ну хорошо, — сказал Бальзамо, — я приду к вам.
— Прошу вас обратить внимание на то, что вы сами этого пожелали, учитель. Я живу в мансарде на улице Кордельеров. В мансарде, слышите? — повторил Марат, словно выставляя напоказ свою бедность и хвастаясь своей нищетой, что отнюдь не ускользнуло от внимания Бальзамо, — тогда как вы…
— Тогда как я?..
— Вы, как рассказывают, живете во дворце.
Тот пожал плечами, как сделал бы великан, наблюдая сверху за тем, как сердится карлик.
— Хорошо, — отвечал он, — я приду к вам в мансарду.
— Когда вас ждать?
— Завтра.
— В котором часу?
— Поутру.
— Я с рассветом пойду в анатомический театр, а оттуда — в больницу.
— Это именно то, что мне нужно. Я попросил бы вас проводить меня туда, если бы вы не предложили этого сами.
— Приходите пораньше. Я мало сплю, — сказал Марат.
— А я вообще не сплю, — сказал Бальзамо. — Ну так до утра!
— Я буду вас ждать.
На том они и расстались, потому что подошли к двери, ведущей на улицу, столь же темную и безлюдную теперь, сколь оживленной и шумной была она в ту минуту, как они входили в дом.
Бальзамо пошел налево и скоро исчез из виду.
Марат последовал его примеру, только свернул направо и зашагал на длинных худых ногах.
Бальзамо был точен: на следующий день в шесть утра он уже стоял перед дверью на лестничной площадке; эта дверь находилась в центре коридора, в который выходили шесть дверей. Это был последний этаж одного из старых домов на улице Кордельеров.
Было заметно, что Марат готовился к тому, чтобы как можно достойнее принять именитого гостя. Куцая ореховая кровать, комод с деревянным верхом засверкали чистотой под шерстяной тряпкой прислуги, изо всех сил натиравшей эту рухлядь.
Марат старательно ей помогал, поливая из голубого фаянсового горшка бледные звездочки цветов — единственного украшения мансарды.
Он зажимал под мышкой полотняную тряпку; это свидетельствовало о том, что он взялся за цветы только после того, как помог протереть мебель.
Ключ торчал в двери, и Бальзамо вошел без стука. Он застал Марата за этим занятием.
При виде учителя Марат покраснел значительно сильнее, чем следовало бы истинному стоику.
— Как видите, я слежу за своим домом, — проговорил он, незаметно швырнув предательскую тряпку за занавеску, — я помогаю этой славной женщине. Я выбрал, может быть, занятие не то чтобы совсем плебейское, но и не совсем достойное знатного господина.
— Это занятие, достойное бедного молодого человека, любящего чистоту, и только, — холодно заметил Бальзамо. — Вы готовы? Как вам известно, мне время дорого.
— Сию минуту, я только надену сюртук… госпожа Гриветта, сюртук!.. Это моя консьержка, мой камердинер, моя кухарка, моя экономка, и обходится мне она всего в один экю в месяц.
— Я ценю экономию, — отвечал Бальзамо. — Это богатство бедняков и мудрость богатых.
— Шляпу! Трость! — приказал Марат.
— Протяните руку, — вмешался Бальзамо. — Вот ваша шляпа; трость, которая лежит рядом со шляпой, тоже, без сомнения, ваша.
— Простите, я так смущен.
— Вы готовы?
— Да, сударь. Часы, госпожа Гриветта!
Госпожа Гриветта окинула взглядом комнату, но ничего не ответила.
— Вам не нужны часы, чтобы отправиться в анатомический театр и в больницу. Часы, возможно, пришлось бы долго искать, и это нас задержит.
— Но я очень дорожу своими часами. Это отличные часы, я купил их благодаря строжайшей экономии.
— В ваше отсутствие госпожа Гриветта их поищет, — с улыбкой заметил Бальзамо, — и если она будет искать хорошо, то к вашему возвращению часы найдутся.
— Ну, конечно! — отвечала г-жа Гриветта. — Конечно, найдутся, если господин не оставил их где-нибудь. Здесь ничего не может потеряться.
— Вот видите! — проговорил Бальзамо. — Идемте, идемте!
Марат не посмел настаивать и с ворчанием последовал за Бальзамо.
Когда они были у двери, Бальзамо спросил:
— Куда мы пойдем сначала?
— В анатомический театр, если вы ничего не имеете против. У меня на примете есть один человек, который должен был умереть сегодня ночью от острого менингита. Мне нужно изучить его мозг, и я не хотел бы, чтобы мои товарищи меня опередили.
— Ну, так идемте в анатомический театр, господин Марат.
— Тем более, что это в двух шагах отсюда. Он примыкает к больнице, и нам придется только войти да выйти. Вы даже можете подождать меня у двери.
— Напротив, мне хотелось бы зайти вместе с вами: вы мне скажете свое мнение о… больном.
— Когда он был еще жив?
— Нет, с тех пор, как он стал мертвецом.
— Берегитесь! — с улыбкой воскликнул Марат. — Я смогу взять над вами верх, потому что досконально изучил эту сторону своей профессии и, как говорят, стал искусным анатомом.
— Гордыня! Гордыня! Опять гордыня! — прошептал Бальзамо.
— Что вы сказали? — спросил Марат.
— Я сказал, что это мы еще увидим, — отвечал Бальзамо. — Давайте войдем!
Марат первым вошел в тесный подъезд анатомического театра, расположенного в самом конце улицы Отфей.
Бальзамо без колебаний последовал за ним. Они пришли в длинный и узкий зал. На мраморном столе лежали два трупа: один — женщины, другой — мужчины.
Женщина умерла молодой. Мужчина был старый и лысый. Грубый саван покрывал их тела, оставляя наполовину открытыми их лица.
Оба лежали бок о бок на ледяной постели. Скорее всего, они никогда не встречались в этом мире, и вот теперь их вечные души были, должно быть, очень удивлены, видя такое тесное соседство их земных оболочек.
Марат приподнял и отшвырнул грубое одеяние, укрывавшее обоих несчастных: скальпель хирурга и смерть их уравняли.
Трупы были обнажены.
— Вид смерти вас не отталкивает? — спросил Марат с присущим ему высокомерием.
— Он меня огорчает, — отвечал Бальзамо.
— Это с непривычки, — заметил Марат. — Я вижу это представление каждый день и поэтому не испытываю ни огорчения, ни отвращения. Мы, практики, живем, как видите, среди мертвецов, и они никоим образом не отвлекают нас от наших привычных занятий.
— Это довольно печальная привилегия вашей профессии.
— И потом, — прибавил Марат, — чего ради я стал бы огорчаться или испытывать отвращение? Ведь у меня есть разум, а кроме того, я уже привык…
— Поясните свою мысль, — попросил Бальзамо, — я не совсем вас понимаю. Начните с разума.
— Как вам будет угодно. Почему я должен бояться? С какой стати мне испытывать страх при виде неподвижного тела, точно такой же статуи из плоти, как если бы она была из мрамора или гранита?
— А в мертвом теле действительно ничего нет?
— Ничего, совершенно ничего.
— Вы так думаете?
— Уверен!
— А в живом теле?
— А живое обладает движением! — с видом превосходства проговорил Марат.
— Вы ничего не говорите о душе, сударь…
— Я никогда ее не видал, копаясь в человеческом теле со скальпелем в руках.
— Это оттого, что вы копались только в мертвых телах.
— Вы не правы, я много оперировал и живых.
— И вы никогда не обнаруживали в них ничего такого, что отличало бы их от мертвых?
— Я находил боль. Может быть, под душой вы подразумеваете физическое страдание?
— Так вы, стало быть, не верите?
— Во что?
— В душу.
— Верю, однако я называю это движением.
— Прекрасно! Итак, вы верите в существование души — это все, о чем я вас спрашивал. Мне нравится, что вы в это верите.
— Погодите, учитель! Кажется мы не поняли друг друга. Не будем преувеличивать, — злобно улыбнулся Марат. — Мы, практики, до некоторой степени, материалисты.
— Как холодны эти тела! — задумчиво проговорил Бальзамо. — А эта женщина была очень хороша собой.
— Да!
— В таком прекрасном теле была, несомненно, прекрасная душа.
— Вот в этом ошибка того, кто ее создал. Прекрасные ножны и никудышный клинок! Это тело, учитель, принадлежало мошеннице, которая, не успев выйти из Сен-Лазара, скончалась от воспаления мозга в Отель-Дьё. Ее жизнеописание пространное и очень скандальное. Если вы называете душой движение, руководившее этим существом, вы оскорбили бы наши души, уподобляя их ее душе.
— Ее душу следовало бы лечить, — возразил Бальзамо, — она погибла потому, что рядом не оказалось единственно необходимого врача — врачевателя души.
— Учитель! Это только ваша теория. Врачи существуют для того, чтобы лечить тело, — горько усмехнувшись, сказал Марат. — У вас, учитель, едва не сорвалось сейчас с губ одно слово: Мольер часто вставлял его в свои комедии. Это оно заставило вас улыбнуться.
— Нет, — возразил Бальзамо, — вы ошибаетесь и не можете знать, чему я улыбаюсь. Итак, мы пришли к выводу, что в мертвых телах ничего нет?
— Да, и они ничего не чувствуют, — подхватил Марат, приподняв голову молодой женщины и отпустив ее, так что она со стуком ударилась о мрамор; тело при этом не только не двинулось, но и не дрогнуло.
— Прекрасно! — воскликнул Бальзамо. — Теперь пойдемте в больницу.
— Одну минуту, учитель. Если позволите, я сначала отрежу ей голову. У меня большое желание в этой голове покопаться: в ней гнездилась весьма любопытная болезнь, вы позволите?
— Я вас не совсем понимаю, — молвил Бальзамо.
Марат раскрыл сумку с инструментами, вынул бистурей и взял в углу огромный деревянный молоток, забрызганный кровью.
Опытной рукой он сделал круговой надрез, рассекая кожу и мышцы шеи. Добравшись до кости, он вставил свой инструмент между двумя позвонками и резко и энергично ударил по нему деревянным молотком.
Голова покатилась по столу, со стола на пол. Марат подхватил ее мокрыми руками.
Бальзамо отвернулся, не желая доставлять радость победителю.
— Придет день, — заговорил Марат, полагавший, что нащупал слабое место учителя, — когда какой-нибудь филантроп займется изучением смерти, как другие занимаются жизнью. Он изобретет машину, которая отделяла бы одним махом голову от тела и производила бы мгновенное уничтожение, что недоступно никакому другому орудию смерти; колесование, четвертование и повешение — это пытки, достойные варваров, а не цивилизованных людей. Просвещенная нация вроде французской должна наказывать, но не мстить; общество, которое колесует, вешает или четвертует, мстит преступнику мучением, прежде чем наказать его смертью, а это, как мне кажется, в корне неверно.
— Я с вами согласен. А как вы представляете себе этот инструмент?
— Я полагаю, что это должна быть машина, столь же холодная и бесстрастная, как сам закон. Человек, в чьи обязанности входит наказание, начинает волноваться при виде себе подобного и порой промахивается, как было в случаях с графом Шале и герцогом Монмаутом. Этого не может случиться с машиной, которая состояла бы, например, из двух дубовых лап, приводящих в действие нож.
— А вы думаете, что если нож молниеносно скользнет между основанием затылка и трапециевидными мышцами, то смерть будет мгновенной, а страдание — недолгим?
— Смерть будет мгновенной, это бесспорно, потому что железо разом отсечет нервы, сообщающие телу движение. Страдание будет недолгим, потому что железо отделит мозг, где собраны все чувства, от сердца, в котором бьется жизнь.
— Казнь через обезглавливание существует в Германии, — заметил Бальзамо.
— Да, но там голову отсекают мечом, а я уже говорил вам, что рука может дрогнуть.
— Подобная машина есть в Италии. Ее приводит в движение дубовый корпус, она называется mannaja.
— Ну и что же?
— Я видел, как преступники, обезглавленные палачом, поднимались на ноги, уходили, покачиваясь, и падали в десяти шагах от места казни. Мне случалось поднимать головы, скатывавшиеся к подножию mannaja, точно так же, как вы держите за волосы голову, скатившуюся с мраморного стола; стоило шепнуть этой голове имя, данное ей при крещении, как глаза приоткрывались и поворачивались в орбитах, желая увидеть того, кто окликнул с земли переходящего в этот момент в мир иной.
— Это всего-навсего движение нервов.
— Разве нервы не органы чувств? Я полагаю, что человеку следовало бы не изобретать машину, убивающую ради наказания, а искать способ наказания без умерщвления. Поверьте, что общество, которому удалось бы найти такой способ, стало бы самым лучшим и самым просвещенным на земле.
— Опять утопия! Все время какие-нибудь утопии! — проворчал Марат.
— На этот раз вы скорее всего правы, — согласился Бальзамо. — Время покажет… Впрочем, вы, кажется, говорили о больнице… Идемте же!
— Пожалуй.
Марат завернул голову женщины в платок, аккуратно связав все четыре уголка.
— Теперь я, по крайней мере, уверен, — проговорил, выходя, Марат, — что моим товарищам достанется только то, что не нужно будет мне.
Они отправились в Отель-Дьё. Мечтатель и практик шагали рядом.
— Вы очень хладнокровно и ловко отрезали эту голову, — сказал Бальзамо. — Когда вы меньше волнуетесь: имея дело с живыми или соприкасаясь с мертвыми? Что более вас трогает: страдание или неподвижность? Кого вам больше жаль: живое тело или покойника?
— Слабость была бы недостатком, таким же, как для палача, позволяющего себе жалеть жертву. Человеку причиняют зло, если плохо отрезают ему ногу, точно так же — если плохо отрезают ему голову. Хороший хирург должен оперировать руками, а не сердцем, хотя он сердцем прекрасно понимает, что минутное страдание принесет целые годы жизни и здоровья. В этом — красота нашей профессии, учитель!
— Да. Однако я надеюсь, что у живых вы встречаете душу?
— Да, если вы согласитесь со мной, что душа — это движение или чувствительность. Да, разумеется, я встречаю душу, и она мне мешает, потому что убивает больше больных, чем мой скальпель.
Они подошли к Отель-Дьё и поднялись на порог больницы.
Марат пошел вперед, не расставаясь со своей жуткой ношей. Бальзамо пошел вслед за ним в операционный зал, где собрались главный хирург и его ученики.
Больничные служители только что внесли молодого человека, сбитого на прошлой неделе тяжелой каретой, раздробившей ему ногу колесом. Первая проведенная в спешке операция на сведенной от боли ноге оказалась недостаточной. Болезнь стремительно развивалась, стала необходима неотложная ампутация.
Несчастный извивался от боли и следил с застывшим в глазах ужасом, способным разжалобить тигров, за бандой хищников, выжидавших той минуты, когда начнутся его мучения, его агония, может быть, только ради того, чтобы изучать чудесное явление, называемое жизнью, за которым скрывается другое, еще менее познаваемое явление, что зовется смертью.
Казалось, он просил у каждого из хирургов, учеников, служителей утешения, улыбки, ласкового слова, однако встречал только безразличие и холодность.
Остатки мужества и гордости повелевали ему молчать. Он приберегал последние силы для крика, который очень скоро должна была вырвать из его груди боль.
Однако, когда он почувствовал на плече тяжелую руку снисходительного сторожа, когда он увидал, как руки служителей стискивают его подобно змеям Лаокоона, когда он услыхал голос хирурга, обратившегося к нему со словом: «Мужайтесь!», несчастный осмелился нарушить молчание и жалобно спросил:
— Мне будет очень больно?
— Да нет, успокойтесь! — ответил ему Марат с кривой усмешкой на устах, успокоившей больного, но показавшейся Бальзамо иронической.
Марат увидел, что Бальзамо его понял; он подошел к нему и тихо сказал:
— Это страшная операция. Кость вся в трещинах и ужасно чувствительна. Он умрет не от болезни, а от боли: вот чего ему будет стоить его душа, этому живому!
— Зачем же вы его оперируете? Отчего не дать ему спокойно умереть?
— Долг хирурга — сделать все возможное для спасения, даже когда выздоровление представляется ему невероятным.
— Так вы говорите, он будет страдать?
— Его ждут ужасные мучения.
— Из-за того, что есть душа?
— Да, и она очень жалеет его тело.
— Тогда почему вы не поможете душе? Спокойствие души было бы, несомненно, гарантией выздоровления тела.
— Это как раз то, что я сейчас сделал… — заявил Марат, в то время как больного продолжали связывать.
— Вы приготовили его душу?
— Да.
— Каким образом?
— Как это принято, словами. Я воззвал к душе, к разуму, к чувствительности, к тому, что заставляло греческого философа говорить: «Боль, ты не зло!» — теми словами, которые подходят к случаю. Я ему сказал: «Вам не будет больно». Теперь его душе остается лишь не страдать, это уж ее дело. Вот средство, и оно употребляется по сию пору. Что же касается души — все ложь! Какого черта эта душа будет делать в теле? Когда я не так давно отрезал вот эту голову, тело ничего мне не сказало. Однако операция была серьезная. Но что вы хотите? Движение прекратилось, чувствительность угасла, душа отлетела, как говорите вы, спиритуалисты. Вот почему голова, которую я отрезал, ничего не сказала. Вот почему тело, которого я лишал головы, мне не помешало. А вот тело, в котором еще живет душа, будет минуту спустя кричать истошным голосом. Хорошенько заткните уши, учитель! Ведь вы так чувствительны к этой связи душ и тел, а она сейчас разобьет вашу теорию! И это будет продолжаться вплоть до того дня, пока ваша теория не догадается отделить тело от души.
— Вы полагаете, что такое разделение никогда не станет возможным?
— Попытайтесь это сделать, — предложил Марат, — вот прекрасный случай.
— Вы правы, случай действительно удобный, я попробую.
— Попробуете?
— Да.
— Каким образом?
— Я не хочу, чтобы этот молодой человек страдал, мне жаль его.
— Вы прославленный вождь, — согласился Марат, — но вы все-таки не Бог-отец, не Бог-сын и не сможете избавить этого парня от страданий.
— А если он не будет мучиться, то можно будет надеяться на выздоровление, как вы думаете?
— Выздоровление стало бы более вероятным, но с полной уверенностью утверждать этого нельзя.
Бальзамо бросил на Марата торжествующий взгляд и, встав перед молодым человеком, он встретился глазами с его испуганным и встревоженным взглядом.
— Усните! — приказал он не столько губами, сколько взглядом, вложив в это слово всю силу своего взгляда и своей воли, жар своей крови и все флюиды своего тела.
В эту минуту главный хирург начал ощупывать больное бедро и показывать ученикам, как далеко зашла болезнь.
Молодой человек, приподнявшийся было на своем ложе и задрожавший в руках санитаров, подчинился приказанию Бальзамо: его голова повисла, глаза закрылись.
— Ему плохо, — сказал Марат.
— Нет.
— Разве вы не видите, что он потерял сознание?
— Нет, он спит.
— Как спит?
— Да, спит.
Все обернулись и посмотрели на странного доктора, которого они приняли за сумасшедшего.
Недоверчивая улыбка заиграла на губах Марата.
— Скажите, во время обморока люди имеют обыкновение разговаривать? — спросил Бальзамо.
— Нет.
— В таком случае спросите его о чем-нибудь, и он вам ответит.
— Молодой человек! — крикнул Марат.
— Незачем кричать так громко, — сказал Бальзамо, — говорите как обычно.
— Расскажите о том, что с вами.
— Мне приказали спать, и я сплю, — отвечал больной.
Его голос был совершенно спокоен и не похож на тот, который все слышали несколько минут назад.
Присутствующие переглянулись.
— А теперь развяжите его, — попросил Бальзамо.
— Это невозможно, — возразил главный хирург. — Одно-единственное движение, и операция будет сорвана.
— Он не будет двигаться.
— Кто мне это может обещать?
— Я и он сам. Спросите его сами!
— Можно вас развязать, друг мой?
— Можно.
— Вы обещаете не шевелиться?
— Обещаю, если вы мне это прикажете.
— Приказываю.
— Признаться, вы говорите так уверенно, что мне очень хочется попробовать.
— Попробуйте и ничего не бойтесь.
— Развяжите его, — приказал хирург.
Служители повиновались.
Бальзамо перешел к изголовью больного.
— Теперь не двигайтесь, пока я не прикажу.

Статуя на надгробии не могла бы лежать неподвижнее, нежели больной, застывший после этого приказания.
— Можете оперировать, — предложил Бальзамо, — больной готов.
Хирург взялся за скальпель, но в решительную минуту заколебался.
— Режьте, сударь, режьте, говорю вам! — произнес Бальзамо голосом вдохновенного пророка.
Поддавшись, как Марат, как больной, как все бывшие в операционной, его силе, хирург поднес сталь к плоти.
Плоть затрещала, однако у больного не вырвалось ни единого вздоха, он не шевельнулся.
— Откуда вы родом? — спросил Бальзамо.
— Я бретонец, — с улыбкой отвечал больной.
— Вы любите родину?
— Да, у нас так красиво!
Хирург в это время делал круговые надрезы, с помощью которых при ампутации обнажают кость.
— Давно вы покинули родину? — продолжал Бальзамо.
— Десяти лет.
Покончив с надрезами, хирург взялся за пилу.
— Друг мой, — сказал Бальзамо, — спойте мне песню, которую поют по вечерам солевары Батса, возвращаясь после работы. Я помню только первую строчку:
Пила врезалась в кость.
Однако больной с улыбкой выслушал просьбу Бальзамо и запел медленно, с воодушевлением, как влюбленный или поэт:
Нога упала на кровать, а больной еще продолжал петь.
CVI. ДУША И ТЕЛО.
Все с удивлением смотрели на больного и с восхищением — на целителя.
Многие подумали, что оба они просто сошли с ума.
Марат сказал об этом на ухо Бальзамо.
— Ужас заставил малого потерять голову, — прошептал Марат, — вот почему он не чувствует боли.
— Я так не думаю, — возразил Бальзамо, — и я далек от мысли, что он потерял сознание. В этом я просто уверен, и если я его спрошу, то он нам скажет, должен ли он умереть. Если же ему суждено жить, он ответит, сколько времени займет выздоровление.
Марат был близок к тому, чтобы разделить общее мнение, то есть поверить: Бальзамо безумен так же, как и больной.
В это время хирург торопливо ушивал артерии, из которых хлестала кровь.
Бальзамо вынул из кармана флакон, смочил корпию содержавшейся в нем жидкостью и попросил главного хирурга приложить корпию к ране.
Тот повиновался не без некоторого любопытства.
Это был один из самых прославленных докторов того времени, человек, по-настоящему влюбленный в науку, не обходивший стороной никаких ее тайн, лишь бы облегчить больному страдания.
Он приложил тампон к артерии: кровь вспенилась и начала вытекать из раны по капле.
С этой минуты хирургу стало значительно легче шить артерию.
На этот раз Бальзамо покорил всех, каждый расспрашивал его, где он изучал медицину и к какой школе принадлежит.
— Я немецкий врач гёттингенской школы, — отвечал он, — я сделал открытие, которому вы являетесь свидетелями. Впрочем, мне бы хотелось, дорогие собратья, чтобы это открытие оставалось в тайне, потому что я очень боюсь костра, а парижский парламент не откажется еще раз собраться ради удовольствия приговорить колдуна к сожжению.
Главный хирург задумался.
Марат тоже напряженно думал.
Он первый вышел из этого состояния.
— Вы недавно утверждали, что если вы станете расспрашивать этого человека о результатах операции, то он уверенно вам ответит, словно этот результат не является пока тайной.
— Я утверждаю это по-прежнему, — сказал Бальзамо.
— Ну что ж, посмотрим!
— Как зовут этого несчастного?
— Гавар, — ответил Марат.
Бальзамо повернулся к больному, на губах которого еще дрожали последние ноты жалобного припева.
— Ну, дружок, что вы можете сказать о состоянии бедняги Гавара? — спросил у него Бальзамо.
— Вы спрашиваете, что предвещает его состояние? — переспросил больной. — Подождите, я должен вернуться из Бретани, где только что был, к нему в Отель-Дьё.
— Да, да, войдите в больницу, взгляните на него и скажите мне про него всю правду.
— Он болен, очень болен: ему отрезали ногу.
— Неужели? — переспросил Бальзамо.
— Да.
— Операция прошла успешно?
— Превосходно! Однако…
Лицо больного омрачилось.
— Однако?.. — подхватил Бальзамо.
— Однако ему предстоит ужасное испытание, — продолжал больной, — у него будет лихорадка.
— Когда она наступит?
— Сегодня в семь вечера.
Присутствовавшие переглянулись.
— Ну и что же эта лихорадка?
— Больной почувствует себя еще хуже. Но он переживет первый приступ горячки.
— Вы в этом уверены?
— Да!
— Ну, а после этого приступа он будет вне опасности?
— Нет, — со вздохом отвечал тот.
— Горячка возобновится?
— Да, и еще более страшная. Бедный Гавар! — продолжал он. — Ведь у него жена и дети!
На глаза его навернулись слезы.
— Так его жене суждено стать вдовой, а дети останутся сиротами?
— Погодите, погодите!
Он благоговейно сложил руки.
— Нет, нет, — облегченно вздохнул он.
Лицо его все так и засветилось.
— Нет, его жена и дети горячо молились, и Господь сжалился над ним.
— Так он поправится?
— Да.
— Слышите, господа? — повторил Бальзамо. — Он поправится.
— Спросите у него, через сколько дней, — попросил Марат.
— Через сколько дней?
— Да, вы сказали, что он сам укажет фазы и окончание выздоровления.
— Я с удовольствием его об этом расспрошу.
— Ну так спрашивайте!
— Когда Гавар поправится, как вы думаете? — спросил Бальзамо.
— Выздоровеет он нескоро. Погодите… Месяц, полтора, два. Он поступил сюда пять дней назад, а выйдет через два с половиной месяца.
— Он будет здоров?
— Да.
— Но он не сможет работать, — вмешался Марат, — и, значит, некому будет кормить его жену и детей.
— Господь добр и позаботится о них.
— Как же Господь поможет? — спросил Марат. — Раз уж я сегодня узнал столько необыкновенного, мне бы хотелось услышать и об этом.
— Господь послал к нему одного доброго человека. Он пожалел Гавара и сказал про себя: «Я хочу, чтобы у бедного Гавара ни в чем не было недостатка».
Присутствовавшие при этой сцене переглянулись, Бальзамо улыбнулся.
— Да, мы и в самом деле являемся свидетелями странных явлений, — признал главный хирург, пощупав пульс больного, послушав сердце и потрогав лоб. — Этот человек бредит.
— Вы думаете? — спросил Бальзамо.
Властно взглянув на больного, Бальзамо приказал:
— Проснись, Гавар!
Молодой человек с трудом открыл глаза и с изумлением оглядел присутствовавших, которые уже не были ему страшны, хотя ранее он их так боялся.
— Так меня еще не оперировали? — с ужасом спросил он. — Мне сейчас будет больно?
Бальзамо поспешил заговорить. Он боялся, как бы больной не разволновался. Однако напрасно он торопился. Никто не собирался его перебивать: удивление присутствовавших было слишком велико.
— Друг мой! — сказал Бальзамо, — успокойтесь. Господин главный хирург по всем правилам прооперировал вашу ногу. Мне показалось, что вы слабонервный человек: вы потеряли сознание при первом же прикосновении скальпеля.
— Ну и хорошо, — весело отвечал бретонец, — я ничего не почувствовал. Я, наоборот, отдохнул и окреп во сне. Какое счастье, что мне не отрежут ногу!
В ту же минуту несчастный опустил глаза и увидел, что ложе залито кровью, а нога ампутирована.
Он закричал и на сей раз в самом деле потерял сознание.
— Попробуйте теперь расспросить его, — холодно предложил Бальзамо, обратившись к Марату, — и посмотрите, ответит ли он вам.
Затем он отвел главного хирурга в сторону, и, пока служители переносили несчастного молодого человека в кровать, Бальзамо спросил:
— Вы слышали, о чем рассказывал ваш бедный больной?
— Да, он сказал, что поправится.
— Он сказал еще и другое: Бог сжалится над ним и пошлет пропитание его жене и детям.
— Так что же?
— Он сказал правду. Вот только я хотел просить вас быть посредником между вашим больным и Богом. Вот вам бриллиант стоимостью около двадцати тысяч ливров. Когда вы убедитесь, что ваш больной здоров, продайте этот камень и передайте ему деньги. А пока, поскольку душа — как совершенно справедливо утверждал ваш ученик господин Марат — имеет большое влияние на тело, скажите Гавару, когда он придет в себя, что его будущее и будущее его детей обеспечено.
— А если он не поправится? — спросил хирург, не решаясь взять перстень, который ему предлагал Бальзамо.
— Он поправится!
— Я должен дать вам расписку.
— Сударь!
— Я только с этим условием возьму у вас эту драгоценность.
— Поступайте как вам будет угодно.
— Скажите, пожалуйста, как вас зовут.
— Граф де Феникс.
Хирург прошел в соседнюю комнату, а растерянный, подавленный Марат направился к Бальзамо.
Через пять минут хирург возвратился с листком бумаги в руках и вручил его Бальзамо.
Расписка была составлена в следующих выражениях:
«Я получил от господина графа де Феникса бриллиант, который, по его утверждению, стоит двадцать тысяч ливров, для передачи этой суммы человеку поимени Гавар в день его выхода из Отель-Дьё.
Доктор Медицины Гильотен. 15 Сентября 1771 Года».Бальзамо поклонился доктору, взял расписку и вышел вместе с Маратом.
— Вы забыли голову, — заметил Бальзамо, которого развеселила растерянность молодого врача.
— Вы правы, — сказал тот и подобрал свой страшный узелок.
Выйдя на улицу, оба зашагали молча и торопливо. Придя на улицу Кордельеров, они поднялись по крутой лестнице, ведущей в мансарду.
Марат остановился перед комнаткой консьержки, если, конечно, дыра, в которой она проживала, заслуживала того, чтобы называться комнатой. Марат не забыл о пропаже часов; он остановился и позвал г-жу Гриветту.
Мальчик лет восьми, худой, тщедушный, слабый, крикнул:
— А мама ушла! Она велела передать вам письмо, когда вы вернетесь.
— Нет, дружок, — отвечал Марат, — скажи ей, чтобы она сама мне его принесла.
— Хорошо, сударь.
Марат и Бальзамо пришли в комнату молодого человека.
— Я вижу, что учитель владеет большими тайнами, — проговорил Марат, указав Бальзамо на стул, а сам уселся на табурете.
— Я просто раньше других был допущен в святая святых природы и Бога.
— Наука лишний раз доказывает всемогущество человека! Как я горжусь тем, что я человек! — воскликнул Марат.
— Да, верно; вам следовало бы прибавить: «…и врач».
— И еще я горжусь вами, учитель, — продолжал Марат.
— А ведь я только жалкий врачеватель душ, — заметил Бальзамо.
— Не будем об этом говорить! Ведь вы остановили кровь вполне материальным способом.
— А я полагал, что истинная поэзия моего лечения заключается в том, что я не дал больному страдать. Правда, вы меня уверяли, что он сумасшедший.
— Несомненно, в какой-то момент у него наступило помрачение ума.
— А что вы называете помрачением ума? Ведь это не более чем отвлечение души, не так ли?
— Или рассудка, — сказал Марат.
— Не будем спорить. Слово «душа» очень хорошо выражает то, что я имею в виду. Когда предмет найден, то не важно, как вы его назовете.
— Вот здесь мы расходимся. Вы утверждаете, что обнаружили вещь и только подбираете ей название; я же придерживаюсь того мнения, что вы еще не нашли ни этой вещи, ни верного для нее наименования.
— Мы еще к этому вернемся. Итак, вы говорили, что безумие — это временное помрачение ума?
— Совершенно справедливо.
— Невольное помрачение?
— Да… Я видел одного сумасшедшего в Бисетре; он бросался на железные решетки с криком: «Повар! Фазаны прекрасные, только плохо приготовлены».
— Допускаете ли вы, что безумие проходит, как облако, застлавшее на время разум а потом рассеивается и снова наступает просветление?
— Этого почти никогда не случается.
— Но вы же сами видели нашего больного в здравом уме после его безумного бреда во сне.
— Да, я видел, но, стало быть, не понял того, что видел. Это какой-то небывалый случай, одна из тех странностей, которые древние евреи называли чудесами.
— Нет, — возразил Бальзамо. — Это чистейшей воды отделение души, полное разъединение материи и духа: материи — неподвижного, состоящего из мельчайших частиц вещества, и души — искры Божьей, заключенной на время в тусклый фонарь в виде человеческого тела; искра эта — дочь небес — после гибели тела возвращается на небо.
— Так вы ненадолго вынули у Гавара душу из тела?
— Да, сударь, я ей приказал покинуть недостойное место, где она находилась; я извлек ее из бездны страданий, в которой ее удерживала боль. Я отправил ее странствовать в свободных и чистых сферах. Что оставалось хирургу? Не что иное, как инертная масса, вещество, глина. То есть то, что сделали вы со своим скальпелем, отрезая у мертвой женщины вот эту голову, которая у вас в руках.
— От чьего имени вы распоряжались этой душой?
— От имени того, кто одним своим дыханием сотворил все души: души миров, души людей, — от имени Бога.
— Вы, стало быть, отрицаете свободу воли? — спросил Марат.
— Я? — переспросил Бальзамо. — Что же я в таком случае делаю вот сейчас, сию минуту? С одной стороны, я вам демонстрирую свободу воли, с другой — отвлечение, отделение души. Представьте себе умирающего в муках. Пусть у него выносливая душа, он соглашается на операцию, просит о ней, но очень страдает. Вот вам свобода воли. Теперь представим, что прохожу мимо этого умирающего я, посланец Божий, пророк, апостол, и, сжалившись над этим человеком, мне подобным существом, вынимаю данной мне Господом силой душу из его страдающего тела. И душа с высоты взирает на беспомощное, неподвижное, бесчувственное тело. Разве вы не слышали, как Гавар, рассказывая о себе, восклицал: «Бедный Гавар!» Он не говорил «я». Душа больше не принадлежала его телу и была на полпути к небесным высотам.
— Если вам верить, человек — ничто, — возмутился Марат, — и я уже не могу сказать тиранам: «Вы имеете власть над моим телом, но бессильны что-либо сделать с моей душой»?
— A-а, вот вы и перешли от истины к софизму! Я вам говорил, что в этом ваш недостаток. Бог вдыхает в человека душу на время, это так. Но верно и то, что, пока душа владеет его телом, они тесно связаны, оказывают друг на друга влияние и даже материя порой имеет превосходство над духом. Верно также и то, что Бог повелел, неведомо почему, чтобы тело было королем, а душа — королевой. Но не менее верно и то, что дыхание, оживляющее нищего, так же чисто, как и дыхание, убивающее короля. Вот догмат, который следует исповедовать вам, апостолу равенства. Докажите равенство двух душ, потому что ведь вы можете найти доказательства этому равенству во всем, что только есть святого на земле: в писаниях святых отцов и в традициях, в науке и в вере. Если для вас главное равенство двух материальных субстанций — равенство тел, вам не воспарить к Богу. Совсем недавно этот бедный раненый, этот необразованный человек, дитя народа рассказал вам о своей болезни такие вещи, о которых никто из врачей даже не посмел заикнуться. А почему? Потому что его душа, вырвавшись на время из пут державшего ее тела, воспарила над землей и увидала сверху скрытую от нас тайну.
Марат вертел на столе мертвую голову, не находя, что ответить.
— Да, — прошептал он наконец, — да, во всем этом есть нечто сверхъестественное.
— Напротив, все это очень естественно. Перестаньте называть сверхъестественным то, что имеет отношение к функциям души. Все эти функции естественны. Вот известны они нам или нет — это другой вопрос.
— Неизвестны нам, учитель. Однако для вас относительно функций души, должно быть, нет тайн. Лошадь, никогда не виданная перуанцами, была хорошо известна укротившим ее испанцам.
— С моей стороны было бы слишком самонадеянным заявить: «Я знаю». Я буду скромнее и скажу: «Я верю».
— Во что же вы верите?
— Я верю в то, что первый и самый важный земной закон — это развитие. Я верю, что Бог ничего не создавал, не имея цели благоденствия и нравственности. Но так как жизнь в этом мире протекает непредсказуемо и многообразно, то и прогресс совершается медленно. Наша земля, если верить Писанию, насчитывала шестьдесят веков, когда наконец появился печатный станок, чтобы, подобно огромному маяку, отразить прошлое и осветить будущее. С появлением печатного станка исчезли безвестность и забвение; печатный станок — это память человечества. Ну что же, Гутенберг изобрел печатный станок, а я нашел веру.
— Вы, может быть, скоро научитесь читать в сердце? — насмешливо спросил Марат.
— А почему бы нет?
— Так вы, пожалуй, станете прорубать в человеческой груди окошко, в которое мечтали заглянуть древние!
— В этом нет нужды: я отделю душу от тела; душа — чистое, незапятнаное творение Божье — расскажет мне обо всех гнусностях своей земной оболочки, которую сама душа обречена оживлять.
— Таким образом, вы собираетесь узнавать тайны материи?
— А почему бы и нет?
— И вы можете мне сказать, кто украл у меня часы?
— Вы принижаете роль науки до уровня быта. Впрочем, это не имеет значения. Величие Господне находит выражение и в песчинке и в горе́, и в жучке и в слоне… Да, я вам скажу, кто украл ваши часы.
В это время кто-то робко постучал в дверь. Это была консьержка Марата. Она вернулась домой и, повинуясь переданному ей приказанию хирурга, принесла письмо.
CVII. КОНСЬЕРЖКА МАРАТА.
Дверь распахнулась, пропуская г-жу Гриветту.
Мы не успели даже бегло описать эту женщину, потому что ее лицо было из тех, которые художник отодвигает на задний план, не имея пока в них надобности. А теперь эта дама выходит в нашей живой картине на передний план, желая занять свое место в обширной панораме, которую мы взялись развернуть перед глазами наших читателей. Если бы наш дар соответствовал нашему желанию, мы включили бы в нашу панораму всех: от нищего до короля, от Калибана до Ариэля, от Ариэля до Господа Бога.
Итак, мы попытаемся набросать портрет г-жи Гриветты: она словно выступает из тени и приближается к нам.
Это была высокая худая женщина лет тридцати трех; лицо ее пожелтело, вокруг поблекших глаз залегли черные круги. Она была крайне истощена, что случается с горожанками, живущими в нищете и духоте и обреченными на физическое и нравственное вырождение. Бог сотворил ее прекрасной, и она воистину чудесно расцвела бы на свежем воздухе, под ясным небом, на ласковой земле. Но люди сами превращают свою жизнь в бесконечную пытку: утомляют ноги, преодолевая бесконечные препятствия, мучают желудок голодом или пищей, почти столь же губительной, как отсутствие всякой еды.
Консьержка Марата была бы красивой женщиной, если бы она с пятнадцати лет не жила в тесной и темной конуре, куда не проникал ни свет, ни воздух, если бы огонь ее природных инстинктов, подогреваемый обжигающим жаром печки или охлаждаемый зимней стужей, горел бы всегда ровно. У нее были длинные худые руки в мелких уколах от постоянного шитья; их разъедала мыльная вода прачечной; огонь в кухне опалил и огрубил ее пальцы. И только форма ее рук была такова, что их можно было бы назвать королевскими, если бы вместо веника они держали скипетр.
Это лишний раз доказывает, что жалкое человеческое тело словно несет на себе отпечаток наших занятий.
В этой женщине разум превосходил материю и, следовательно, был более способен к сопротивлению, неусыпно следя за происходившими вокруг событиями. Если можно уподобить его лампе, он освещал материю, и можно было иногда заметить, как в бессмысленных и бесцветных глазах вдруг появлялся проблеск ума, она снова становилась красивой и молодой, глаза светились любовью.
Бальзамо долго разглядывал эту женщину, вернее, это странное создание: она с первого взгляда поразила его воображение и вызвала любопытство.
Консьержка вошла с письмом в руке и притворно-ласковым голосом, каким говорят старухи — а женщины в нищете становятся старухами в тридцать лет, — сказала:
— Господин Марат, вот письмо, о котором вы говорили.
— Мне было нужно не письмо, я хотел видеть вас, — возразил Марат.
— Отлично, я здесь к вашим услугам, господин Марат, — присела в реверансе г-жа Гриветта. — Что вам угодно?
— Мне угодно знать, как поживают мои часы, — сказал Марат, — вам это должно быть известно.
— Да нет, что вы, я ничего не знаю. Вчера я их видела, они висели на гвозде.
— Ошибаетесь: вчера они были в моем жилетном кармане, а в шесть вечера, перед тем как выйти — а я собирался в людное место и боялся, как бы у меня их не украли, — я положил их под канделябр.
— Если вы их положили под канделябр, они там, верно, и лежат.
И консьержка с притворным добродушием, не подозревая, что ее ложь бросается в глаза, подошла к камину и выбрала из двух украшавших его канделябров именно тот, под которым Марат спрятал накануне свои часы.
— Да, это тот самый канделябр, — подтвердил молодой человек, — а где часы?
— Их и впрямь нету. Может, вы их еще куда-нибудь положили, господин Марат?
— Да я же вам говорю, что…
— Поищите получше!
— Я уже искал, — сказал в раздражении Марат.
— Ну так вы их потеряли.
— Я вам уже сказал, что вчера я сам положил их под этот канделябр.
— Стало быть, кто-то сюда входил, — предположила г-жа Гриветта, — у вас бывает столько малознакомых людей!
— Отговорки! Все это отговорки! — вскричал Марат, все более раздражаясь. — Вам отлично известно, что со вчерашнего дня сюда никто не входил. Нет, нет, мои часы утащили точно так же, как серебряный набалдашник с трости, известную вам серебряную ложечку и перочинный ножичек с шестью лезвиями! Меня постоянно обкрадывают, госпожа Гриветта! Я долго терпел, но больше не намерен сносить эти безобразия, предупреждаю вас!
— Но, сударь, — возразила г-жа Гриветта, — уж не меня ли вам, случаем, вздумалось обвинить?
— Вы обязаны беречь мои вещи.
— Ключ не только у меня.
— Вы консьержка.
— Вы платите мне один экю в месяц, а хотите, чтобы я служила вам за десятерых.
— Мне безразлично, как вы мне служите, я хочу, чтобы у меня не пропадали вещи.
— Сударь! Я честная женщина!
— Я сдам эту честную женщину комиссару полиции, если через час мои часы не найдутся.
— Комиссару полиции?
— Да.
— Комиссару полиции сдать такую честную женщину, как я?
— Да, да! Честную женщину…
— Против которой вам нечего сказать, слышите?
— Ну, довольно, госпожа Гриветта!
— Когда вы уходили, я предполагала, что вы можете меня заподозрить.
— Я вас подозреваю с тех пор, как исчез набалдашник с моей трости.
— Я вам вот что скажу, господин Марат…
— Что?
— Пока вас не было, я обратилась…
— К кому?
— К соседям.
— По какому поводу?
— А по тому поводу, что вы меня подозреваете.
— Да я же вам еще ничего не успел сказать.
— Я предчувствовала.
— Ну и что же соседи? Любопытно будет послушать, что вам сказали соседи.
— Они сказали, что если вам взбредет в голову меня заподозрить да еще поделиться с кем-нибудь своими подозрениями, то придется идти до конца.
— То есть?..
— То есть доказать, что часы были похищены.
— Они похищены, раз лежали вон там, а теперь их нет.
— Да, но надо доказать, что их взяла именно я. Вы должны представить доказательства, вам никто не поверит на слово, господин Марат, вы ничем не лучше нас, господин Марат.
Бальзамо с присущей ему невозмутимостью наблюдал за этой сценой. Он заметил, что, хотя Марат оставался при своем мнении, он сбавил тон.
— И если вы не признаете меня невиновной, если не возместите убытков за оскорбление, — продолжала консьержка, — то я сама приду к комиссару полиции, как мне посоветовал наш хозяин.
Марат закусил губу. Он знал, что это серьезная угроза. Владельцем дома был старый торговец, который, разбогатев, удалился от дел. Он занимал квартиру в четвертом этаже; скандальная хроника квартала утверждала, что лет десять тому назад он весьма покровительствовал консьержке, которая была тогда кухаркой у его жены.
И вот Марат, посещавший заседания тайного общества; Марат, молодой человек, занимавший скромное положение; скрытный Марат, вызывавший некоторое подозрение у полиции, вдруг потерял интерес к этому делу, которое могло дойти до самого г-на де Сартина, а тот очень любил почитать бумаги молодых людей, подобных Марату, и отправлять творцов этой изящной словесности в какое-нибудь тихое место вроде Венсена, Бастилии, Шарантона или Бисетра.
Итак, Марат снизил тон. Однако, пока он успокаивался, консьержка все больше распалялась. Из обвиняемой она превратилась в обвинителя. Дело кончилось тем, что нервная, истеричная женщина разгорелась, как костер на ветру.
Угрозы, оскорбления, крики, слезы — все пошло в ход: началась настоящая буря.
Бальзамо решил, что пришло время вмешаться. Он шагнул к женщине, угрожающе размахивавшей руками посреди комнаты. Бросив на нее испепеляющий взгляд, он приставил ей к груди два пальца и произнес не столько губами, сколько мысленно, собрав во взгляде всю свою волю, одно только слово, которое Марату не удалось разобрать.
Госпожа Гриветта сейчас же умолкла, покачнулась и, теряя равновесие, попятилась с расширенными от ужаса глазами, словно раздавленная силой обрушенных на нее магнетических флюидов. Не проронив ни слова, она рухнула на кровать.
Глаза ее закрылись, потом открылись, однако на сей раз зрачков не было видно. Язык дергался, тело не двигалось, только руки дрожали, словно в лихорадке.
— Ого! — вскричал Марат. — Как у раненого в госпитале!
— Да.
— Так она спит?
— Тише! — приказал ей Бальзамо и затем добавил, обращаясь к Марату: — Сударь! Наступает конец вашему неверию, вашим сомнениям. Поднимите письмо, которое принесла вам эта женщина; она уронила его, когда падала.
Марат повиновался.
— Что мне с ним делать? — спросил он.
— Погодите.
Бальзамо взял письмо из рук Марата.
— Вы знаете, от кого это письмо? — спросил он, показывая бумагу сомнамбуле.
— Нет, сударь, — отвечала она.
Бальзамо поднес к ней запечатанное письмо.
— Прочтите его господину Марату. Он желает знать, что в нем.
— Она не умеет читать, — вмешался Марат.
— Но вы-то умеете?
— Конечно.
— Так читайте его про себя, а она тоже будет читать по мере того, как слова будут отпечатываться в вашем мозгу.
Марат распечатал письмо и начал его читать, а Гриветта, подчиняясь всемогущей воле Бальзамо, поднялась с кровати и с дрожью в голосе стала повторять содержание письма вслух, в то время как Марат пробегал его глазами. Вот что в нем было сказано:
«Дорогой Гиппократ!
Апеллес только что закончил свой первый портрет. Он продал его за пятьдесят франков. Мы собираемся проесть их сегодня в кабачке на улице Сен-Жак. Ты к нам придешь?
Разумеется, часть этих денег мы пропьем.
Твой Друг Л. Давид».Она слово в слово повторила то, что там было написано.
Марат уронил листок.
— Как видите, у госпожи Гриветты тоже есть душа, и эта душа бодрствует, пока Гриветта спит.
— Странная у нее душа, — заметил Марат, — душа, которая умеет читать, в то время как тело не умеет.
— Это оттого, что душа умеет все, она отражает любую мысль. Попробуйте заставить госпожу Гриветту прочитать это письмо, когда она проснется, то есть когда тело заключит душу в свою темную оболочку, — и вы увидите, что будет.
Марат ничего не мог возразить. Вся его материалистическая философия в нем восстала, однако он не находил ответа.
— А теперь, — продолжал Бальзамо, — перейдем к тому, что больше всего вас интересует, то есть займемся поисками часов.
— Госпожа Гриветта! Кто взял у господина Марата часы? — спросил Бальзамо.
Сомнабула замахала руками:
— Не знаю!
— Нет, знаете, — продолжал настаивать Бальзамо, — и сейчас скажете.
Потом он спросил еще более властным тоном:
— Кто взял часы господина Марата? Отвечайте!
— Госпожа Гриветта не брала у господина Марата часы. Почему господин Марат думает, что их украла госпожа Гриветта?
— Если не она их украла, скажите, кто это сделал.
— Я не знаю.
— Как видно, сознание — неприступная крепость, — заметил Марат.
— Это, по-видимому, последнее, в чем вы сомневаетесь, — возразил Бальзамо, — значит, скоро мне удастся окончательно вас переубедить.
Он сказал консьержке:
— Говорите, кто это сделал, я приказываю!
— Ну-ну, не надо требовать невозможного, — усмехнулся Марат.
— Вы слышите? Я так хочу! — продолжал Бальзамо, обращаясь к Гриветте.
Не имея сил сопротивляться его мощной воле, несчастная женщина стала, словно безумная, кусать себе руки, потом забилась, будто в припадке эпилепсии; ее рот искривился, в глазах застыл ужас и вместе с тем слабость; она откинулась назад; все ее тело напряглось, как от страшной боли, и она рухнула на постель.
— Нет, нет! — крикнула она. — Лучше умереть!
— Ну что же, ты умрешь, если это будет нужно, но прежде ты все скажешь! — разгневался Бальзамо: глаза его метали молнии. — Твоего молчания и твоего упрямства и так довольно, чтобы понять, кто виноват. Однако для недоверчивого человека нужно более неопровержимое доказательство. Говори, я так хочу! Кто взял часы?
Нервное напряжение сомнамбулы достигло своего предела. Она из последних сил противостояла воле Бальзамо. Из ее груди рвались нечленораздельные крики, на губах выступила кровавая пена.
— У нее будет эпилептический припадок, — предупредил Марат.
— Не бойтесь, — это в ней говорит демон лжи, он никак не хочет выходить.
Повернувшись к женщине, он выбросил руку вперед, послав ей мощный заряд флюидов.
— Говорите! — приказал он. — Говорите! Кто взял часы?
— Госпожа Гриветта, — едва слышно пролепетала сомнабула.
— Когда она их взяла?
— Вчера вечером.
— Где они были?
— Под канделябром.
— Что она с ними сделала?
— Отнесла на улицу Сен-Жак.
— Куда именно?
— В дом номер двадцать девять.
— Этаж?
— Шестой.
— Кому?
— Ученику сапожника.
— Как его зовут?
— Симон.
— Кто он?
Сомнабула умолкла.
— Кто этот человек? — повторил Бальзамо.
Опять молчание.
Бальзамо протянул в ее сторону руку, посылая флюиды. Раздавленная страшной силой, она только смогла прошептать:
— Ее любовник.
Марат удивленно вскрикнул.
— Тише! — приказал Бальзамо. — Не мешайте совести говорить.
Затем он продолжал, обращаясь к взмокшей от пота женщине:
— Кто посоветовал госпоже Гриветте украсть часы?
— Никто. Она случайно приподняла канделябр, увидала часы, и ее соблазнил демон.
— Ей нужны были деньги?
— Нет, она не продала часы.
— Она их отдала даром?
— Да.
— Симону?
Сомнамбула сделала над собой усилие.
— Симону.
Затем она закрыла лицо руками и разрыдалась.
Бальзамо взглянул на Марата. Разинув рот и широко раскрыв от изумления глаза, с всклокоченными волосами, тот наблюдал за жутким зрелищем.
— Итак, сударь, — заключил Бальзамо, — вы видите борьбу души и тела. Вы обратили внимание на то, что совесть была словно взята силой в крепости, которую она сама считала неприступной? Ну и, наконец, вы должны были понять, что Творец ни о чем не забыл: в этом мире все взаимосвязано. Так не отвергайте сознание, молодой человек, не отрицайте наличие души, не закрывайте глаза на неизвестное, молодой человек. И в особенности не отвергайте веру — высшую власть. Раз вы честолюбивы — учитесь, господин Марат; поменьше говорите, побольше думайте и не позволяйте себе больше легкомысленно осуждать тех, кто стоит над вами. Прощайте! Мои слова открывают перед вами широкое поле деятельности. Хорошенько возделывайте это поле, оно заключает в себе истинные сокровища. Прощайте, я счастлив, по-настоящему счастлив тем, что вы можете победить в себе демона недоверия, как я одолел демонов обмана и лжи в этой женщине.
С этими словами он вышел, заставив молодого человека покраснеть от стыда.
Марат не успел даже попрощаться. Однако, придя в себя, он обратил внимание на то, что г-жа Гриветта все еще спит.
Ее сон взволновал его. Он предпочел, чтобы на его кровати лежал труп, пусть даже г-н де Сартин по-своему истолковал бы ее смерть.
Видя, что Гриветта лежит совершенно безучастно, закатив глаза и время от времени вздрагивая, Марат испугался.
Еще более он испугался, когда этот живой труп поднялся, взял его за руку и сказал:
— Пойдемте со мной, господин Марат.
— Куда?
— На улицу Сен-Жак.
— Зачем?
— Пойдемте, пойдемте! Он мне приказывает отвести вас туда.
Марат поднялся со стула.
Госпожа Гриветта, по-прежнему во власти магнетического сна, отворила дверь и, словно кошка, едва касаясь ступеней, спустилась по лестнице.
Марат последовал за ней, боясь, как бы она не свалилась и не убилась.
Сойдя вниз, она переступила порог, перешла через дорогу и привела молодого человека в тот самый дом, где находился упомянутый чердак.
Она постучала в дверь. Марату казалось, что все должны слышать, как сильно бьется его сердце.
Дверь распахнулась. Марат узнал того самого мастерового лет тридцати, которого он иногда встречал у своей консьержки.
Увидав г-жу Гриветту в сопровождении Марата, он отступил.
Сомнабула пошла прямо к кровати и, засунув руку под тощую подушку, вынула оттуда часы и протянула Марату. Бледный от ужаса, башмачник Симон не мог вымолвить ни слова; он испуганно следил глазами за каждым движением женщины, полагая, что она сошла с ума.
Вынув часы Марата, она с глубоким вздохом прошептала:
— Он приказывает мне проснуться!
В ту же секунду нервы ее расслабились, как слабеет канат, соскочивший с блока, в глазах засветилась жизнь. Едва придя в себя и увидав, что она стоит перед Маратом и сжимает в руке часы, неопровержимое доказательство ее преступления, она упала без чувств на пол.
«Неужели совесть в самом деле существует?» — выходя из комнаты с сомнением в душе, подумал Марат.
CVIII. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ТВОРЕНИЯ.
Пока Марат с пользой для себя проводил время и философствовал о совести и двойной жизни, другой философ на улице Платриер был занят тем, что пытался до мельчайших подробностей восстановить в памяти вечер, проведенный накануне в ложе, и спрашивал себя, не стал ли этот вечер причиной больших бед. Опустив безвольные руки на стол и склонив отяжелевшую голову к левому плечу, Руссо размышлял.
Перед ним лежали раскрытыми его политические и философские труды: «Эмиль» и «Общественный договор».
Время от времени, когда того требовала его мысль, он склонялся и листал книги, которые он и так знал наизусть.
— О Господи! — воскликнул он, читая главу из «Эмиля» о свободе совести. — Вот подстрекательские слова! Какая философия, Боже правый! Являлся ли когда-нибудь миру поджигатель вроде меня? — Да что там! — продолжал он, воздев руки. — Именно я высказался против трона, алтаря и общества…
Я не удивлюсь, если какая-нибудь темная сила уже воспользовалась моими софизмами и заблудилась в полях, которые я засеивал семенами риторики. Я стал нарушителем общественного спокойствия…
Он поднялся в сильном волнении и трижды обошел комнатку.
— Я осудил людей, стоящих у власти, которые тиранически преследуют писателей. Каким же я был глупцом, варваром! Эти люди тысячу раз были правы! Что я такое? Опасный для государства человек. Я полагал, что мои слова служат просвещению народов, а на самом деле они явились искрой, способной поджечь вселенную.
Я посеял идеи о неравенстве условий, проекты всемирного братства, планы воспитания и вот теперь пожинаю жестоких гордецов, готовых перевернуть общество вверх дном, развязать гражданскую войну с целью уничтожения населения. У них столь дикие нравы, что они отбросят цивилизацию на десять веков назад… Ах, как я виноват!
Он еще раз перечитал страницу из своего «Савойского викария».
— Да, вот оно: «Объединимся для того, чтобы заняться поисками счастья»… И это написал я! «Придадим нашей добродетели силу, какую другие люди придают порокам». Это написал тоже я.
Руссо более чем когда-либо впал в отчаяние.
— Значит, это из-за меня брат восстает на брата, — продолжал он. — Придет день, и полиция накроет один из их погребков. Будет арестован весь их выводок, а ведь эти люди поклялись сожрать друг друга живьем в случае предательства. И вот среди них отыщется какой-нибудь наглец, который вытащит из кармана мою книжку и скажет: «Чем вы недовольны? Мы адепты Руссо, мы занимаемся философией!» Ах, как это позабавит Вольтера! Уж он-то не шляется по таким осиным гнездам! Он настоящий придворный!
Мысль, что Вольтер над ним посмеется, разозлила женевского философа.
— Я — заговорщик!.. — прошептал он. — Нет, я просто впал в детство. Нечего сказать, хорош заговорщик!
Вошла Тереза, но он ее даже не заметил. Она принесла обед.
Она обратила внимание, что он читал отрывок из «Прогулок одинокого мечтателя».
— Прекрасно! — воскликнула она, с грохотом опуская поднос с горячим молоком прямо на книгу. — Мой гордец любуется на себя в зеркало! Господин читает собственные книги! Он восхищается собой! Вот так господин Руссо!
— Ну-ну, Тереза, не шуми, — попросил философ, — оставь меня в покое, мне не до шуток.
— Да, это великолепно! — усмехнулась она. — Вы в восторге от самого себя! До чего же все-таки писатели тщеславны, как много у них недостатков! Зато нам, бедным женщинам, они их не прощают. Стоит мне только взяться за зеркальце, господин начинает меня бранить и обзывает кокеткой.
Она продолжала в том же духе, отчего Руссо чувствовал себя несчастнейшим из смертных, словно позабыв о том, как щедро наделила его природа.
Он выпил молоко, ни разу не обмакнув в него хлеб.
Философ размышлял.
— Вы что-то обдумываете, — продолжала она. — Не иначе как собираетесь написать еще какую-нибудь отвратительную книжку…
Руссо содрогнулся.
— Вы мечтаете, — сказала Тереза, — о своих идеальных дамах и пишете такие книги, которые девицы не осмелятся читать, а то и просто такие пакостные, что будут сожжены рукой палача.
Мученик затрясся всем телом: Тереза попала в самую точку.
— Нет, — возразил он, — я не стану писать ничего такого, что вызвало бы кривотолки… Напротив, я хочу написать такую книгу, которую все честные люди прочли бы с восторгом…
— Ах-ах! — воскликнула Тереза, забирая чашку. — Это невозможно! У вас на уме одни непристойности… Третьего дня я слыхала, как вы читали отрывок не знаю откуда, где вы говорили о женщинах, боготворивших вас. Вы сатир! Колдун!
В устах Терезы слово «колдун» было одним из самых страшных ругательств. Оно неизменно вызывало у Руссо дрожь.
— Ну-ну, дорогая! Вы будете довольны, вот увидите… Я собираюсь написать о том, что нашел способ обновления мира, не заставляющий страдать ни одного человека. Да, да, я обдумываю этот проект. Довольно революций! Боже милостивый! Дорогая Тереза! Не надо революций!
— Посмотрим, что у вас получится, — заметила хозяйка. — Слышите? Звонят…
Минуту спустя Тереза возвратилась в сопровождении красивого молодого человека и попросила его подождать в первой комнате.
Зайдя к Руссо, уже делавшему записи карандашом, она сказала:
— Спрячьте поскорее все эти гнусности. К вам пришли.
— Кто?
— Какой-то придворный.
— Он не представился?
— Еще чего! Разве я впустила бы его, не узнав имени?
— Ну так говорите!
— Господин де Куаньи.
— Господин де Куаньи! — вскричал Руссо. — Господин де Куаньи, придворный его высочества дофина?
— Должно быть, он самый. Красивый юноша, и такой любезный…
— Я сейчас приду, Тереза.
Руссо торопливо оглядел себя в зеркале, смахнул пыль с сюртука, вытер домашние туфли, то есть старые ботинки, до крайности изношенные, и вошел в столовую, где его ожидал посетитель.
Тот не садился. Он с любопытством рассматривал засушенные травы, собранные Руссо, наклеенные им на бумагу и вставленные в черные деревянные рамки.
Услыхав, как открывается стеклянная дверь, он обернулся и почтительно поклонился.
— Я имею честь говорить с господином Руссо? — спросил он.
— Да, сударь, — отвечал философ недовольным тоном, в котором, однако, можно было угадать его восхищение необыкновенной красотой и небрежной элегантностью собеседника.
Господин де Куаньи и в самом деле был одним из самых любезных и красивых кавалеров Франции. Ему, как никому другому, подходил костюм той эпохи, подчеркивавший изящество его ног, широких плеч, выпуклой груди, величавую осанку, изумительную посадку головы и подобную слоновой кости белизну точеных рук.
Руссо остался доволен осмотром: он был истинным художником и восхищался красотой всюду, где только ее встречал.
— Вам, должно быть, доложили, что я граф де Куаньи. Позволю себе прибавить, что я приехал к вам по поручению ее высочества дофины.
Руссо поклонился; краска залила его лицо. Засунув руки в карманы, Тереза наблюдала из угла столовой за прекрасным посланником величайшей принцессы Франции.
— Ее королевское высочество хочет меня видеть… Зачем? — спросил Руссо. — Садитесь же, граф, прошу вас!
Руссо сел. Господин де Куаньи взял плетеный стул и последовал его примеру.
— Дело, сударь, вот в чем: третьего дня его величество прибыл в Трианон и выразил удовольствие по поводу вашей музыки, а она действительно прелестна. Король напевал лучшие ваши арии. Дофина, желая во всем угождать его величеству, подумала, что доставит королю удовольствие, поставив на театре, в Трианоне, одну из ваших комических опер…
Руссо низко поклонился.
— Итак, я приехал с тем, чтобы просить вас от лица ее высочества…
— Сударь! — перебил его Руссо. — Моего позволения для этого не требуется. Моя музыка и ариетки, входящие в эту оперу, принадлежат представившему ее театру. Следовательно, нужно обратиться к актерам, а уж у них ее королевское высочество не встретит возражений, как и у меня. Актеры будут счастливы играть и петь перед его величеством и всем двором.
— Я не совсем за этим к вам прибыл, сударь, — возразил г-н де Куаньи. — Ее королевское высочество желает приготовить для короля более полный и наименее известный дивертисмент. Она знакома со всеми вашими операми, сударь…
Руссо опять поклонился.
— Она прекрасно поет все арии.
Руссо закусил губу.
— Это для меня большая честь, — пролепетал он.
— И так как многие придворные дамы прекрасно музицируют и восхитительно поют, а многие кавалеры также занимаются музыкой, и весьма успешно, то выбранная дофиной одна из ваших опер будет исполнена придворными, а первыми среди них будут их королевские высочества.
Руссо так и подскочил на стуле.
— Уверяю вас, граф, — сказал он, — что это для меня неслыханная честь, и я прошу вас передать дофине мою самую сердечную благодарность.
— Это еще не все, — улыбнулся г-н де Куаньи.
— Неужели?
— Составленная таким образом труппа будет более именитой, чем профессиональная, это верно, но она менее опытна. Ей просто необходимы ваше мнение и ваш совет знатока; надо, чтобы исполнение было достойно августейшего зрителя, который займет королевскую ложу, а также чтобы игра была достойна знаменитого автора.
Руссо встал: на этот раз комплимент его действительно тронул; он ответил г-ну де Куаньи изящным поклоном.
— Вот почему, сударь, — прибавил придворный, — ее королевское высочество и просит вас прибыть в Трианон для проведения генеральной репетиции.
— Ее королевское высочество напрасно… Меня в Трианон?.. — пробормотал Руссо.
— Почему же нет?.. — как нельзя более естественно спросил г-н де Куаньи.
— Ах, сударь, у вас прекрасный вкус, вы умны и тактичны, ну так ответьте положа руку на сердце: философ Руссо, изгнанник Руссо, мизантроп Руссо при дворе нужен только для того, чтобы уморить со смеху всю свору, не так ли?
— Я не понимаю, сударь, — холодно отвечал г-н де Куаньи, — почему вы обращаете внимание на насмешки или глупые выходки ваших мучителей, будучи обходительным человеком, которого можно считать первым во всей стране писателем. Если вы подвержены этой слабости, господин Руссо, постарайтесь поглубже ее упрятать, — ведь если что и может вызвать смех, так именно эта слабость. А что до шуточек, признайтесь, что надобно быть весьма и весьма осмотрительным, когда дело идет об удовольствии и желаниях такого лица, как ее высочество дофина, наследница французского престола.
— Разумеется, — согласился Руссо, — вы правы.
— Неужели вас мучит ложный стыд?.. — не поверил г-н де Куаньи. — Только потому, что вы были строги к королям, а теперь побоитесь проявить по отношению к ним человечность? Ах, господин Руссо, вы преподали урок всему роду человеческому, но ведь вы его не ненавидите, я полагаю?.. Во всяком случае, вы исключите из него дам императорской крови.
— Вы очень искусно меня уговариваете, однако подумайте, в каком я положении… Я живу вдали от всех… один… я так несчастен…
Тереза поморщилась.
«Скажите, какой несчастный… — проворчала она про себя. — До чего же у него тяжелый характер!».
— Что бы я ни делал, на моем лице и в моих манерах всегда будет присутствовать неизгладимая, неприятная черта, она будет бросаться в глаза королю и принцессам, ожидающим видеть лишь радость и веселье. Да и что я скажу?.. Что мне там делать?..
— Можно подумать, что вы сомневаетесь в самом себе. Но неужели автору «Новой Элоизы» и «Исповеди» не найдется что сказать и он не сумеет себя держать?
— Уверяю вас, сударь, что я не могу…
— Это слово непонятно государям.
— Вот почему я и останусь дома.
— Сударь! Не заставляйте меня, взявшего на себя смелость доставить удовольствие ее высочеству дофине, возвращаться в Версаль пристыженным и побежденным. Это было бы для меня смертельной обидой и привело бы в такое отчаяние, что я немедленно отправился бы в добровольное изгнание. Дорогой господин Руссо! Ну прошу вас, ради меня, глубоко почитающего все ваши произведения, сделать то, что ваше гордое сердце отказывается исполнить для умоляющих его королей.
— Сударь! Ваша изысканная любезность меня покорила, у вас неотразимое красноречие и такой волнующий голос, что мне трудно устоять…
— Я вас убедил?
— Нет, я не могу… нет, решительно нет: мое состояние здоровья не позволяет мне путешествовать.
— Путешествовать? Да что вы, господин Руссо, о чем вы говорите? Всего час с четвертью в карете!
— Это для вас и ваших ретивых коней.
— Да ведь все королевские лошади к вашим услугам, господин Руссо! Дофина поручила мне передать вам, что в Трианоне для вас приготовлены комнаты, потому что вас не желают отпускать в Париж в поздний час. А его высочество дофин, который, кстати, знает наизусть все ваши книги, сказал в присутствии всего двора, что будет счастлив показывать гостям во дворце комнату, где жил господин Руссо.
Тереза радостно вскрикнула, восхищаясь не славой Руссо, а добротой принца.
Философа окончательно сразил этот последний знак внимания.
— Видно, придется поехать, — смирился он, — никогда еще за меня не брались так ловко.
— Вас возможно взять только сердечностью, сударь, — заметил г-н де Куаньи, — что же касается ума, то вы неодолимы.
— Итак, я готов поехать, как того желает ее королевское высочество.
— Сударь! Позвольте вам выразить мою личную признательность, и только мою: ее высочество рассердилась бы на меня, если бы я говорил и от ее имени, — ведь она желает поблагодарить вас лично. Кстати, знаете ли, сударь, не мешало бы вам, мужчине, поблагодарить юную и прелестную даму: она так к вам благоволит.
— Вы правы, сударь, — с улыбкой отвечал Руссо, — однако у стариков, как и у молодых женщин, есть одна привилегия: нас надо просить.
— Господин Руссо! Соблаговолите назначить мне время: я вам пришлю свою карету, вернее, сам приеду за вами и провожу в Трианон.
— Ну уж нет, граф, увольте! — сказал Руссо. — Хорошо, я буду в Трианоне, но позвольте мне прийти туда так, как мне заблагорассудится, как мне будет удобно. Можете не беспокоиться. Я приду, вот и все. Скажите мне только, в котором часу я должен быть.
— Как, сударь, вы отказываете мне в удовольствии вас представить? Да, вы правы, это была бы слишком большая честь для меня. Такой человек, как вы, не нуждается в представлении.
— Сударь! Я знаю, что вы провели при дворе времени больше, чем я в каком бы то ни было месте земного шара… Я не отказываюсь от вашего предложения, я не отказываю вам лично, просто у меня есть свои привычки. Я хочу пойти туда так, как если бы я отправился на прогулку. В конце концов… это мое условие!
— Я подчиняюсь, сударь, я не желаю ни в чем вам противоречить. Репетиция начнется вечером в шесть часов.
— Прекрасно, без четверти шесть я буду в Трианоне.
— Да, но как вы доберетесь?
— Это мое дело, вот мой экипаж.
Он указал на ноги, еще довольно крепкие, которые он обувал даже с некоторой претензией.
— Пять льё! — удрученно воскликнул г-н де Куаньи. — Да ведь вы устанете, вечер будет для вас слишком утомителен, имейте это в виду!
— Ну, у меня есть своя карета и свои лошади, принадлежащие мне точно так же, как и моему соседу, как воздух, солнце и вода, а стоит это всего пятнадцать су.
— Боже мой! Жалкий наемный экипаж! У меня даже мурашки побежали по спине!
— Скамейки, которые представляются вам такими жесткими, для меня — словно постель сибарита. Мне кажется, что они набиты пухом или лепестками роз. До вечера, граф, до вечера!
Почувствовав, что его выпроваживают, г-н де Куаньи смирился и после бесчисленных комплиментов, более или менее точных указаний и повторных настойчивых предложений своих услуг, спустился по темной лестнице; Руссо проводил его до площадки, Тереза — до середины лестницы.
Господин де Куаньи сел в карету, ожидавшую его на улице, и, улыбаясь во время всего пути, возвратился в Версаль.
Тереза поднялась и с грохотом захлопнула дверь, а это предвещало Руссо надвигавшуюся бурю.
CIX. ПРИГОТОВЛЕНИЯ РУССО.
Визит г-на де Куаньи совершенно изменил ход мыслей Руссо. После отъезда графа он опустился с тяжелым вздохом в небольшое кресло и устало проговорил:
— Ах, какая скука! Как мне надоели люди с их приставаниями!
Входившая в эту минуту в комнату Тереза подхватила его слова и, встав напротив Руссо, бросила ему:
— До чего же вы спесивы!
— Я? — удивленно воскликнул Руссо.
— Да, вы тщеславны и лицемерны!
— Я?
— Вы… Да вы без памяти от радости, что поедете ко двору, и пытаетесь скрыть свою радость, притворяясь равнодушным.
— Вот тебе раз! — пожал плечами Руссо, чувствуя унижение, оттого что его без труда разгадали.
— Уж не собираетесь ли вы убедить меня в том, что чувствуете себя несчастным. И только потому, что король услышит ваши арии, которые вы, бездельник, нацарапали вот тут, за своим спинетом?
Руссо взглянул на жену, не скрывая раздражения.
— Вы просто глупы, — сказал он. — Что за честь для такого человека, как я, предстать перед королем? Чему король обязан тем, что сидит на троне? Капризу природы — благодаря ему именно он стал сыном королевы. А вот я удостоен быть призванным развлекать короля и обязан этим своему труду и таланту, развитому благодаря трудолюбию.
Тереза была не из тех, кого можно легко переубедить.
— Хотела бы я, чтобы вас услышал господин де Сартин. Уж для вас нашлись бы одиночка в Бисетре или клетка в Шарантоне.
— Это потому, — подхватил Руссо, — что господин де Сартин — тиран на службе у другого тирана, а человек беззащитен против тиранов, обладая лишь гениальностью; впрочем, если господину де Сартину вздумалось бы меня преследовать…
— То что же? — спросила Тереза.
— Да, я знаю, — вздохнул Руссо, — мои враги были бы довольны, да!..
— А почему у вас есть враги? — спросила Тереза. — Да потому что вы злой человек и нападаете на целый свет. Вот Вольтер окружен друзьями, дай Бог ему счастья!
— Это верно, — отвечал Руссо со смиренной улыбкой.
— Еще бы! Ведь Вольтер — дворянин; король Пруссии — его близкий друг; у него есть свои лошади, он богат, у него замок в Ферне… И все это он вполне заслужил… Зато когда его приглашают ко двору, он не заставляет себя упрашивать, он чувствует себя там как дома.
— А вы полагаете, — спросил Руссо, — что я не буду себя там чувствовать свободно? Вы думаете, я не знаю, откуда берется золото, которое тратит двор, и не понимаю, почему хозяину оказывают почести? Эх, милая, вы обо всем судите вкривь и вкось. Подумайте; если у меня презрительный взгляд — значит, я действительно презираю что-то. Поймите, если я гнушаюсь роскошью придворных, то это потому, что они ее украли.
— Украли? — возмущенно переспросила Тереза.
— Да, украли у вас, у меня, у всех. Все золото, которое они носят на себе, должно быть роздано несчастным, умирающим с голоду. Вот почему я, помня обо всем этом, не без отвращения отправляюсь ко двору.
— Я не утверждаю, что народ счастлив, — заметила Тереза, — но, что ни говори, король есть король.
— Вот я ему и повинуюсь, так что ж еще ему надо?
— Да, вы повинуетесь, потому что боитесь. Вы говорите, что идете к королю по его приказанию, и при этом считаете себя смелым человеком. Я на это могу ответить, что вы лицемер и вам самому это нравится.
— Ничего я не боюсь, — высокомерно произнес Руссо.
— Отлично! Так подите к королю и скажите ему хотя бы часть того, что вы здесь сейчас наговорили.
— Я и поступлю так, как сердце мне подскажет.
— Вы?
— Да, я. Когда это я отступал?
— Да вы не посмеете отобрать у кошки кость, которую она обгладывает, потому что побоитесь, как бы она вас не оцарапала… Что же с вами будет в окружении вооруженных шпагами офицеров гвардии?.. Ведь я вас знаю лучше, чем родного сына… Сейчас вы побежите бриться, потом надушитесь и вырядитесь; вы станете красоваться, подмигивая и прищуриваясь, потому что у вас маленькие круглые глазки, и если вы их раскроете, как все, то окружающие их увидят. Постоянно щурясь, вы даете понять, что они у вас огромные, как ворота. Потом вы потребуете у меня свои шелковые чулки, наденете кафтан шоколадного цвета со стальными пуговицами, новый парик, кликнете фиакр, и вот уж мой философ поехал очаровывать прекрасных дам… А завтра… Ах, завтра вы будете в полном восторге, вы вернетесь влюбленным, вы со вздохами приметесь за свою писанину, роняя слезы в кофе. Ах, до чего же хорошо я вас знаю!..
— Вы ошибаетесь, дорогая, — отвечал Руссо. — Повторяю, что меня вынуждают явиться ко двору. И я туда пойду, потому что боюсь скандала, как любой честный гражданин должен его бояться. Кстати: я не из тех, кто отказывается признать превосходство одного гражданина республики над другим. Но когда дело доходит до того, чтобы обхаживать короля, чтобы пачкать мою новую одежду блестками этих господ из Бычьего глаза, — нет, ни за что! Я никогда этого не сделаю, и если вы меня застанете за подобным занятием, можете тогда вволю надо мной посмеяться.
— Так что же, вы не будете одеваться? — насмешливо спросила Тереза.
— Нет.
— Не станете надевать новый парик?
— Нет.
— И не будете щурить свои маленькие глазки?
— Говорят вам, что я собираюсь отправиться туда как свободный человек, без притворства и без страха. Я пойду ко двору, как пошел бы в театр. И мне безразлично, что подумают обо мне актеры.
— Побрейтесь хотя бы, — посоветовала Тереза, — у вас щетина в полфута длиной.
— Я вам уже сказал, что ничего не собираюсь менять в своей наружности.
Тереза так громко рассмеялась, что Руссо стало не по себе, и он вышел в соседнюю комнату.
Хозяйка еще не исчерпала всех своих возможностей и решила продолжать его изводить.
Она достала из шкафа парадный сюртук Руссо, свежее белье и тщательно вычищенные и натертые яйцом туфли. Она разложила все это перед Руссо на постели и стульях.
Однако он, казалось, не обратил на них ни малейшего внимания.
Тогда Тереза ему сказала:
— Ну, вам пора одеваться… Туалет занимает много времени, когда собираешься ко двору… Иначе вы не успеете прийти в Версаль к назначенному часу.
— Я вам уже сказал, Тереза, — возразил Руссо, — я полагаю, что и так прекрасно выгляжу. На мне костюм, в котором я ежедневно предстаю перед своими согражданами. Король не что иное, как гражданин, такой же, как вы или я.
— Ну-ну, не упрямьтесь, Жак, — проговорила Тереза, желая его подразнить, — не делайте глупостей… Вот ваша одежда… ваша бритва готова; я послала предупредить брадобрея, и если вы сегодня раздражены…
— Благодарю вас, дорогая, — отвечал Руссо, — я только вычищу свой сюртук щеткой и надену туфли, потому что ходить в шлепанцах не принято.
«Неужели у него хватит силы воли?» — удивилась про себя Тереза.
И она продолжала дразнить его то из кокетства, то по убеждению, то шутя. Однако Руссо хорошо ее знал. Он видел ловушку и понимал: стоит ему уступить ей, как его немедленно и беспощадно подымут на смех и будут стыдить. И потому он не захотел уступать и даже не посмотрел на нарядную одежду, подчеркивавшую, как он говорил, благородство его лица.
Тереза была начеку. У нее оставалась теперь только одна надежда: она надеялась, что Руссо, прежде чем выйти, взглянет, по своему обыкновению, в зеркало, потому что философ был чрезмерно чистоплотен, если только слово «чрезмерно» подходит к чистоплотности.
Однако Руссо не терял бдительности; перехватив озабоченный взгляд Терезы, он повернулся к зеркалу спиной. Приближался назначенный час. Философ набивал себе голову теми неприятными поучениями, с которыми мог бы обратиться к королю.
Он повторял про себя несколько отрывков, застегивая пряжки на туфлях, потом сунул шляпу под мышку, взялся за трость и, пользуясь тем, что Тереза в ту минуту не могла его видеть, одернул камзол обеими руками, разглаживая складки.
Тереза вернулась и протянула ему носовой платок; он засунул его в глубокий карман. Тереза проводила мужа до лестницы.
— Жак, будьте благоразумны, — сказала она, — вы ужасно выглядите и похожи в этом наряде на фальшивомонетчика.
— Прощайте, — сказал Руссо.
— Вы похожи на мошенника, сударь, — не унималась Тереза, — имейте это в виду.
— Будьте осторожны с огнем, — заметил Руссо, — и не трогайте моих бумаг.
— Вы выглядите словно доносчик, уверяю вас, — потеряв последнюю надежду, пробормотала Тереза.
Руссо ничего не ответил. Он спускался по лестнице, напевая что-то себе под нос и, пользуясь темнотой, стряхнул рукавом пыль со шляпы, поправил левой рукой полотняное жабо и, таким образом, закончил скорый, но необходимый туалет. Внизу он смело ступил в грязь, покрывавшую улицу Платриер, и на цыпочках дошел до Елисейских полей, где стояли приличные экипажи, которые мы из стремления к точности назовем «кукушками» (еще лет двенадцать назад их можно было встретить по дороге из Парижа в Версаль; они не столько перевозили, сколько истязали вынужденных экономить бедных путешественников).
СХ. ЗА КУЛИСАМИ ТРИАНОНА.
Подробности путешествия мы опускаем. Скажем только, что Руссо был вынужден ехать в обществе швейцарца, подручного приказчика, мещанина и аббата.
Он прибыл к половине шестого. Весь двор уже собрался в Трианоне. В ожидании короля кое-кто пробовал голос; никому и в голову не приходило говорить об авторе оперы.
Некоторым из присутствовавших было известно, что репетицию будет проводить г-н Руссо из Женевы. Однако увидеть Руссо было им интересно не более, чем познакомиться с г-ном Рамо, или г-ном Мармонтелем или каким-нибудь другим любопытным существом, которых придворные видели иногда у себя в гостиных или в скромных домах этих людей.
Руссо был встречен офицером, которому г-н де Куаньи приказал дать ему знать немедленно по прибытии философа.
Этот дворянин, со свойственными ему любезностью и предупредительностью, поспешил навстречу Руссо. Однако, едва на него взглянув, он очень удивился и, не удержавшись, стал рассматривать его еще внимательнее.
Помятая одежда Руссо запылилась, лицо его было бледно и покрыто такой щетиной, отражения которой церемониймейстер Версаля никогда не видывал в дворцовых зеркалах.
Руссо почувствовал смущение под взглядом г-на де Куаньи. Он еще более смутился, когда, подойдя к зрительному залу, увидел множество великолепных костюмов, пышные кружева, бриллианты и голубые орденские ленты; все это вместе с позолотой зала производило впечатление букета цветов в огромной корзине.
Плебей Руссо почувствовал себя не в своей тарелке, едва ступив в зал, самый воздух которого благоухал и действовал на него возбуждающе.
Однако надо было идти дальше и попробовать взять дерзостью. Взгляды доброй части присутствовавших остановились на нем: он казался темным пятном в этом пышном собрании.
Господин де Куаньи по-прежнему шел впереди. Он подвел Руссо к оркестру, где его ожидали музыканты.
Здесь философ почувствовал некоторое облегчение; пока звучала его музыка, он думал о том, что опасность рядом, что он пропал и никакие рассуждения ему не помогут.
Дофина уже вышла на сцену в костюме Колетты; она ждала своего Колена.
Господин де Куаньи переодевался в своей уборной.
Неожиданно появился король, и все головы окружавших его придворных склонились.
Людовик XV улыбался и, казалось, был в прекрасном расположении духа.
Дофин сел справа от него, а граф Прованский — слева.
Полсотни присутствовавших, составлявших это, так сказать, интимное общество, сели, повинуясь жесту короля.
— Отчего же не начинают? — спросил Людовик XV.
— Сир! Еще не одеты пастухи и пастушки, мы их ждем, — отвечала дофина.
— Они могли бы играть в обычном платье, — сказал король.
— Нет, сир, — возразила принцесса, — мы хотим посмотреть, как будут выглядеть костюмы при свете, чтобы представлять себе, какое они производят впечатление.
— Вы правы, — согласился король. — В таком случае, давайте прогуляемся.
И Людовик XV встал, чтобы пройтись по коридору и сцене. Он был, кстати говоря, очень обеспокоен отсутствием графини Дюбарри.
Когда король покинул ложу, Руссо с грустью стал рассматривать зал, сердце его сжалось при мысли о собственном одиночестве.
Ведь он рассчитывал на совсем иной прием.
Он воображал, что перед ним будут расступаться, что придворные окажутся любопытнее парижан; он боялся, что его засыплют вопросами, станут наперебой представлять друг другу. И что же? Никто не обращает на него ни малейшего внимания.
Он подумал, что его щетина не так уж страшна, а вот старая одежда действительно должна бросаться в глаза. Он мысленно похвалил себя за то, что не стал пытаться придать себе элегантности — это выглядело бы теперь слишком смешно.
Помимо всего прочего, он чувствовал унижение оттого, что его роль была сведена всего-навсего к руководству оркестром.
Неожиданно к нему подошел офицер и спросил, не он ли господин Руссо.
— Да, сударь, — ответил он.
— Ее высочество дофина желает с вами поговорить, сударь, — сообщил офицер.
Взволнованный Руссо встал.
Принцесса ждала его. Она держала в руках ариетту Колетты и напевала;
Едва завидев Руссо, она пошла ему навстречу.
Философ низко поклонился, утешая себя тем, что приветствует женщину, а не принцессу.
А дофина заговорила с дикарем-философом так же любезно, как с самым утонченным дворянином Европы.
Она спросила, как ей следует исполнять третий куплет:
Руссо принялся излагать теорию декламации и мелопеи, однако этот ученый разговор был прерван: в сопровождении нескольких придворных подошел король.
Он с шумом вошел в артистическую, где философ давал урок ее высочеству.
Первое движение, первое же чувство короля при виде неопрятного господина было в точности такое, как у г-на де Куаньи, с той лишь разницей, что граф знал Руссо, а Людовик XV был незнаком с ним.
Он внимательно рассматривал свободолюбивого господина, выслушивая комплименты и слова благодарности принцессы.
Его властный взгляд, не привыкший опускаться никогда и ни перед кем, произвел на Руссо непередаваемое впечатление: философ оробел и почувствовал неуверенность.
Дофина дала Людовику XV время вдоволь насмотреться на философа, а затем подошла к Руссо и обратилась к королю:
— Ваше величество! Позвольте представить вам нашего автора!
— Вашего автора? — спросил король, делая вид, что пытается что-то припомнить.
Руссо казалось, что во время этого диалога он стоит на раскаленных углях. Испепеляющий взгляд короля, подобный солнечному лучу, падающему сквозь увеличительное стекло, переходил поочередно с длинной щетины на сомнительной свежести жабо, затем на покрытый густым слоем пыли кафтан, на неряшливый парик величайшего писателя его королевства.
— Перед вами господин Жан Жак Руссо, сир, — проговорила сжалившаяся над философом принцесса, — автор прелестной оперы, которую мы собираемся представить снисходительности вашего величества.
Король поднял голову.
— A-а, господин Руссо… Здравствуйте! — холодно сказал он и снова с осуждением стал разглядывать его костюм.
Руссо спрашивал себя, как следует приветствовать короля Франции, не будучи придворным, но и не желая показаться невежливыми, раз уж он очутился в королевской резиденции.
В то время как он раздумывал, король непринужденно беседовал с ним, как и все государи, нимало не заботясь о том, приятны его слова собеседнику или нет.
Руссо молчал и словно окаменел. Он забыл все фразы, которые собирался бросить в лицо тирану.
— Господин Руссо! — обратился к нему король, не переставая разглядывать его сюртук и парик. — Вы написали чудную музыку, благодаря ей я пережил прекрасные минуты.
И затем, в высшей степени противным голосом и страшно фальшивя, король запел:
— Прелестно! — воскликнул король, едва допев куплет.
Руссо поклонился.
— Не знаю, смогу ли я хорошо пропеть, — проговорила дофина.
Руссо повернулся к принцессе, собираясь дать ей несколько советов. Но король опять запел, на сей раз — романс Колена:
Его величество пел отвратительно. Руссо был польщен памятливостью монарха, но его задело скверное исполнение. Он скорчил гримасу и стал похож на обезьяну, грызущую луковицу: одна половина его лица смеялась, другая плакала.
Дофина сохраняла невозмутимый вид, не теряя хладнокровия, как это умеют делать лишь при дворе.
Король, нимало не смущаясь, продолжал:
Руссо почувствовал, как краска бросилась ему в лицо.
— Скажите, господин Руссо, — обратился к нему король, — правду ли говорят, что вы иногда наряжаетесь в армянский костюм?
Руссо еще больше покраснел, язык словно застрял у него в горле, и он ни за что на свете не смог бы в тот момент им пошевелить.
Не дожидаясь ответа, король запел:
— Вы, кажется, живете на улице Платриер, господин Руссо? — осведомился король.
Руссо в ответ кивнул, но это была его ultima thule[28]… Никогда еще ему так не хотелось воззвать к помощи.
Король промурлыкал:
— Говорят, вы в очень плохих отношениях с Вольтером, господин Руссо?
Руссо окончательно потерял голову. Он не мог больше сдерживаться. Но король, вероятно, не собирался его щадить и направился к выходу, фальшиво напевая:
И продолжая под звуки оркестра свои чудовищные вокальные упражнения, от которых умер бы Апполон точно так же, как этот бог сам некогда покарал Марсия.
Руссо остался в одиночестве. Принцесса покинула его, чтобы в последний раз взглянуть на свой костюм.
Спотыкаясь на каждом шагу, Руссо ощупью выбрался в коридор. Он столкнулся с юношей и молодой дамой, которые сверкали бриллиантами, кружевами и от которых пахло цветами. Они занимали весь коридор, хотя молодой человек держался близко от дамы, нежно пожимая ее ручку.
Дама утопала в кружевах, голову ее украшала гигантски высокая прическа, она обмахивалась веером и источала благоухания. Вся она так и светилась. С ней-то и столкнулся Руссо.
Юноша, худенький, нежный, очаровательный, теребил голубую орденскую ленту, прикрывавшую жабо из английских кружев. Он громко искренне смеялся, а затем внезапно обрывая взрывы хохота, переходил на шепот, заставлявший смеяться даму; похоже было, что они прекрасно понимают друг друга.
Руссо узнал в прекрасной даме, в этом соблазнительном создании, графиню Дюбарри. Едва увидев ее, он, по своему обыкновению, сосредоточил на ней все свое внимание, словно не замечая ее спутника.
Молодой человек с голубой лентой был не кто иной, как граф д’Артуа, от всей души резвившийся вместе с любовницей своего деда.
Заметив темную фигуру Руссо, графиня Дюбарри вскрикнула:
— О Боже!
— Что такое? — спросил граф д’Артуа, бросив взгляд на философа.
Он хотел пропустить свою спутницу вперед.
— Господин Руссо! — вскричала Дюбарри.
— Руссо из Женевы? — спросил граф д’Артуа тоном школьника на каникулах.
— Да, ваше высочество, — отвечала графиня.
— Ах, здравствуйте, господин Руссо! — подхватил шалун, видя, что Руссо отчаянно и безуспешно пытается проскочить. — Здравствуйте!.. Так мы сейчас будем слушать вашу музыку?
— Ваше высочество! — пролепетал Руссо, рассмотрев голубую ленту.
— Да, прелестную музыку! — прибавила графиня. — Она прекрасно отражает дух и стремления автора!
Руссо поднял голову и почувствовал, как его словно ослепил взгляд графини.
— Сударыня… — начал было он недовольным тоном.
— Я буду исполнять роль Колена, графиня! — воскликнул граф д’Артуа. — А вас прошу быть Колеттой.
— С большим удовольствием, ваше высочество. Однако я не смею, не будучи актрисой, осквернять музыку маэстро.
Руссо был готов отдать жизнь за то, чтобы взглянуть на нее еще хоть раз. Ее голос, ее тон, ее лесть, ее красота рвали его сердце на части.
Он решил сбежать.
— Господин Руссо! — продолжал принц, преграждая ему путь. — Я хочу, чтобы вы помогли мне сыграть Колена.
— А я не смею просить у господина Руссо совета, как лучше исполнить роль Колетты, — лепетала графиня, разыгрывая скромницу, что окончательно сразило философа.
Его глаза продолжали вопросительно смотреть на графиню.
— Господин Руссо меня ненавидит, — сказала она принцу чарующим голосом.
— Да что вы! — вскричал граф д’Артуа. — Кто может ненавидеть вас, графиня?
— Вы же сами видите, — отвечала она.
— Господин Руссо, человек учтивый, сочиняющий прелестные вещицы, не может избегать столь обворожительной женщины, — заметил граф д’Артуа.
Руссо громко вздохнул, словно готовился испустить дух, и шмыгнул в узкую щель, неосторожно оставленную графом д’Артуа.
Однако в тот вечер Руссо решительно не везло. Не пройдя и нескольких шагов, он наткнулся на еще одну группу людей.
На сей раз это были старик и юноша: у юноши грудь была украшена голубой лентой, а его собеседник, на вид лет пятидесяти пяти, был одет в красное и имел бледное лицо и строгий вид.
Оба они услыхали, как веселится граф д’Артуа и кричит изо всех сил:
— Господин Руссо! Господин Руссо! Я расскажу, как вы сбежали от графини, да ведь никто не поверит!
— Руссо? — прошептали оба собеседника.
— Задержите его, брат! — со смехом продолжал принц. — Держите его, господин де Ла Вогийон!
Руссо понял, к какому рифу подвела его корабль несчастная звезда.
Граф Прованский и воспитатель детей Франции!
Граф Прованский также преградил Руссо путь.
— Здравствуйте, сударь! — отрывисто и высокомерно сказал он.
Совершенно потерявшись, Руссо поклонился и пробормотал:
— Мне не суждено отсюда выйти!..
— Какая удача, что я встретил вас, сударь! — произнес принц тоном наставника, который искал и наконец нашел провинившегося ученика.
«Опять нелепые комплименты, — подумал Руссо, — до чего же однообразны великие мира сего!».
— Я прочел ваш перевод из Тацита, сударь.
«A-а, этот и впрямь ученый педант», — сказал себе Руссо.
— Тацита переводить трудно, не правда ли?
— Да, ваше высочество, я ведь написал об этом в небольшом предисловии.
— Да, знаю, знаю. Вы там пишете, что лишь отчасти владеете латынью.
— Да, ваше высочество.
— Зачем же тогда вы взялись переводить Тацита, господин Руссо?
— Я, ваше высочество, оттачивал стиль.
— А знаете, господин Руссо, вы неправильно перевели «imperatoria brevitate» как «торжественное лаконичное выступление».
Смущенный Руссо изо всех сил напрягал память.
— Да, вы именно так это перевели, — проговорил юный принц с самоуверенностью старого ученого, который нашел ошибку у Сомеза. — Это в том месте, где Тацит рассказывает, как Пизон обратился с речью к своим солдатам.
— Так что же, ваше высочество?
— А то, господин Руссо, что «imperatoria brevitate» означает «с лаконичностью военачальника», или «человека, привыкшего командовать». «Лаконичность полководца»… вот подходящее выражение, не правда ли, господин де Ла Вогийон?
— Да, ваше высочество, — отвечал воспитатель.
Руссо не проронил ни слова. Принц продолжал:
— Это ведь полное извращение смысла, господин Руссо… Да я вам еще найду пример!
Руссо побледнел.
— Вот послушайте, господин Руссо, это в том отрывке, где речь идет о Цецине. Он начинается так: «At in superiore Germania…» Вы знаете, что в этом месте идет описание Цецины, и Тацит говорит: «Cito sermone».
— Я прекрасно помню это место, ваше высочество.
— Вы перевели это место следующим образом: «обладающий даром слова»…
— Совершенно верно, ваше высочество, я полагал, что…
— «Cito sermone» означает «говорящий быстро», то есть легко.
— Я и сказал: «обладающий даром слова»…
— Тогда в тексте было бы «decora» или «ornato», или «eleganti sermone». «Cito» — это выразительный эпитет, господин Руссо. Тем же приемом Тацит пользуется, описывая, как изменилось поведение Отона. Он пишет: «Delata voluptas, dissimulata luxuria cunctaque, ad imperii decorem composita».
— Я перевел это так: «Оставив для другого времени роскошь и сладострастие, он удивил весь мир, посвятив себя восстановлению славы империи».
— Напрасно, господин Руссо, напрасно. Прежде всего, вы расчленили одну фразу на три части, из-за этого вы плохо перевели «dissimulata luxuria». Далее: вы исказили смысл последней части фразы. Тацит имел в виду не то, что император Отон посвятил себя восстановлению славы империи; он хотел сказать, что, не находя более удовлетворения своим страстям и скрывая привычку к роскоши, Отон подчинял все, употреблял все, жертвовал всем, всем, — понимаете, господин Руссо? — то есть своими страстями и даже пороками, во имя славы империи. Фраза имеет двоякий смысл, а ваш перевод не передает это в полной мере. Не правда ли, господин де Ла Вогийон?
— Да, ваше высочество.
Руссо обливался потом и не смел рта раскрыть под столь безжалостным напором.
Принц дал ему передохнуть, а затем продолжал:
— Вы замечательный философ…
Руссо поклонился.
— Однако ваш «Эмиль» — опасная книга.
— Опасная, ваше высочество?
— Да, из-за неимоверного количества ложных идей, способных сбить с толку мелких буржуа.
— Ваше высочество! Как только человек становится отцом семейства, он попадает в условия, описанные в моей книге, независимо от того, будет ли он великим мира сего или последним нищим в королевстве… Быть отцом… это…
— Знаете, господин Руссо, — грубо перебил его принц, — ваша «Исповедь» — довольно забавная книга… Скажите, сколько у вас было детей?
Руссо побледнел, зашатался и поднял на юного палача гневный и в то же время растерянный взгляд, но это лишь раззадорило графа Прованского.
Не дожидаясь ответа, принц удалился, держа под руку своего наставника и продолжая комментировать произведения господина, которого он только что с такой жестокостью раздавил.
Оставшись один, Руссо понемногу пришел в себя, как вдруг услышал первые такты своей увертюры в исполнении оркестра.
Он пошел в ту сторону, откуда доносилась музыка и, добравшись до своего места, рухнул на стул.
— Какой же я безумец, глупец, трус! — сказал он. — Мне надо было бы ответить этому маленькому и жестокому педанту: «Ваше высочество! Молодой человек не должен мучить бедного старика, это неблагородно!».
Он все еще сидел там, весьма довольный этой фразой, когда ее высочество дофина и г-н де Куаньи начали свой дуэт. Теперь мучения философа сменились страданиями музыканта: раньше его уязвили в самое сердце, теперь — терзали слух.
CXI. РЕПЕТИЦИЯ.
Как только началась репетиция, всеобщее внимание было захвачено зрелищем, и о Руссо забыли.
Теперь он решил оглядеться. Он слушал фальшивое пение господ, переодетых поселянами, и рассматривал дам, кокетничавших, словно пастушки, переодетые в костюмы придворных.
Принцесса пела правильно, но была никудышной актрисой. Впрочем, у нее почти не было голоса, и ее едва было слышно. Не желая никого смущать, король скрылся в темной ложе и беседовал с дамами.
Дофин был суфлером. Вся опера шла по-королевски плохо.
Руссо решил больше не слушать, однако не слышать было нелегко. У него было только одно утешение: среди пастушек он заметил одну, наделенную не только чудесной внешностью, но и прелестным голоском, выделявшимся из хора.
Руссо сосредоточил на ней внимание и стал пристально рассматривать эту очаровательную инженю поверх своего пюпитра, любуясь красивым лицом и в то же время наслаждаясь ее мелодичным голосом.
Перехватив взгляд автора, дофина скоро поняла по его улыбке, по блеску его глаз, что он удовлетворен исполнением отдельных сцен и, желая услышать комплимент, — ведь она была женщина! — склонилась к пюпитру.
— Разве это так уж плохо, господин Руссо? — спросила она.
Растерявшийся и подавленный Руссо промолчал.
— Ну, значит, мы фальшивим, — проговорила дофина, — а господин Руссо не решается нам это сказать. Ну, прошу вас, господин Руссо!..
Руссо не сводил взгляда с прелестной девушки, которая даже не подозревала, что вызвала его интерес.
— A-а, это мадемуазель де Таверне! — сообщила принцесса, проследив глазами за взглядом нашего философа. — Она сфальшивила!..
Андре покраснела; она заметила, что на нее устремлены взгляды всех присутствующих.
— Нет, нет! — крикнул Руссо. — Это не она! Мадемуазель поет, как ангел!
Графиня Дюбарри метнула в философа взгляд, более смертоносный, чем дротик.
Барон де Таверне, напротив, почувствовал, как сердце его наполняется счастьем, и послал Руссо одну из самых своих любезных улыбок.
— Вы тоже находите, что эта юная особа поет хорошо? — спросила г-жа Дюбарри у короля, которого задели за живое слова Руссо.
— Я не слышу… в хоре… — отвечал Людовик XV. — Для этого надо быть музыкантом…
В это время Руссо оживился за своим пюпитром, заставив хор пропеть:
Когда музыка умолкла, обернувшись, он увидел г-на де Жюсьё, приветствовавшего его со своего места.
Для женевского философа оказалось немалым удовольствием на виду у всех дирижировать придворными, особенно на глазах у того, кто его обидел, дав почувствовать свое превосходство.
Он чопорно с ним раскланялся и вновь уставился на Андре: от похвалы она стала еще красивее.

Репетиция продолжалась; графиня Дюбарри помрачнела. Она дважды пыталась отвлечь заинтересовавшегося спектаклем Людовика XV, говоря ему комплименты.
Так главным действующим лицом спектакля к неизбежной зависти остальных стала Андре. Впрочем, это ни в малейшей степени не помешало ее высочеству дофине выслушивать горячие комплименты и выказывать бурную веселость.
Герцог де Ришелье порхал вокруг нее с легкостью юноши; ему удалось собрать в глубине театра кружок веселящихся зрителей, центром которого была сама принцесса — это очень беспокоило сторонников Дюбарри.
— Кажется, у мадемуазель де Таверне красивый голос, — громко сказал Ришелье.
— Чудесный! — подхватила дофина. — Не будь я эгоисткой, я уступила ей роль Колетты. Впрочем, я выбрала эту роль для себя ради развлечения и не отдам ее никому.
— Мадемуазель де Таверне спела бы ее не лучше, чем ваше королевское высочество, — возразил Ришелье, — и…
— Мадемуазель — поразительно музыкальна! — перебил его Руссо.
— Поразительно! — согласилась ее высочество. — Я должна признаться, что она помогает мне разучивать роль. А как восхитительно она танцует! Вот я совсем не умею танцевать.
Нетрудно себе представить, как подействовали эти разговоры на короля, на графиню Дюбарри и на всех любопытных, сплетников, интриганов и завистников. Каждый из присутствовавших наслаждался нанесенным ударом или страдал от боли и сгорал от стыда, получая этот удар. Равнодушных не было, за исключением, пожалуй, самой Андре.
Поощряемая Ришелье, дофина заставила Андре пропеть романс:
Все видели, как король покачивал головой в такт пению с выражением удовольствия, отчего все румяна осыпались с лица г-жи Дюбарри, подобно влажной штукатурке.
Ришелье, более злобный, чем любая женщина, наслаждался своей местью. Он подошел к Таверне-отцу, и оба старика застыли, словно изваяния, олицетворяя собою союз Лицемерия с Развратом.
Их оживление возрастало по мере того, как все более хмурилась графиня Дюбарри. Не выдержав, она резким движением поднялась с места, что было против всех правил приличия, потому что король еще не вставал.
Подобно муравьям, придворные почуяли бурю и поспешили укрыться вблизи наиболее сильных из них. Таким образом, принцесса оказалась в окружении своих друзей, а вокруг графини Дюбарри сгрудились ее приспешники.
Постепенно интерес к репетиции у присутствовавших угас, их вниманием овладели другие события. Дело теперь было не в Колетте и не в Колене. Многие думали о том, что графине Дюбарри вскоре придется, вероятно, пропеть:
— Ты только посмотри, — прошептал Ришелье, обращаясь к Таверне, — какой ошеломляющий успех у твоей дочери!
И он потащил его за собой в коридор, толкнув застекленную дверь; при этом он чуть не сбил с ног какого-то любопытного, заглядывавшего через стекло в зал.
— Чертов болван! — проворчал герцог де Ришелье, поправляя рукав, смявшийся от соприкосновения с дверью, ударившей его рикошетом, и особенно сердясь потому, что отскочивший от двери любопытный был одет как один из дворцовых рабочих. В руках он держал корзину с цветами.
Когда удар дверью отбросил его в коридор, он едва не упал навзничь. Однако ему все-таки чудом удалось удержаться на ногах, а вот корзина перевернулась.
— A-а, я знаю этого дурака, — со злостью проговорил Таверне.
— Кто же он? — спросил герцог.
— Что ты здесь делаешь, шалопай? — спросил Таверне.
Жильбер — а это был он, о чем уже, наверное, догадался читатель, — с гордостью ответил:
— Смотрю, как видите.
— Вместо того, чтобы работать!.. — проворчал Ришелье.
— Моя работа окончена, — спокойно отвечал Жильбер, обращаясь к герцогу и даже не глядя на Таверне.
— Ла-ла-ла, сударь! — прервал его вдруг чей-то ласковый голос. — Мой маленький Жильбер — прекрасный работник и прилежный ботаник.
Таверне обернулся и увидел г-на де Жюсьё. Тот подошел и потрепал Жильбера по щеке.
Таверне покраснел от злости и пошел дальше.
— Слуги — здесь? — возмутился он.
— Тише! — шепнул ему Ришелье. — Николь тоже здесь… Взгляни. Вон у той двери, наверху… Резвая девчонка! Она тоже не теряет времени даром!
Это и в самом деле была Николь. Вместе с другими слугами Трианона она с восхищением следила за спектаклем. Казалось, ее широко раскрытые глаза видели больше других.
Заметив ее, Жильбер пошел в противоположную сторону.
— Идем, идем! — обратился Ришелье к Таверне. — Мне кажется, король хочет с тобой поговорить… он ищет кого-то глазами.
Друзья направились к королевской ложе.
Графиня Дюбарри, стоя, переговаривалась с герцогом д’Эгильоном. Тот следил глазами за каждым движением дядюшки.
Оставшись один, Руссо продолжал восхищаться Андре. Он был всецело поглощен ею и, если можно употребить это выражение, почти влюблен.
Знатные актеры отправились переодеваться, каждый в свою ложу, где Жильбер расставил свежие цветы.
Ришелье пошел к королю, а Таверне, сгорая от нетерпения, остался ждать его в коридоре. Наконец герцог возвратился и прижал палец к губам.
Таверне побледнел от радости и пошел навстречу другу. Тот повел его в королевскую ложу.
Там они услышали нечто такое, что немногим дано было услышать.
Графиня Дюбарри спросила короля:
— Ждать ли мне ваше величество сегодня к ужину?
Король ответил ей:
— Я очень устал, графиня. Прошу меня простить!
В ту же минуту явился дофин и, почти наступая графине на ноги и словно не замечая ее, обратился к королю:
— Сир! Будем ли мы иметь честь видеть ваше величество за ужином в Трианоне?
— Нет, дитя мое. Я сказал графине, что очень устал. Рядом с вами, молодыми, я чувствовал бы себя стариком… Я буду ужинать один.
Дофин отвесил поклон и удалился. Графиня Дюбарри низко поклонилась и вышла, задохнувшись от злобы.
Король подал знак Ришелье.
— Герцог! — сказал он. — Мне нужно поговорить с вами об одном касающемся вас деле.
— Сир…
— Я был недоволен… Я желаю услышать от вас объяснения. Знаете… Я ужинаю один, составьте мне компанию.
Король взглянул на Таверне.
— Вы знаете этого дворянина, герцог?
— Барона де Таверне? Да, сир.
— A-а! Отец очаровательной певицы!
— Да, сир.
— Послушайте, герцог…
Король наклонился и зашептал Ришелье на ухо.
Таверне до боли сжал кулаки, чтобы не выдать своего волнения.
Через мгновение Ришелье прошел перед Таверне, шепнув на ходу:
— Незаметно следуй за мной.
— Куда?
— Сам увидишь.
Герцог вышел. Таверне пропустил его шагов на двадцать вперед и пошел следом. Так они подошли к королевским апартаментам.
Герцог вошел в комнату. Таверне остался в приемной.
CXII. ЛАРЕЦ.
Барону де Таверне не пришлось долго ждать. Ришелье спросил у камер-лакея его величества, что король оставил на туалетном столике, и вскоре вернулся, держа в руках какой-то предмет, завернутый в шелк.
Маршал положил конец беспокойству своего друга, увлекая его за собой в галерею.
— Барон! — воскликнул он, убедившись, что их никто не видит. — Мне показалось, что ты иногда сомневался в моей дружбе к тебе.
— С тех пор, как мы помирились, уже нет! — отвечал Таверне.
— Однако же ты сомневался в том, что тебя и твоих детей ждет удача?
— Да, в этом я и впрямь сомневался.
— Ну и напрасно! Твое счастье, а также счастье твоих детей устраивается с такой стремительностью, что у тебя, должно быть, кружится голова!
— Да что ты? — воскликнул Таверне, начиная догадываться, однако еще боясь верить в свою удачу. — Каким же это образом так скоро устраивается счастье моих детей?
— Да ведь Филипп — капитан, а его рота — на содержании у короля.
— Верно… И этим я обязан тебе.
— Ни в коей мере. А скоро мы, возможно, увидим, как мадемуазель де Таверне станет маркизой.
— Что ты! — вскричал Таверне. — Моя дочь?..
— Слушай, Таверне! У короля — хороший вкус. Когда красивая, изящная, добродетельная девица наделена еще и талантами, она не может не пленить его величество… А мадемуазель де Таверне обладает всеми этими достоинствами в высшей степени. И король, стало быть, очарован ею.
— Герцог! Что ты подразумеваешь под словом «очарован»? — спросил Таверне, напустив на себя важный вид, способный лишь рассмешить маршала.
Ришелье не любил чванства; он сухо ответил другу:
— Барон! Я не силен в лингвистике, не говоря уж о том, что очень плохо знаю орфографию. «Очарован», по-моему, всегда означало «доволен сверх всякой меры», вот так… Если ты сверх всякой меры огорчен тем, что твой король доволен красотой, талантом, достоинствами твоих детей, то так и скажи… и я передам это его величеству.
Ришелье круто повернулся, да так легко, словно в одно мгновение помолодел.
— Герцог, ты неверно меня понял! — воскликнул барон, хватая его за руку. — Черт побери, до чего же ты скор!
— Зачем же ты говоришь, что недоволен?
— Я этого не говорил.
— Но ведь ты же требуешь от меня объяснить поступок короля… Дьявольщина, до чего надоели дураки!
— Чего ты сердишься, герцог? Ведь я об этом ни единым словом не обмолвился! Разумеется, я доволен.
— Да неужели? Кто же тогда будет недоволен? Может, твоя дочь?
— Хм-хм…
— Дорогой мой! Ты сам дикарь и воспитал дочь такой же дикаркой.
— Дорогой мой! Моя дочь росла совсем одна. Ты понимаешь, что я себя не особенно утомлял ее воспитанием. С меня довольно было и того, что я сидел в этой дыре — Таверне… Добродетель проросла в ней сама собой.
— Я слышал, что люди, живущие в деревне, умеют бороться с сорняками. Одним словом, твоя дочь — дура.
— Ошибаешься, она голубица.
Ришелье поморщился.
— В таком случае, бедняжке остается только найти хорошего мужа, потому что на карьеру не приходится надеяться, имея такой недостаток.
Таверне бросил на герцога беспокойный взгляд.
— К счастью для нее, — продолжал тот, — король так ослеплен графиней Дюбарри, что не сможет заинтересоваться другой женщиной.
Беспокойство Таверне стало переходить в страх.
— Я думаю, что вы с дочерью можете не беспокоиться. Я дам королю необходимые разъяснения, и король не будет настаивать.
— Да на чем, Бог мой? — вскричал Таверне, смертельно побледнев и тряся друга за руку.
— На том, чтобы сделать мадемуазель Андре небольшой подарок, господин барон.
— Небольшой подарок!.. Что же это за подарок? — спросил Таверне; глаза у него горели.
— Да так, сущая безделица, — небрежно бросил Ришелье, — вот она… смотри!
Он развернул шелк и показал ларец.
— Ларец?
— Да, мелочь… Ожерелье в несколько тысяч ливров; его величеству понравилось, как ему спели его любимую песенку, и он хотел поблагодарить певицу. Это в порядке вещей. Но раз твоя дочь так пуглива, то не будем больше об этом говорить.
— Герцог! Что ты! Ведь это значит оскорбить короля!
— Конечно, это было бы оскорблением его величества. Да ведь добродетели свойственно постоянно кого-нибудь или что-нибудь оскорблять!
— Знаешь, герцог, — спохватился Таверне, — моя дочь не может быть до такой степени неразумной.
— Это ты так говоришь, а не она!
— Я отлично знаю, что скажет или сделает моя дочь!
— Можно позавидовать китайцам! — заметил Ришелье.
— Почему?
— Потому что у них в стране много каналов и рек.
— Герцог, зачем ты пытаешься переменить тему разговора? Я в отчаянии! Поговори со мной.
— Я с тобой разговариваю, барон, и не думал ничего менять.
— Зачем же тогда говорить про китайцев? Какое отношение имеют их реки к моей дочери?
— Очень большое… Как я тебе говорил, китайцам можно позавидовать, потому что они могут утопить слишком добродетельных дочерей и никто им слова не скажет.
— Слушай, герцог, надо же быть справедливым, — возразил Таверне. — Ну, представь, что у тебя есть дочь.
— Тысяча чертей!.. Да есть у меня дочь… И если бы кто-нибудь сказал мне, что она чересчур добродетельна… Я бы этого не вынес!
— А ты бы хотел, чтобы было наоборот?
— Я не вмешиваюсь в дела своих детей после того, как им исполнилось восемь лет.
— Ты хотя бы выслушай меня! Что было бы, если бы король поручил мне передать ожерелье твоей дочери, а дочь тебе пожаловалась бы?..
— Друг мой! Не надо сравнивать… Я всю жизнь провел при дворе. Ты же скорее похож на дикаря; между нами не может быть ничего общего. Что для тебя добродетель, то для меня глупость. Нет большей неловкости, к твоему сведению, чем спрашивать у людей: «Что бы вы сделали в таком-то и таком-то случае?» И потом, ты напрасно сравниваешь нас, дорогой мой. Я не собираюсь передавать твоей дочери ожерелье.
— Ты же сам мне сказал…
— Я ни словом об этом не обмолвился. Я сказал, что король приказал мне забрать у него ларец для мадемуазель де Таверне, голос которой ему очень понравился. Но я не говорил, что его величество поручил мне передать его девушке.
— Тогда уж я не знаю, что и думать! — в отчаянии воскликнул барон. — Я ни слова не понимаю, ты говоришь загадками. Зачем было давать тебе это ожерелье, если ты не должен его вручить? Зачем было поручать его тебе, если не для того, чтобы передать кому следует?
Ришелье возопил, словно увидя паука.
— Тьфу, черт! Дикарь! Деревенская скотина!
— О ком это ты?
— Да о тебе, мой добрый друг, о тебе, мой верный товарищ… Ты будто с луны свалился, бедный барон.
— Ничего не понимаю…
— Да, ты ничего не понимаешь. Дорогой мой! Если король хочет сделать подарок женщине и поручает это сделать герцогу де Ришелье, значит, подарок окажется достойным, а поручение будет в точности исполнено, запомни это хорошенько… Я не передаю драгоценности, дорогой мой; это обязанность господина Лебеля. Ты знаешь господина Лебеля?
— Кому же ты собираешься поручить это дело?
— Друг мой! — отвечал Ришелье, хлопнув Таверне по плечу и сопровождая свой жест демонической улыбкой. — Когда я имею дело с таким ангелом чистоты, как мадемуазель де Таверне, я и сам чувствую себя добродетельным; когда я приближаюсь к голубице, как ты ее называешь, ничто во мне не напоминает ворона; когда меня посылают с поручением к благородной девице, я начинаю с разговора с ее отцом… Вот я и говорю с тобой, Таверне, и передаю ларец тебе, с тем чтобы ты сам отдал его дочери… Что ты на это скажешь?
Он протянул ларец.
— Может быть, ты не захочешь его взять?
Он отдернул руку.
— Скажи только, что его величество сам поручил мне передать дочери этот подарок, — вскричал Таверне, — и он будет выглядеть совсем иначе, это будет отеческий знак внимания, он словно очистится от скверны!..
— Ты что же, подозреваешь его величество в недобрых намерениях? — строго спросил Ришелье. — Как ты посмел это подумать?
— Боже меня сохрани! Однако люди… то есть моя дочь…
Ришелье пожал плечами.
— Так ты берешь или нет? — спросил он.
Таверне торопливо протянул руку.
— Так ты считаешь себя порядочным человеком? — спросил он Ришелье, ответив ему той же улыбкой, которую послал барону герцог.
— Не кажется ли тебе, барон, — отвечал маршал, — что с моей стороны было бы благородно сделать посредником отца? Ведь отец словно очищает этот поступок от скверны, как ты говоришь, — так вот, я выбираю тебя посредником между очарованным монархом и твоей прелестной дочерью… Если бы нас взялся рассудить сам Жан Жак Руссо, который недавно тут рыскал, он сказал бы тебе, что я чище самого Иосифа.
Ришелье произнес эти слова сдержанно, с чувством собственного достоинства. Таверне удержался от замечаний и заставил себя поверить в то, что Ришелье его убедил.
Он схватил своего великого друга за руку и с чувством пожал ее.
— Благодаря твоей деликатности моя дочь сможет принять этот подарок.
— Твоя дочь — источник и первопричина тех милостей, о которых я говорил тебе с самого начала.
— Спасибо, дорогой герцог, от всего сердца тебя благодарю!
— Еще одно слово… Постарайся скрыть от друзей графини Дюбарри новость об этой милости. Графиня Дюбарри способна бросить короля и сбежать.
— Разве король рассердился бы за это на нас?
— Не знаю. А вот графиня не была бы нам благодарна. Я бы погиб… Вот почему я прошу тебя никому об этом не говорить.
— Не беспокойся. Передай королю благодарность от меня.
— И от твоей дочери, разумеется… Но ты нынче в милости, ты и сам можешь поблагодарить короля, дорогой мой. Его величество приглашает тебя сегодня на ужин.
— Меня?
— Тебя, Таверне. Мы поужинаем в узком кругу: его величество, ты и я. Поговорим о добродетелях твоей дочери. Прощай, Таверне! Вон идут Дюбарри с господином д’Эгильоном, они не должны видеть нас вместе.
Тут он с юношеской легкостью исчез в конце галереи, оставив Таверне с ларцом в руках; Таверне напоминал немецкого мальчика, который, проснувшись, обнаружил в руках игрушки, оставленные ночью отцом Ноэлем.
CXIII. УЖИН В УЗКОМ КРУГУ У КОРОЛЯ ЛЮДОВИКА XV.
Маршал нашел его величество в малой гостиной, куда он удалился вместе с несколькими придворными, которые предпочли обойтись без ужина, нежели уступить другим возможность находиться поблизости от повелителя, ловя на себе его рассеянный взгляд.
Впрочем, казалось, что в этот вечер Людовику XV было не до них. Он отпустил всех, объявив, что не будет ужинать, или если и будет, то в полном одиночестве. Получив свободу, придворные, из опасения вызвать неудовольствие монсеньера дофина своим отсутствием на празднике, устроенном им после репетиции, вспорхнули, подобно стае прожорливых голубей, и полетели к тому, кто позволял им себя лицезреть. Они были готовы объявить, что ради дофина покинули гостиную его величества.
Оставленный ими с такой поспешностью, Людовик XV был далек от того, чтобы думать о них. Ничтожество всего этого придворного сброда могло бы при других обстоятельствах вызвать у него усмешку. На этот раз оно не пробудило в монархе никакого чувства, несмотря на то что он был по природе очень насмешлив и не прощал ни физических, ни моральных недостатков даже лучшим своим друзьям, если предположить, что у Людовика XV были когда-нибудь друзья.
Нет, в эту минуту внимание Людовика XV привлекла карета, стоявшая у служб Трианона. Казалось, кучер только и ждал, когда хозяин усядется в золоченый экипаж, чтобы огреть кнутом лошадей.
Карета, принадлежавшая графине Дюбарри, была освещена факелами. Сидевший рядом с кучером Замор болтал ногами, словно на качелях.
Госпожа Дюбарри, поджидавшая, по-видимому, в коридоре посланца от короля, появилась наконец под руку с д’Эгильоном. Судя по ее торопливой походке, она была вне себя от гнева и разочарования. За внешней решительностью она пыталась скрыть растерянность.
Рассеяно сжимая в руках шляпу, Жан шел вслед за сестрой. Он не участвовал в спектакле, так как дофин забыл его пригласить. Однако он вместе с лакеями зашел в переднюю и оттуда в задумчивости, словно Ипполит, наблюдал за происходившим, не обращая внимания на то, что жабо выбилось из-под его серебристого камзола, расшитого розовыми цветами, и не замечая, что манжеты обтрепались; и это прекрасно сочеталось с грустным выражением его лица.
Жан видел, как побледнела от испуга его сестра, из чего он заключил, что опасность велика. Жан был силен только в рукопашной, зато ничего не понимал в дипломатии, потому что не умел воевать с призраками.
Из своего окна, спрятавшись за занавеской, король наблюдал за мрачной процессией. Он видел, как все трое исчезли в карете графини. Когда дверь захлопнулась и лакей поднялся на запятки, кучер взмахнул вожжами и лошади рванули с места в галоп.
— Ого! — воскликнул король. — Она даже не пытается со мной увидеться и поговорить? Графиня разгневана!
И он повторил громче:
— Да, графиня разгневана!
Ришелье, только что проскользнувший в комнату без доклада, так как король его ждал, услышал эти слова.
— Разгневана, сир? — переспросил он. — А чем? Тем, что вашему величеству стало весело? Это дурно со стороны графини.
— Герцог! Мне совсем не весело, — возразил король. — Напротив, я устал и хочу отдохнуть. Музыка меня раздражает, а мне пришлось бы, послушайся я графиню, ехать ужинать в Люсьенн — есть и, главное, пить. А у графини коварные вина; не знаю уж, из какого винограда их делают, но я после них чувствую себя разбитым. Честное слово, я предпочитаю понежиться здесь.
— И вы, ваше величество, тысячу раз правы, — согласился герцог.
— Кстати, и графиня развлечется! Неужели я такой приятный собеседник? Хоть она так и говорит, я ей не верю.
— А вот сейчас вы, ваше величество, не правы, — возразил маршал.
— Нет, герцог, нет, это в самом деле так: мне остались считанные дни, и я думаю, что говорю.
— Сир, графиня понимает, что ей в любом случае не удастся найти лучшее общество, — вот что приводит ее в бешенство.
— Признаться, герцог, я не знаю, как вам удается так устроиться, что вокруг вас всегда женщины, будто вам двадцать лет. Ведь именно в этом возрасте выбирает мужчина. А в мои годы, герцог…
— Что, сир?
— В мои годы можно рассчитывать не на любовь, а на женскую расчетливость.
Маршал рассмеялся:
— В таком случае, сир, это только лишний довод, и если ваше величество полагает, что графиня развлекается, у нас нет повода для беспокойства.
— Я не говорю, что она развлекается, герцог. Я говорю, что она в конце концов начнет искать развлечений.
— Не смею сказать вашему величеству, что такого еще никто никогда не видывал.
Король поднялся в сильном волнении.
— Кто здесь еще находится? — спросил он.
— Все, кто состоит у вас на службе, сир.
Король на мгновение задумался.
— А из ваших-то есть кто-нибудь?
— Со мной Рафте.
— Прекрасно!
— Что ему надлежит сделать, сир?
— Герцог! Пусть он узнает, действительно ли графиня Дюбарри поехала в Люсьенн.
— Да ведь графиня уехала, если не ошибаюсь.
— Так это, во всяком случае, выглядело.
— Куда же она могла отправиться, как вы полагаете, ваше величество?
— Кто знает? Она может потерять голову от ревности, герцог!
— Сир! Скорее уж вам следовало бы…
— Что?
— Ревновать…
— Герцог!
— Да, вы правы: это было бы унизительно для всех нас, сир.
— Чтобы я ревновал! — воскликнул Людовик XV, натянуто улыбнувшись. — Неужели вы говорите серьезно, герцог?
Ришелье и в самом деле не верил в то, что говорил. Надобно признать, он был весьма недалек от истины, когда думал, напротив, что король желал знать, поехала ли графиня Дюбарри в Люсьенн только для того, чтобы быть совершенно уверенным: она не вернется в Трианон.
— Итак, сир, решено, — произнес он вслух, — я посылаю Рафте на поиски?
— Да, пошлите, герцог.
— А чем угодно заняться вашему величеству перед ужином?
— Ничем. Мы будем ужинать сейчас же. Вы предупредили известное лицо?
— Да, оно в приемной у вашего величества.
— Что это лицо ответило?
— Просил благодарить.
— А дочь?
— С ней еще не говорили.
— Герцог! Графиня Дюбарри ревнива и может возвратиться.
— Ах, сир, это было бы дурным тоном! Я полагаю, что графиня не способна на такую дерзость.
— Герцог! В такую минуту она способна на все, в особенности когда злоба подогревается ревностью. Она вас ненавидит, не знаю, известно ли вам это.
Ришелье поклонился.
— Я знаю, что она удостаивает меня этой чести, сир.
— Она ненавидит также господина де Таверне.
— Если вашему величеству угодно было бы перечислить всех, я уверен, что найдется третье лицо, которое она ненавидит еще сильнее, чем меня и барона.
— Кого же?
— Мадемуазель Андре.
— Ну, по-моему, это вполне естественно, — заметил король.
— В таком случае…
— Однако не мешало бы, герцог, проследить за тем, чтобы графиня Дюбарри не наделала шуму нынешней ночью.
— Да, это нелишне.
— А вот и дворецкий! Тише! Отдайте приказания Рафте и идите вслед за мной в столовую вместе с известным вам лицом.
Людовик XV поднялся и пошел в столовую, а Ришелье вышел в другую дверь.
Пять минут спустя он с бароном догнал короля.
Король ласково поздоровался с Таверне.
Барон был умным человеком: он ответил так, как умеют это делать иные господа, которых короли и принцы признают себе ровней и с которыми, в то же время, они могут не церемониться.
Все трое сели за стол и принялись за ужин.
Людовик XV был плохой король, но приятный собеседник. Его общество, когда он этого хотел, было притягательно для любителей выпить, а также для говорунов и сластолюбцев.
И потом, король посвятил много времени изучению приятных сторон жизни.
Он ел с аппетитом и следил за тем, чтобы бокалы сотрапезников не пустовали. Он завел речь о музыке.
Ришелье подхватил мяч на лету.
— Сир! — проговорил он. — Если музыка способна привести к согласию мужчин, как говорит учитель танцев и как полагает, кажется, ваше величество, то можно ли это же сказать и о женщинах?
— Герцог! Не будем говорить о женщинах, — сказал король. — Со времен Троянской войны и до наших дней на женщин музыка производит обратное действие. У вас-то с ними особые счеты, и я не думаю, чтобы вам был приятен этот разговор; среди них есть одна дама, не самая безобидная, с которой вы на ножах.
— Вы имеете в виду графиню, сир? Разве в том моя вина?
— Разумеется.
— Вот как? Надеюсь, ваше величество мне объяснит…
— Сейчас же и с большим удовольствием, — с насмешкой сказал король.
— Я вас слушаю, сир.
— Ну как же! Она предлагает вам портфель не знаю уж какого ведомства, а вы отказываетесь, потому что, как вы говорите, она не пользуется большой популярностью!
— Я это сказал? — переспросил Ришелье, смутившись оттого, что беседа принимает такой оборот.
— Ходят слухи, черт побери! — отвечал король, напустив на себя, по обыкновению, добродушный вид. — Я уж не помню, от кого я это узнал… Из газеты, должно быть.
— Ну что ж, сир, — молвил Ришелье, воспользовавшись свободой, которую предоставил своим гостям августейший хозяин, — должен признать, что на этот раз и слухи, и даже газеты не так уж далеки от истины.
— Как! — вскричал Людовик XV. — Вы в самом деле отказались от министерства, дорогой герцог?
Нетрудно догадаться, что Ришелье оказался в довольно щекотливом положении. Король лучше, чем кто бы то ни было, знал, что герцог ни от чего не отказывался. Однако Таверне должен был по-прежнему верить в то, что Ришелье сказал ему правду. Герцогу следовало найти такой ответ, чтобы разом не попасться на розыгрыш короля и не заслужить упрек во лжи, готовый сорваться с губ барона и уже мелькавший в его улыбке.
— Сир! — заговорил Ришелье. — Не будем, умоляю вас, обращать внимания на следствие и остановимся на причине. Отказался я или не отказался от портфеля — это государственная тайна, и вашему величеству не следует ее разглашать за бокалом вина. Главное — это причина, по которой я мог бы отказаться от портфеля.
— Герцог! Кажется, эта причина не является государственной тайной? — со смехом воскликнул король.
— Нет, сир, в особенности для вашего величества. Ведь вы для меня и моего друга барона де Таверне являетесь сейчас — да простит мне Бог — самым радушным из смертных амфитрионов. Итак, у меня нет секретов от моего короля. Я изливаю перед ним свою душу, так как не хочу, чтобы кто-нибудь имел основание утверждать, будто у короля Франции не было слуги, способного сказать ему всю правду.
— Что же это за правда? — спросил король, в то время как Таверне, обеспокоенный тем, что Ришелье может сказать лишнее, кусал губы и старательно принимал такое же выражение лица, как у короля.
— Сир! В вашем государстве есть две силы, которым должен был бы подчиняться министр: одна сила — это ваша воля; другая — воля ваших самых близких друзей, которых выбирает себе ваше величество. Первая сила непреодолима, никто не может и помыслить о том, чтобы оказать ей неповиновение. Вторая еще более священна, потому что покорность ей — долг сердца всех, кто вам служит. Она называет себя вашей душой; чтобы повиноваться этой силе, министр должен любить фаворита или фаворитку своего короля.
Людовик XV рассмеялся.
— Герцог! Вот превосходная максима! Однако, надеюсь, вы не станете провозглашать ее на Новом мосту под звуки труб.
— О, я отлично понимаю, сир, — отвечал Ришелье, — что после этого философы возьмутся за оружие. Правда, я не думаю, что вашему величеству или мне это чем-нибудь грозило бы. Главная задача состоит в том, чтобы обе преобладающие воли королевства были удовлетворены. Так вот, сир, я не побоюсь сказать вашему величеству, хотя бы после этого я впал в немилость, что равносильно для меня смерти: я не мог бы исполнять волю графини Дюбарри.
Людовик XV примолк.
— Вот какая мысль пришла мне в голову, — продолжал Ришелье, — я недавно окинул взглядом придворных вашего величества и, честно говоря, увидел столько красивых и благородных девиц, столько знатных дам, что, будь я королем Франции, я бы не смог сделать выбора.
Людовик XV повернулся к Таверне. Тот, чувствуя, что дело косвенным образом касалось и его, трепетал от страха и надежды; он впился глазами в герцога и всем своим существом готов был помочь его красноречию, словно подталкивая к берегу корабль, на котором находилось все его состояние.
— Вы придерживаетесь того же мнения, барон? — спросил король.
— Сир! Мне кажется, что вот уже несколько минут герцог говорит превосходно! — отвечал Таверне в сильном волнении.
— Так вы согласны с тем, что он говорит о благородных красавицах?
— Сир! Мне кажется, что при французском дворе и в самом деле есть очень хорошенькие!
— Вы того же мнения, барон?
— Да, сир.
— И вы готовы призвать меня, как и он, к тому, чтобы сделать свой выбор среди придворных красавиц?
— Признаться, я совершенно согласен с маршалом; смею также предположить, что и ваше величество придерживается того же мнения.
Наступило молчание; король благосклонно разглядывал Таверне.
— Господа! — проговорил он наконец. — Я, вне всякого сомнения, последовал бы вашему совету, будь мне тридцать лет. И меня нетрудно было бы понять. Однако я считаю, что сейчас я слишком стар для того, чтобы быть чересчур доверчивым.
— Доверчивым? Объясните, пожалуйста, что вы хотите этим сказать, сир!
— Быть доверчивым, дорогой герцог, означает «верить». Так вот, ничто не заставит меня поверить в некоторые вещи.
— В какие?
— Ну, например, что меня в моем возрасте можно полюбить.
— Ах, сир! — воскликнул Ришелье. — Я до сегодняшнего дня думал, что ваше величество — самый красивый дворянин королевства. А вот теперь я с глубоким прискорбием вынужден признать, что ошибался!
— В чем же дело? — со смехом спросил король.
— Да в том, что я стар, как Мафусаил, — ведь я родился в девяносто четвертом году. Вспомните, сир: ведь я на шестнадцать лет старше вашего величества.
Это была ловкая лесть со стороны герцога. Людовик XV неустанно восхищался этим стариком, который убил свои лучшие годы у него на службе. Имея его перед глазами, он мог надеяться, что доживет до таких же лет.
— Пусть так, — согласился Людовик XV, — однако я полагаю, вы уже не надеетесь, что будете любимы ради вас самих, герцог.
— Если бы я так думал, сир, я сейчас же поссорился бы с двумя дамами, которые пытались уверить меня в противном не далее, как нынче утром.
— Ну что же, герцог, — проговорил в ответ Людовик XV, — увидим… Увидим, господин де Таверне! Юность омолаживает, это верно…
— Да, сир, а благородная кровь оказывает особенно благотворное влияние, не говоря уж о том, что при перемене такой незаурядный ум, как у вашего величества, может только выиграть.
— Однако я вспоминаю, что мой прадед, когда постарел, почти перестал ухаживать за женщинами.
— Да что вы, сир, — возразил Ришелье. — При всем моем уважении к покойному королю, который, как известно вашему величеству, дважды отправлял меня в Бастилию, я, тем не менее, скажу, что между зрелым Людовиком Четырнадцатым и зрелым Людовиком Пятнадцатым не может быть никакого сравнения. Неужели вы, ваше христианнейшее величество, так свято чтите свой титул старшего сына Церкви, что приносите свою человеческую природу в жертву аскетизму?
— Нет, клянусь вам! — отвечал Людовик XV. — Я могу в этом признаться, пока здесь нет ни моего доктора, ни исповедника.
— Знаете, сир, ваш предшественник зачастую удивлял своими приступами религиозного рвения и бесчисленными попытками умерщвления плоти даже госпожу де Ментенон, а ведь она была старше его. Так вот, я еще раз спрашиваю, сир: можно ли сравнивать одного человека с другим, когда речь заходит о двух монархах?
Король в этот вечер был в хорошем настроении, а слова Ришелье были для него словно каплями живительной влаги из источника жизни.
Ришелье решил, что подходящий момент настал, и толкнул ногой колено Таверне.
— Сир! — сказал тот. — Примите, пожалуйста, мою признательность за великолепный подарок, преподнесенный моей дочери.
— Не нужно меня за это благодарить, барон, — возразил король. — Мадемуазель де Таверне нравится мне, она порядочная и воспитанная девица. Я бы желал, чтобы у моих дочерей были, наконец, собственные дворы. Разумеется, мадемуазель Андре… так, кажется, ее зовут?
— Да, сир, — подтвердил Таверне, польщенный тем, что король помнит имя его дочери.
— Прелестное имя! Разумеется, мадемуазель Андре была бы первой в списке удостоенных… А пока, барон, прошу вас иметь в виду, что ваша дочь будет находиться под моим покровительством. У нее небогатое приданое, я полагаю?
— Увы, сир!
— Вот я и займусь ее замужеством.
Таверне низко поклонился.
— Как это будет любезно с вашей стороны, ваше величество, если вы найдете ей супруга! Должен признаться, что при нашей бедности, то есть почти нищете…
— Да, да, на этот счет будьте покойны, — отвечал Людовик XV. — Впрочем, она еще очень молода; как мне кажется, ей спешить некуда.
— Тем более, ваше величество, что ваша подопечная страшится замужества.
— Смотрите! — воскликнул король, потирая руки и глядя на Ришелье. — Ну что же, в любом случае можете положиться на меня, господин Таверне, если у вас будут какие-либо затруднения.
С этими словами Людовик XV поднялся и, обращаясь к герцогу, позвал:
— Маршал!
Герцог приблизился к королю.
— Крошка была довольна?
— Чем, сир?
— Ларцом.
— Простите, ваше величество, что я принужден говорить тихо, но отец нас слушает, а ему не следует знать, что я вам собираюсь сказать.
— Да ну?
— Можете мне поверить.
— Говорите же!
— Сир! Крошка страшится замужества, это правда, однако в одном я совершенно уверен: она не боится вашего величества.
Он проговорил это фамильярным тоном; королю понравилась его откровенность. А маршал засеменил вслед за Таверне, который из почтительности удалился в галерею.
Друзья вышли в сад.
Был прекрасный вечер. Перед ними шагали два лакея, каждый в одной руке нес факел, а другой придерживал цветущие ветви деревьев. Окна Трианона еще светились праздничными огнями: во дворце веселились пятьдесят человек, приглашенные дофиной.
Музыканты его величества исполняли менуэт. После ужина начались и все еще продолжались танцы.
Спрятавшись в густых зарослях бульденежа и сирени, Жильбер, стоя на коленях, следил за игрой теней на прозрачных занавесках.
Даже если бы небо рухнуло на землю, молодой человек не заметил бы этого: он с упоением следил за фигурами танца.
Однако, когда Ришелье и Таверне прошли мимо кустов, в которых пряталась эта ночная птаха, звук их голосов и некоторые слова заставили Жильбера поднять голову и прислушаться.
Дело в том, что именно эти слова были для него очень важны и многозначительны.
Опершись на руку друга и склонившись к его уху, маршал говорил:
— Хорошенько все обдумав и взвесив, барон, я должен признаться, что, по моему мнению, необходимо немедленно отправить твою дочь в монастырь.
— Почему? — спросил барон.
— Ручаюсь головой, что король без ума от мадемуазель де Таверне, — отвечал маршал.
Услыхав эти слова, Жильбер стал белее цветов бульденежа, опускавшихся ему на лицо и плечи.
CXIV. ПРЕДЧУВСТВИЯ.
На следующий день часы в Трианоне пробили двенадцать, когда Николь прокричала не выходившей еще из комнаты Андре:
— Мадемуазель! Мадемуазель! Господин Филипп!
Крик раздавался внизу на лестнице.
Удивленная, но в то же время обрадованная, Андре запахнула на груди муслиновый пеньюар и бросилась навстречу молодому человеку, спешивавшемуся на дворе Трианона. Он как раз справлялся у слуг, в котором часу он мог бы повидаться с сестрой.
Андре распахнула входную дверь и оказалась лицом к лицу с Филиппом; услужливая Николь уже сходила за ним во двор и теперь вела его за собой по ступенькам.
Девушка бросилась брату на шею, и оба они направились в комнату Андре вместе с Николь.
Только тогда Андре заметила, что Филипп выглядел мрачнее, чем обыкновенно, что даже в его улыбке проглядывала грусть; еще она обратила внимание на то, как безупречно на нем сидел элегантный мундир; под мышкой он зажимал походный плащ.
— Что случилось, Филипп? — спросила она тотчас же, повинуясь инстинкту, свойственному чувствительным натурам, для которых довольно одного взгляда, чтобы заметить неладное.
— Дорогая сестра! — отвечал Филипп. — Нынче утром я получил приказ догонять свой полк.
— Так ты уезжаешь?
— Уезжаю.
Андре вскрикнула, и после этого болезненного вскрика ее словно оставили силы и мужество.
И хотя в отъезде Филиппа не было ничего необычного и Андре следовало быть к нему готовой, новость эта настолько ее сразила, что она была вынуждена опереться на руку брата.
— Боже мой, неужели тебя так огорчает мой отъезд? — с удивлением заметил Филипп. — Ты ведь знаешь, Андре, что в жизни солдата это случается довольно часто.
— Да, да! Разумеется! — прошептала девушка. — А куда ты едешь, брат?
— Мой гарнизон сейчас в Реймсе. Меня ждет не такой уж долгий путь, как видишь. Правда, оттуда полк, по всей вероятности, будет переведен в Страсбур.
— Как жаль! — воскликнула Андре. — Когда же ты отправляешься?
— Приказом мне предписывается отправляться в путь немедленно.
— Так ты пришел попрощаться?..
— Да, сестра.
— Попрощаться!..
— Ты мне хотела сообщить что-нибудь особенное, Андре? — спросил Филипп, обеспокоенный грустью сестры — грустью, несоразмерной со слишком незначительной причиной — его отъездом.
Андре поняла, что его последние слова относились к Николь, следившей за происходящим с нескрываемым удивлением, вызванным душевным состоянием Андре.
Действительно, отъезд Филиппа, офицера, отправлявшегося в свой гарнизон, никак не мог быть катастрофой, вызвавшей столько слез.
Андре поняла и чувства Филиппа, и удивление Николь. Она накинула на плечи мантилью и направилась к двери.
— Иди к решетке парка, Филипп, — сказала она. — Я тебя провожу крытой аллеей. Мне в самом деле необходимо кое-что тебе сообщить, брат.
Эти слова послужили приказом для Николь. Она скользнула вдоль стены и вернулась в комнату хозяйки, пока та спускалась по лестнице вместе с Филиппом.
Андре спускалась по той самой лестнице, которая еще и сегодня идет вдоль часовни и через переход выводит в сад. Несмотря на вопросительные и тревожные взгляды Филиппа, Андре долгое время молчала, повиснув на руке брата и склонив голову к нему на плечо.
Потом сердце ее не выдержало, она смертельно побледнела, ком подступил у нее к горлу и слезы хлынули из глаз.
— Сестричка, дорогая моя, милая Андре! — вскричал Филипп. — Во имя Неба заклинаю тебя объяснить, что с тобой?
— Друг мой! Мой единственный друг! — пролепетала Андре. — Ты оставляешь меня одну в мире, куда я попала совсем недавно, где я чужая, и ты еще спрашиваешь, почему я плачу! Посуди сам, Филипп: моя мать умерла в тот день, как я появилась на свет; страшно в этом признаться, но отца у меня словно и не было. Все свои огорчения, все свои маленькие тайны я поверяла тебе одному. Кто мне улыбался? Кто меня ласкал? Кто меня баюкал, когда я была совсем маленькая? Ты! Кто заставил меня поверить в то, что Божьи твари были созданы в этом мире не только для страданий? Ты, Филипп, тоже ты. И я никогда и никого не любила с тех пор, как появилась на свет, кроме тебя, и меня никто не любил, кроме тебя. Ах, Филипп, — с грустью продолжала Андре, — ты отворачиваешься, и я знаю, о чем ты сейчас думаешь! Ты говоришь себе, что я молода, красива, что я не права, что я не верю в будущее и в любовь. Увы, ты сам видишь, Филипп, что недостаточно быть красивой и молодой — ведь я никому не нужна.
Ты скажешь, что ее высочество дофина ко мне добра. Разумеется, она совершенство, так мне, по крайней мере, кажется: я смотрю на нее как на божество. Но, может быть, именно оттого, что я к ней так отношусь, я испытываю к ней уважение, но не любовь. А любовь, Филипп, так мне нужна! Ведь я привыкла загонять внутрь любое чувство, и теперь мое сердце готово разорваться. Мой отец… О, Господи, отец!.. Я не сообщу тебе ничего нового, Филипп: отец не только не является ни моим защитником, ни другом — напротив, когда он смотрит на меня, он внушает мне страх. Да, да, я боюсь его, Филипп, особенно с той минуты, как узнала, что ты уезжаешь. Чего я боюсь? Сама не знаю. Боже мой! Да разве не так же птицы и звери предчувствуют надвигающуюся бурю?
Ты скажешь, что это инстинкт; но почему ты не считаешь, что наша бессмертная душа инстинктивно не предчувствует несчастье? С некоторых пор наша семья преуспевает. Мне это хорошо известно. Ты уже капитан; что касается меня, то я почти что близкий друг дофины. Отец вчера ужинал чуть ли не один на один с королем. Так он, по крайней мере, говорит. Ты, должно быть, сочтешь меня сумасшедшей, но я все равно скажу тебе, Филипп: все это пугает меня больше, чем наша нищета и наша безвестность в те времена, когда мы жили в Таверне.
— Но там, дорогая сестричка, ты тоже была одна, — с грустью возразил Филипп, — там даже не было меня, чтобы тебя утешить.
— Да, но там я была наедине со своими детскими воспоминаниями. Мне казалось, что стены, в которых я родилась и выросла, в которых умерла моя мать, должны меня защитить, если можно так выразиться. Все мне там было мило. Я была спокойна, когда ты уезжал, и радовалась, когда ты возвращался. Независимо от твоих отъездов и возвращений, мое сердце принадлежало не только тебе, но и нашему дорогому дому, саду, цветам, тому целому, чьей частью ты был когда-то. А сегодня ты для меня все, Филипп. Раз ты меня покидаешь, это значит, что я оставлена всеми.
— Но ведь сегодня, Андре, у тебя гораздо более могущественные защитники, чем я, — возразил Филипп.
— Это верно.
— И впереди у тебя блестящее будущее.
— Как знать!..
— Что же тебя пугает?
— Не знаю.
— Это неблагодарность по отношению к Богу, сестричка.
— Да нет, я за все горячо благодарю Небо, молясь утром и вечером. Но мне кажется, что каждый раз как я опускаюсь на колени, Бог, вместо того чтобы принять мои молитвы, словно предупреждает меня: «Берегись, берегись!».
— Да чего же ты должна беречься? Ответь! Я вместе с тобой готов предположить, что тебе угрожает несчастье. Ты что-нибудь предчувствуешь? Знаешь ли ты, что нужно делать, чтобы его преодолеть или избежать?
— Я ничего не знаю, Филипп. Но, видишь ли, мне кажется, будто моя жизнь висит на волоске и что меня ничего хорошего не ждет с той минуты, как ты уедешь. Словом, у меня такое ощущение, будто меня во сне внесли на высокую гору, где, проснувшись, я должна удержаться. И вот я проснулась, вижу пропасть, но я уже лечу в нее, а тебя нет, и удержать меня некому. И я вот-вот исчезну в этой пропасти и разобьюсь насмерть.
— Дорогая сестричка, моя милая Андре! — заговорил Филипп, невольно приходя в волнение при виде ужаса, написанного на лице Андре. — Ты преувеличиваешь свое нежное чувство ко мне, я очень тебе благодарен. Да, ты теряешь друга, но ведь ненадолго: я буду недалеко, и ты можешь меня вызвать, как только я тебе понадоблюсь. Все это только химеры, тебе ничто не угрожает.
Андре остановилась перед братом.
— В таком случае, Филипп, объясни мне, почему ты, мужчина, сильнее меня духом, сейчас такой же грустный, как и я? Как ты это объяснишь, брат?
— Объяснить нетрудно, дорогая сестра, — отвечал Филипп, останавливая Андре, которая пошла было снова, как только перестала говорить. — Мы с тобой брат и сестра не только по духу и крови, мы одинаково чувствуем. Кроме того, мы жили в согласии, что стало мне особенно дорого со времени нашего переезда в Париж. Сейчас я вынужден порвать эту связь с тобой, и этот удар отзывается в моем сердце. Вот отчего я тоскую, но это пройдет. Я, Андре, заглядываю в будущее и не верю в несчастье, если не считать несчастьем нашу разлуку на несколько месяцев, может быть, на год. Но я смирился и говорю не «прощай», а «до свидания».
Несмотря на его утешения, Андре зарыдала.
— Дорогая сестра! — воскликнул Филипп в отчаянии оттого, что не понимает причины ее слез. — Ты не все мне сказала, ты что-то от меня скрываешь. Прошу тебя во имя Неба: скажи мне правду!
Он обнял его за плечи, привлек к себе и заглянул в глаза.
— Что ты, Филипп! Нет, нет, клянусь тебе: ты знаешь все, мое сердце у тебя как на ладони.
— Тогда умоляю тебя, Андре: возьми себя в руки и не огорчай меня.
— Ты прав, — сказала она, — я просто сошла с ума. Послушай: я никогда не была сильна духом, ты знаешь это лучше, чем кто бы то ни было, Филипп. Я постоянно чего-то пугаюсь, что-то себе придумываю, чем-то недовольна. Но я не должна впутывать в свои бредни горячо любимого брата, если он меня уверяет в обратном и пытается доказать, что мои тревоги напрасны. Ты прав, Филипп: верно, все верно, мне здесь очень хорошо. Прости меня, Филипп. Видишь, я вытираю слезы, я больше не плачу, я улыбаюсь, Филипп. Нет, я не стану говорить «прощай», я тоже скажу тебе «до свидания».
Девушка нежно поцеловала брата, пряча от него последнюю слезу, затуманившую ее взор и скатившуюся, словно жемчужинка, на золотой аксельбант молодого офицера.
Филипп взглянул на сестру с нескрываемой братской нежностью и в то же время с отеческой заботой.
— Андре! — молвил он. — Я так тебя люблю! Ничего не бойся. Я уезжаю, но каждую неделю буду посылать тебе с курьером письма. И я прошу, чтобы ты каждую неделю отвечала мне.
— Хорошо, Филипп. Для меня это будет единственной радостью. А ты предупредил отца?
— О чем?
— Об отъезде.
— Дорогая сестра! Да ведь барон сам принес мне нынче утром приказ министра. Господин де Таверне не ты, Андре. Он без труда обойдется без меня; мне показалось, что он рад моему отъезду, и он прав: здесь я не продвинусь по службе, а там, напротив, для этого может представиться случай.
— Отец счастлив, оттого что ты уезжаешь? — прошептала Андре. — Ты не ошибся, Филипп?
— У него есть ты, — проговорил Филипп, избегая ответа на вопрос. — Для него это большое утешение, сестричка.
— Ты вправду так думаешь, Филипп? Он меня совсем не видит.
— Сестричка! Он поручил мне как раз сегодня передать тебе, что после моего отъезда он приедет в Трианон. Он тебя любит, поверь мне. Вот только любит он по-своему.
— Что с тобой, Филипп? Что тебя смущает?
— Дорогая Андре! Только что звонили часы. Который теперь час?
— Три четверти первого.
— Так вот, дорогая сестричка, причина моего смущения в том, что я уже час как должен быть в пути, а мы теперь подошли к решетке, где меня ждет мой конь. Итак…
Андре спокойно посмотрела на брата и, взяв его за руку, проговорила, пожалуй, чересчур твердым голосом, чтобы скрыть охватившие его чувства:
— Прощай, брат…
Филипп в последний раз обнял ее.
— До свидания! Помни о своем обещании.
— О каком обещании?
— Не менее одного письма в неделю.
— Можешь не просить.
Андре произнесла эти слова из последних сил: бедняжка не могла больше говорить.
Филипп еще раз взмахнул рукой и удалился.
Андре провожала его глазами, затаив дыхание и удерживая вздох.
Филипп сел на коня, еще раз простился с ней через решетку и ускакал.

Андре неподвижно стояла до тех пор, пока он не скрылся из виду.
Потом она повернулась и бросилась бежать, словно раненая лань. Едва добежав до скамейки, она рухнула на нее как подкошенная.
Из груди ее вырвался душераздирающий крик.
— Боже мой! Боже! — рыдая, говорила она. — Зачем ты оставил меня одну на земле?
Она спрятала лицо в ладонях, роняя сквозь пальцы крупные слезы, которые она не пыталась больше сдерживать.
Вдруг у нее за спиной, в кустарнике, послышался легкий шум. Андре показалось, что это чей-то вздох. Она в испуге обернулась: прямо перед собой она увидела чье-то грустное лицо.
Это был Жильбер.
CXV. РОМАН ЖИЛЬБЕРА.
Как мы уже сказали, это был Жильбер, такой же бледный, печальный и подавленный, как и Андре.
При виде постороннего человека гордая Андре поспешно вытерла глаза, словно стесняясь своих слез. Она собралась с силами и сдержала рыдания.
Жильберу понадобилось больше времени для того, чтобы успокоиться, и его лицо еще сохраняло страдальческое выражение, когда мадемуазель де Таверне подняла глаза. Она узнала его и успела заметить в его глазах грусть.
— A-а, это опять вы, господин Жильбер! — встретила она его небрежным тоном, каким обыкновенно говорила всякий раз, как случай сводил ее с этим молодым человеком.
Жильбер ничего не ответил: он был очень взволнован.
Страдание, заставлявшее Андре содрогаться всем телом, передалось Жильберу.
— Что с вами, господин Жильбер? — продолжала Андре. — Почему вы смотрите на меня так жалостливо? Должно быть, вас что-то огорчает? Что же, скажите на милость?
— Вы желаете узнать? — печально спросил Жильбер, улавливая скрытую насмешку, несмотря на участливый тон ее слов.
— Да.
— Что ж, извольте: меня огорчает то, что вы страдаете, мадемуазель, — отвечал Жильбер.
— А кто вам сказал, что я страдаю?
— Я это вижу.
— Я не страдаю, вы ошибаетесь, — возразила Андре, еще раз вытерев лицо платком.
Жильбер почувствовал, как в его сердце закипает ярость, но он решил подавить ее.
— Прошу прощения, мадемуазель, — молвил он, — однако я слышал, как вы жаловались.
— Так вы подслушивали? Прекрасно!..
— Мадемуазель! Это случайность… — пролепетал Жильбер, чувствуя, что вынужден солгать.
— Случайность? Я в отчаянии, господин Жильбер, что случай привел вас ко мне. Но с какой стати рыдания, которые вы слышали, вас огорчили? Отвечайте!
— Я не могу видеть, как плачет женщина, — ответил Жильбер тоном, который не понравился Андре.
— Уж не вздумалось ли господину Жильберу увидеть во мне женщину? — пожала плечами девушка. — Я никого не прошу проявлять ко мне внимание, тем более — господина Жильбера!
— Мадемуазель! — заговорил Жильбер, укоризненно качая головой. — Вы напрасно так резки со мной. Я увидел, что вы грустны, и опечалился. Я услышал, как после отъезда господина Филиппа вы сказали, что отныне вы одна в целом свете. Нет же, нет, мадемуазель, потому что есть я! Нет ни одного человека, который был бы вам предан больше, чем я! Повторяю: никогда мадемуазель де Таверне не будет одинока, пока мой мозг способен мыслить, пока бьется мое сердце, пока я могу протянуть руку помощи.
Жильбер был очень хорош в эту минуту; он был благороден и беззаветно предан, хотя и произнес эти слова со всей безыскусностью, какой требовала от него почтительность.
Но, как мы говорили, все в молодом человеке раздражало Андре, оскорбляло ее чувства и заставляло ее говорить грубости, словно каждое его почтительное слово было для нее оскорблением, все его мольбы — вызовом. Она хотела было встать, чтобы резким движением подчеркнуть свое презрение, однако вновь охватившая ее дрожь помешала ей подняться со скамейки. Кроме того, она подумала, что если она встанет, то кто-нибудь может увидеть ее с Жильбером. И она продолжала сидеть; она решила раз навсегда отделаться от этого надоедливого насекомого.
— Мне кажется, я уже говорила вам о том, что вы мне не нравитесь, господин Жильбер; ваш голос меня раздражает, мне противны ваши философские разглагольствования. Зачем же вы упрямо пытаетесь со мной заговаривать?
— Мадемуазель! — вскрикнул Жильбер, побледнев, но сдержавшись. — Разве можно вызвать раздражение у благовоспитанной женщины, выразив ей свое расположение? Честный человек достоин любого другого человека, а вы обходитесь со мной так жестоко! Ведь я, может быть, заслуживаю вашего расположения более, чем кто-либо иной, и горячо сожалею о том, что вы не замечаете меня.
При слове «расположение», повторенном дважды, Андре широко раскрыла глаза и вызывающе посмотрела на Жильбера.
— Расположение? — воскликнула она. — Ваше ко мне расположение, господин Жильбер? Оказывается, я ошибалась. Я вас считала наглецом, а вы еще того хуже, вы безумец.
— Я не наглец, не безумец, — возразил Жильбер со сдерживаемым спокойствием, дорого стоившим этому гордецу, что хорошо известно читателю. — Нет, мадемуазель, природа создала меня равным вам, а случай сделал вас моей должницей.
— Опять случай? — с насмешкой спросила Андре.
— Мне следовало бы сказать: Провидение. Я никогда бы не заговорил об этом с вами, но ваши оскорбления заставляют меня об этом вспомнить.
— Я ваша должница? Вы сказали — ваша должница? Я правильно вас поняла, господин Жильбер?
— Мне было бы стыдно, если бы вы сказались неблагодарны, мадемуазель. Бог наградил вас красотой и дал вам в придачу много недостатков, но только не этот!
Тут Андре встала.
— Прошу прощения, — возразил Жильбер, — но иногда ваши недостатки так сильно меня раздражают, что я даже забываю о той симпатии, какую я к вам питаю.
Андре громко расхохоталась. Жильбера это привело в бешенство. Но, к своему удивлению, он не взорвался.
Он скрестил на груди руки и с враждебностью и упрямством в горящих глазах стал терпеливо ждать, когда прекратится ее наигранный смех.
— Мадемуазель! — холодно произнес он. — Соблаговолите ответить на один-единственный вопрос. Вы уважаете своего отца?
— Уж не вздумали ли вы меня допрашивать, господин Жильбер? — высокомерно спросила девушка.
— Да, вы уважаете отца, — продолжал Жильбер, — и ведь не за его душевные качества, не за его достоинства. Нет, только за то, что он дал вам жизнь. Отца — к несчастью, вам это должно быть знакомо — уважают только за то, что он отец. Более того: за одно это благое дело — он дал вам жизнь… — тут Жильбер оживился, испытывая снисходительность и жалость. — За одно это благое дело вы должны любить благодетеля. Так вот, мадемуазель, приняв это за основу, я могу спросить вас: почему же меня вы оскорбляете? Почему вы меня отталкиваете? Почему вы ненавидите меня? Правда, не я подарил вам жизнь, но я вам ее спас!
— Вы? — спросила Андре. — Вы спасли мне жизнь?
— Вы об этом не думали, — заметил Жильбер, — вернее сказать, вы об этом забыли. Это вполне естественно — ведь с тех пор прошел целый год. Ну что же, мадемуазель, мне надлежит сообщить или напомнить вам об этом. Да, я спас вам жизнь, рискуя собой.
— Будьте любезны, по крайней мере, сказать мне, где и когда это было, — сильно побледнев, попросила Андре.
— Это было в тот самый день, мадемуазель, когда сто тысяч человек, давя друг друга, спасаясь от необузданных лошадей и летавших над толпой сабель, оставили после себя на площади Людовика Пятнадцатого груду мертвых и раненых тел.
— A-а, тридцать первого мая!..
— Да, мадемуазель.
Андре снова встала, насмешливо улыбаясь.
— И вы утверждаете, что в тот день подвергали опасности свою жизнь ради моего спасения, господин Жильбер?
— Да, как я уже имел честь сказать вам.
— Так вы, значит, барон де Бальзамо? Простите, я не знала.
— Нет, я не барон де Бальзамо, — возразил Жильбер; взор его горел, губы тряслись. — Я бедное дитя народа, Жильбер, у которого достало глупости вас полюбить, и в этом мое несчастье. Я любил вас как безумный, как одержимый и поэтому бросился за вами в толпу. Я тот самый Жильбер, которого разлучила с вами на мгновение толпа, но, услыхав страшный крик, с каким вы упали, Жильбер кинулся вслед за вами и обхватил вас руками раньше, чем двадцать тысяч других рук успели отнять у него последние силы. Бас неминуемо раздавили бы, но Жильбер прижался к каменному столбу, чтобы своим телом смягчить вам удар. А когда Жильбер заметил в толпе странного господина, казалось повелевавшего другими людьми, — его имя вы только что произнесли — Жильбер собрал остатки сил, физических и душевных, и поднял вас на слабеющих руках, чтобы этот господин вас заметил, подобрал, спас. Жильбер уступил вас более удачливому спасителю, а себе оставил лишь клочок вашего платья и прильнул к нему губами — прильнул вовремя, потому что кровь подступила к его сердцу, к вискам, к затылку. Сплетенные в единый клубок палачи и их жертвы обрушились как волна и поглотили его, а вы в это время, подобно ангелу, возносились к небесам.
Жильбер предстал сейчас во всей своей самобытности, то есть диким, наивным, возвышенным как в своей решимости, так и в любви. Несмотря на презрительное к нему отношение, Андре не могла скрыть удивления. Он даже подумал было, что его правдивый рассказ тронул ее сердце. Однако бедный Жильбер не принял во внимание, что она может ему не поверить. Ненавидевшая Жильбера, Андре не придала значения ни одному доводу своего презренного поклонника.
Она ничего не ответила; она смотрела на Жильбера, и мысли ее путались.
Ее холодность привела его в замешательство, и он счел необходимым прибавить:
— Я прошу вас не относиться ко мне с ненавистью, потому что это была бы не только несправедливость, но и неблагодарность.
Андре гордо подняла голову и безразличным тоном, что было особенно жестоко, спросила:
— Господин Жильбер! Как долго вы были учеником господина Руссо?
— Три месяца, кажется, — простодушно отвечал Жильбер, — не считая времени, когда я был болен после давки тридцать первого мая.
— Вы меня не поняли, — сказала она. — Я не спрашиваю вас, были вы больны или нет… после давки… Возможно, это прекрасный конец для той истории, которую вы мне поведали… Но меня это не интересует. Я вам хотела сказать, что, проведя у прославленного писателя всего три месяца, вы не теряли времени даром: ученик сочиняет романы ничуть не хуже своего учителя.
Жильбер спокойно слушал ее, полагая, что на его взволнованную речь Андре ответит серьезно. Вот почему насмешку Андре он воспринял как кровную обиду.
— Роман? — прошептал он, задохнувшись от возмущения. — Вы считаете романом то, что сейчас от меня услышали?
— Да, — отвечала Андре, — вот именно, роман. Благодарю вас за то, что мне не пришлось его читать. Я очень сожалею, что не могу за него заплатить; как бы я ни старалась, все было бы напрасно: ваш роман — бесценный.
— Вот как вы мне отвечаете! — пролепетал Жильбер; сердце его сжалось, взгляд потух.
— Да я даже и не отвечаю, — молвила Андре, оттолкнув его и проходя мимо.
С другого конца аллеи ее уже звала Николь. Сквозь листву она не узнала Жильбера в собеседнике своей хозяйки и потому не желала своим внезапным появлением прерывать беседу.
Однако, подойдя ближе, она увидела юношу, узнала его и застыла от изумления. Только тогда она пожалела, что не подкралась и не подслушала, о чем может Жильбер говорить с мадемуазель де Таверне.
Желая дать почувствовать Жильберу свое презрение к нему, Андре заговорила с Николь подчеркнуто ласково.
— Что случилось, дитя мое? — спросила она.
— Господин барон де Таверне и господин герцог де Ришелье спрашивали мадемуазель, — ответила Николь.
— Где они?
— В комнате мадемуазель.
— Идите.
Андре пошла к дому.
Николь последовала за ней и, уходя, бросила на Жильбера насмешливый взгляд. Юноша стоял смертельно бледный, он был похож на сумасшедшего, он был не столько взбешен, сколько одержим. Он погрозил кулаком в направлении аллеи, по которой удалилась его неприятельница, и, скрежеща зубами, пробормотал:
— Бессердечная! Бездушное создание! Я спас тебе жизнь, отдал тебе свою любовь, я задушил в себе всякое чувство, способное оскорбить, как мне казалось, твою чистоту, ведь для меня в моем бреду ты представлялась сошедшей с небес святой… Ну, теперь я рассмотрел тебя вблизи: ты самая обыкновенная женщина, ну а я — мужчина… Придет день, и я тебе отомщу, Андре де Таверне!
Ты дважды была у меня в руках, и оба раза я тебя пощадил. Андре де Таверне! Берегись! В третий раз пощады не будет!
Он пошел через парк напрямик, не разбирая дороги; так уходит раненый волк: оборачиваясь, скаля хищные зубы, глядя налитыми кровью глазами.
CXVI. ОТЕЦ И ДОЧЬ.
Дойдя до конца аллеи, Андре увидела маршала, прогуливавшегося вместе с ее отцом перед входом и ожидавшего ее.
Друзья, казалось, были в прекрасном расположении духа; они шли под руку. При дворе еще не было более полного воплощения Ореста и Пилада.
Завидев Андре, старики заулыбались и стали наперебой расхваливать друг другу ее красоту: гнев и быстрая ходьба придали ей блеск.
Маршал так поклонился Андре, как если бы перед ним стояла новая г-жа де Помпадур. Эта подробность не ускользнула от Таверне и очень его порадовала. Однако Андре была удивлена его почтительностью и в то же время несколько вольной галантностью: ловкий придворный умело сочетал немало разных оттенков в одном поклоне, как Ковьель умел одним турецким словом передать смысл нескольких французских предложений.
Андре одинаково церемонно поклонилась барону и маршалу и с милой улыбкой пригласила их подняться к ней в комнату.
Маршала восхитила изящная простота — единственное достоинство меблировки и архитектуры скромной комнаты. Благодаря цветам и белым муслиновым занавескам Андре удалось превратить свою убогую комнату не во дворец, но в храм.
Маршал сел в кресло, обитое персидской тканью с крупным рисунком, под большой китайской вазой, откуда свисали душистые ветки акации и клена вперемежку с ирисами и бенгальскими розами.
Таверне опустился в точно такое же кресло. Андре села на складной стульчик и оперлась локтем на клавесин, тоже украшенный цветами, стоявшими в большой вазе саксонского фарфора.
— Мадемуазель! — обратился к ней маршал. — Я пришел, чтобы передать вам от его величества восхищение вашим прелестным голосом и вашей музыкальностью, вызвавшими восторг у всех присутствовавших на репетиции. Его величество не стал хвалить вас вслух, опасаясь пробудить в других зависть. Вот почему он и поручил мне выразить вам благодарность за удовольствие, которое вы ему доставили.
Зардевшаяся Андре была так хороша, что маршал не мог остановиться и говорил первое, что приходило ему в голову:
— Король утверждал, что ему не приходилось видеть при дворе никого, кто, подобно вам, мадемуазель, сочетает в себе тонкий ум и безупречную красоту.
— Вы забыли упомянуть о ее душевных качествах, — прибавил сияющий Таверне, — Андре — образцовая дочь.
Маршалу на минуту показалось, что его друг вот-вот расплачется. В восхищении от подобной родительской чувствительности он воскликнул:
— Душа!.. Увы, дорогой мой, вы один можете судить о душевных качествах мадемуазель. Будь я двадцатипятилетним юношей, я сложил бы к ее ногам свою жизнь и все свое состояние!
Андре еще не научилась хладнокровно выслушивать любезности придворного. У нее из груди вырвался только вздох.
— Мадемуазель! — продолжал Ришелье. — Король пожелал выразить свое удовлетворение и просил вас благосклонно принять то, что он поручил вам передать через господина барона. Что я должен передать его величеству от вашего имени?
— Сударь, я прошу вас передать его величеству мою признательность, — отвечала Андре, не вкладывая в свои слова ничего, кроме глубокой почтительности, входящей в обязанности любой подданной. — Скажите его величеству, что я счастлива оказанным мне вниманием и считаю себя недостойной благосклонности столь могущественного монарха.
Ришелье, казалось, понравились слова девушки, которые она произнесла твердо, без малейшего колебания.
Он взял ее руку, почтительно поцеловал и, не сводя с нее глаз, проговорил:
— Рука королевы, ножка феи… ум, воля, чистота… Ах, барон, какое сокровище!.. У вас не дочь, а настоящая королева…
Затем он раскланялся, оставив Таверне с Андре. Барона распирало от гордости и упований.
Если бы кто-нибудь видел, с каким наслаждением этот приверженец старой философии, скептик, насмешник купался в сыпавшихся на него милостях, не желая замечать, в какую он попал трясину, тот мог бы подумать, что Господь лишил г-на де Таверне не только сердца, но и разума.
Один Таверне мог заметить по поводу этих перемен в себе: «Изменился не я, изменились времена!».
Итак, он остался сидеть вместе с Андре, чувствуя некоторую неловкость оттого, что девушка внимательно и безмятежно смотрела на него ясными, бездонными глазами.
— Господин де Ришелье, кажется, сказал, сударь, что его величество поручил вам передать доказательство своего удовлетворения. Что же это?
— Ага! — воскликнул Таверне. — Она заинтересовалась… Вот бы никогда не поверил… Тем лучше, черт возьми, тем лучше!
Он медленно вынул из кармана ларец, который вручил ему накануне маршал, — так заботливые отцы достают пакетик с конфетами или игрушку, за которыми ребенок с жадностью следит глазами.
— Вот, — проговорил он.
— Драгоценности!.. — ахнула Андре.
— Они тебе нравятся?
Это был очень дорогой жемчужный гарнитур. Дюжина крупных бриллиантов соединяла между собой нитки жемчугов. Бриллиантовый фермуар, серьги и бриллиантовая нить для волос — все это стоило, по меньшей мере, тридцать тысяч экю.
— Боже мой! Отец! — вскрикнула Андре.
— Ну как?
— Это слишком великолепно… Король, должно быть, ошибся. Мне будет стыдно это надеть. У меня же нет подходящих туалетов для таких дорогих камней!
— Ну-ну, ты еще пожалуйся! — насмешливо бросил Таверне.
— Сударь, вы меня не понимаете… Мне очень жаль, что я не могу носить эти драгоценности: они слишком хороши.
— Король, подаривший этот ларец, мадемуазель, достаточно знатный сеньор, чтобы подарить вам и платья.
— Но, отец… эта щедрость короля…
— Вы полагаете, что я ее не заслужил? — спросил Таверне.
— Простите, сударь, вы правы, — согласилась Андре, опустив голову; однако сомнения не оставляли ее.
Подумав с минуту, она захлопнула ларец.
— Я не стану носить эти бриллианты, — заявила она.
— Почему? — встревожился Таверне.
— Потому, отец, что у вас и у брата нет даже самого необходимого, а от этой роскоши у меня заболели глаза, как только я вспомнила о стесненных обстоятельствах, в которых вы живете.
Таверне с улыбкой пожал ей ручку.
— Об этом можешь не беспокоиться, дочь моя. Король осчастливил меня еще более, чем тебя. Мы попали в милость, дорогое дитя мое! И было бы непочтительно и неблагодарно появиться перед его величеством без украшения, которое он соблаговолил тебе преподнести.
— Хорошо, я повинуюсь, отец.
— Да, но ты должна делать это с удовольствием… Кажется, это украшение не очень тебе нравится?
— Я ничего не понимаю в бриллиантах, отец.
— Могу тебе сообщить, что только жемчуг стоит пятьдесят тысяч ливров.
Андре молитвенно сложила руки.
— Как странно, что его величество делает мне такие подарки! Что вы на это скажете, отец?
— Я вас не понимаю, мадемуазель, — сухо сказал Таверне.
— Уверяю вас, отец, что, если я надену эти драгоценности, это вызовет толки.
— Почему? — так же сухо спросил Таверне и сурово посмотрел на дочь, опустившую глаза под его холодным взглядом.
— Мне неловко.
— Мадемуазель! Довольно странно, признайтесь, что вы чувствуете неловкость там, где я ее не вижу. Да здравствуют добродетельные девицы, угадывающие зло, как бы хорошо оно ни было скрыто, когда никто его не замечает! Да здравствует наивная и чистая девушка, способная заставить покраснеть меня, старого гренадера!
Андре смутилась и закрыла лицо руками с прелестными перламутровыми ноготками.
— Ах, брат, — прошептала она. — Почему ты так далеко?
Слышал ли Таверне ее слова? Догадался ли он благодаря уже известной читателю прозорливости его? Кто знает? Однако он сейчас же изменил тон и, взяв Андре за обе руки, сказал:
— Дитя мое! Разве отец тебе не друг?
Нежная улыбка проглянула и заиграла на омрачившемся было личике Андре.
— Разве я здесь не для того, чтобы тебя любить, чтобы дать тебе совет? Разве ты не гордишься тем, что помогаешь преуспеть и брату и мне?
— Да, да, разумеется, — согласилась Андре.
Барон ласково посмотрел на дочь.
— Так вот, — продолжал он, — как справедливо заметил герцог де Ришелье, ты скоро станешь королевой де Таверне… Король тебя отличил… Ее высочество дофина — тоже, — с живостью прибавил он. — В семейном кругу августейших особ, осчастливив их своим присутствием, ты составишь наше будущее… Подруга дофины, подруга… короля, какой почет!.. Ты необычайно талантлива и на редкость красива. У тебя чистая душа, ты лишена зависти и честолюбия… Ах, дитя мое, какую роль ты могла бы сыграть! Помнишь девушку, которая скрашивала конец жизни Карла Шестого? Во Франции благословляют ее имя… Вспомни Агнессу Сорель, восстановившую честь французской короны! Все истинные французы чтят ее память… Андре, ты будешь посохом нашего славного монарха… Он будет тебя лелеять как родную дочь, и ты станешь править Францией по праву самой красивой, отважной и преданной.
Андре широко раскрыла глаза от удивления. Не давая ей опомниться, барон продолжал:
— Ты одним своим взглядом прогонишь всех падших женщин, что только позорят трон; одно твое присутствие очистит двор. Твоему великодушному влиянию знать всего королевства будет обязана возвращением добрых нравов, хорошего тона, изысканной вежливости. Дочь моя, ты можешь и должна стать путеводной звездой для всего нашего государства и венцом славы для нашей семьи.
— А что я должна для этого сделать? — спросила оглушенная Андре.
— Андре! Я тебе часто говорил, что в этом мире приходится вынуждать людей к тому, чтобы они были добродетельными, заставлять их любить добродетель. Добродетель хмурая, тоскливая, бубнящая поучения отталкивает даже тех, кто готов был к ней приблизиться. Пусть твоя добродетель будет не лишена кокетства, даже порока. Это под силу такой умной и сильной девушке, как ты. Будь ослепительной, чтобы при дворе только и было разговору, что о тебе. Постарайся, чтобы королю было с тобой хорошо и чтобы он не мог без тебя обходиться. Будь очень скрытной, сдержанной со всеми, кроме короля, и ты очень скоро станешь могущественной.
— Я не совсем понимаю, что вы хотите этим сказать, — призналась Андре.
— Разреши мне тобой руководить. Тебе ничего не придется понимать, только исполняй, что я тебе скажу, — это даже лучше для такой послушной и доброй девочки, как ты. Кстати, чтобы претворить в жизнь первый совет, я должен наполнить твой кошелек. Возьми сто луидоров и приготовь себе туалет, достойный того уровня, на который тебя поднимает король, оказавший нам честь своим вниманием.
Таверне дал дочери сто луидоров, поцеловал ей ручку и вышел.
Он быстрыми шагами возвращался по той аллее, по которой пришел, и не обратил внимания на Николь, стоявшую в роще Амуров; она была увлечена беседой с сеньором, сообщавшим ей что-то на ушко.
CXVII. ЧТО БЫЛО НУЖНО АЛЬТОТАСУ, ЧТОБЫ ЗАВЕРШИТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЕ СВОЕГО ЭЛИКСИРА ЖИЗНИ.
На следующий день после этого разговора, около четырех часов пополудни, Бальзамо в своем кабинете на улице Сен-Клод читал письмо, переданное ему Фрицем. Письмо было без подписи: он так и этак вертел его в руках.
— Мне знаком этот почерк, — говорил он, — не почерк, а каракули, некрасивый, нетвердый со множеством орфографических ошибок.
Он стал перечитывать:
«Граф!
Лицо, обращавшееся к Вам просить совета за несколько дней до падения последнего министерства, а также много раньше, прибудет к Вам сегодня за новым советом. Позволят ли Ваши разнообразные занятия уделить этому лицу полчаса между четырьмя и пятью часами вечера?».
Перечитав письмо во второй или в третий раз, Бальзамо погрузился в размышления:
«Не стоит беспокоить Лоренцу из-за такой малости. И потом, разве я не умею угадывать сам? Каракули — верный признак, что писал аристократ; нетвердый почерк свидетельствует о преклонных годах писавшего; много орфографических ошибок, — следовательно, автор — придворный. Какой я глупец! Это же господин герцог де Ришелье. Разумеется, я уделю вам полчаса, господин герцог, да хоть час, хоть целый день! Возьмите у меня все время и делайте с ним что пожелаете. Ведь вы для меня, сами того не зная, являетесь одним из моих тайных агентов, одним из дружественных мне демонов. Разве мы с вами заняты не одним и тем же делом? Мы вместе пытаемся расшатать монархию: вы — тем, что вы ее душа; я — тем, что я ее враг. Я жду вас, господин герцог!».
Бальзамо вынул часы, желая убедиться, долго ли еще ему ждать герцога.
Как раз в эту минуту под потолком зазвенел звонок.
— Что такое? — вздрогнув, проговорил Бальзамо. — Лоренца! Меня зовет Лоренца! Она хочет со мной увидеться. Не случилось ли с ней чего-нибудь? Или, может быть, у нее опять истерический припадок, свидетелем которого мне часто случалось быть, а несколько раз не просто свидетелем, но и жертвой? Еще вчера она была задумчива, смиренна, нежна; вчера она была такой, какой я больше всего ее люблю. Бедная девочка! Ну, пойду.
Он застегнул расшитую рубашку, заправил кружевное жабо под шлафрок, взглянул на свое отражение, желая убедиться, что волосы у него не очень взлохмачены, и пошел по направлению к лестнице, позвонив перед тем в колокольчик, точно так, как это сделала Лоренца.
Бальзамо по привычке остановился в комнате, отделявшей его от Лоренцы; он скрестил руки на груди, повернулся в ту сторону, где, по его предположениям, должна была находиться Лоренца, и не знавшим преград усилием воли заставил ее уснуть.
Потом он заглянул в едва заметную щель в стене, словно сомневался в себе или считал, что необходимо быть особенно осторожным.
Лоренца уснула в тот момент, когда лежала на диване или после приказания своего повелителя упала на него, покачнувшись и пытаясь найти, на что бы опереться. Ни один художник не мог бы придумать для нее позы более поэтичной, чем та, какую она приняла. Страдая и задыхаясь под мощным потоком посланных Бальзамо флюидов, Лоренца походила на прекрасную Ариадну кисти Ванлоо: грудь ее бурно вздымалась, голова поникла от отчаяния или изнеможения.
Бальзамо вошел в комнату и, залюбовавшись, остановился перед ней. Он поспешил ее разбудить: она была слишком соблазнительна.
Едва раскрыв глаза, она метнула в него пронзительный взгляд, потом, словно для того, чтобы собраться с мыслями, обеими руками пригладила волосы, сжала губы, приоткрывшиеся было в сладострастном забытьи, и, изо всех сил напрягая память, постаралась припомнить, что с ней произошло.
Бальзамо с беспокойством наблюдал за ней. Он давным-давно привык к ее внезапным переходам от нежной влюбленности к всплескам ненависти и злобы. Теперешняя ее задумчивость была ему внове; хладнокровие Лоренцы, с каким она его принимала, сдерживая привычные уже вспышки ненависти, свидетельствовали о том, что на сей раз его ожидает нечто более серьезное, чем то, что ему доводилось видеть до сих пор.
Лоренца привстала и, тряхнув головой, подняла на Бальзамо бархатные глаза.
— Сядьте, пожалуйста, рядом, — попросила она его.
При звуке ее голоса, проникнутого необычайной нежностью, Бальзамо вздрогнул.
— Вы хотите, чтобы я сел? — переспросил он. — Вы прекрасно знаете, Лоренца, что у меня только одно желание: умереть у ваших ног.
— Сударь! — не меняя тона, продолжала Лоренца. — Я прошу вас сесть, хотя не собираюсь долго с вами говорить. Но мне кажется, что будет лучше, если вы сядете.
— Нынче, как, впрочем, и всегда, моя дорогая, я готов исполнить любое ваше желание, — ответил Бальзамо и сел в кресло рядом с Лоренцой, сидевшей на диване.
— Сударь! — начала она, умоляюще взглянув на Бальзамо. — Я вызвала вас для того, чтобы попросить об одной милости.
— Лоренца, любимая моя! — воскликнул в восторге Бальзамо. — Просите все, что хотите, все!
— Я хочу только одного, но предупреждаю вас: это мое самое сильное желание.
— Говорите, Лоренца, говорите! Я готов отдать все мое состояние, я полжизни отдам за то, чтобы вы были счастливы!
— Вам это ничего не будет стоить, это займет всего одну минуту вашего времени, — сказала молодая женщина.
Обрадованный тем, что разговор протекает мирно, Бальзамо, обладавший богатым воображением, попытался представить себе, какие желания могли появиться у Лоренцы и какие из них он мог бы удовлетворить.
«Она у меня сейчас попросит служанку или компаньонку, — думал он. — Ну что же, это огромная жертва, потому что мне придется подвергнуть риску свою тайну и тайну моих друзей, но я готов на него пойти, потому что бедняжка томится в одиночестве».
— Ну, приказывайте же, Лоренца, — предложил он, глядя на нее с нежной улыбкой.
— Сударь! Вы знаете, что я умираю от тоски и одиночества, — начала она.
Бальзамо в знак согласия опустил голову и вздохнул.
— Моя молодость пропадает понапрасну, — продолжала Лоренца, — мои дни проходят в слезах, мои ночи — это нескончаемый ужас. Я угасаю в тоске и одиночестве.
— Вы сами избрали себе такую жизнь, Лоренца, — отвечал Бальзамо, — и не моя вина, что образ жизни, который вас теперь приводит в уныние, вы сами предпочли тому, которому могла бы позавидовать королева.
— Пусть так. Но вы видите, что я обращаюсь к вам.
— Благодарю вас, Лоренца.
— Не вы ли мне неоднократно говорили, что вы христианин, хотя…
— Хотя вы полагаете, что я погубил свою душу, вы это хотите сказать? Я правильно закончил вашу мысль, Лоренца?
— Прошу вас выслушать то, что я скажу, и ничего за меня не додумывать.
— Продолжайте, пожалуйста.
— Вместо того чтобы вызывать во мне ненависть и доводить меня до отчаяния, окажите мне, раз уж я ни на что не гожусь…
Она замолчала и посмотрела на Бальзамо. Но он уже овладел собой и ответил ей холодным взором, нахмурив брови.
Она затрепетала под его почти угрожающим взглядом.
— Окажите мне милость, — продолжала она. — Я не прошу у вас свободы, нет, я знаю, что по Божьей, вернее, по вашей воле — ведь вы мне кажетесь всемогущим — я обречена на пожизненное заточение. Позвольте мне хоть изредка видеть человеческие лица, слышать не только ваш голос, позвольте мне выходить, двигаться, чувствовать, что я еще живу.
— Я предвидел это ваше желание, Лоренца, — признался Бальзамо, беря ее за руку, — и вы знаете, что уже давно я тоже этого хочу.
— Правда?! — вскричала Лоренца.
— Но вы же пригрозили, что предадите меня, когда я потерял голову от любви… Я позволил вам проникнуть в некоторые свои научные и политические тайны. Вы знаете, что Альтотас нашел философский камень и ищет секрет вечной молодости — это из области науки. Вы знаете, что я и мои друзья замышляем свержение монархии — это из области политики. За одну из этих тайн меня могут приговорить к сожжению на костре как колдуна; за другую меня колесуют как государственного изменника. А вы мне угрожали, Лоренца; вы мне сказали, что любой ценой хотели бы вновь обрести свободу ради того, чтобы прежде всего донести на меня господину де Сартину. Ведь это же ваши слова?
— Что вы от меня хотите!.. Я порой прихожу в отчаяние и тогда… тогда я теряю разум.
— А сейчас вы спокойны? Достаточно ли вы благоразумны в эту минуту, чтобы мы могли поговорить?
— Надеюсь, что да.
— Если я возвращу вам свободу, о которой вы меня просите, могу ли я надеяться, что вы будете мне преданной и покорной женой, что я найду в вас верную и нежную душу? Вы знаете, что это мое заветное желание, Лоренца.
Молодая женщина молчала.
— Сможете ли вы меня полюбить? — со вздохом закончил Бальзамо.
— Я не хочу обещать вам то, что не могла бы исполнить, — призналась Лоренца. — Ни любовь, ни ненависть от нас не зависят. Я надеюсь, что Господь в награду за ваши добрые дела поможет мне избавиться от ненависти и полюбить вас.
— К сожалению, такого обещания недостаточно, Лоренца, чтобы я мог вам довериться. Я хочу от вас услышать клятву верности, священную клятву, нарушение которой было бы святотатством. Это должна быть такая клятва, что связала бы вас и в этой и в той жизни, а в случае вашего предательства она должна привести вас к смерти в этом мире и к вечному проклятию — в том.
Лоренца не проронила ни звука.
— Готовы ли вы принести такую клятву?
Лоренца уронила голову и спрятала лицо в ладонях; ее грудь бурно вздымалась от охвативших ее противоречивых чувств.
— Поклянитесь мне, Лоренца, так, как я этого у вас прошу, со всей торжественностью, коей будет сопровождаться ваша клятва, и вы свободны.
— Чем я должна поклясться?
— Поклянитесь, что никогда, ни под каким предлогом, ничто из того, что вы узнали о занятиях Альтотаса, вы никому не откроете.
— Клянусь!
— Поклянитесь, что вы никогда не разгласите того, что знаете о наших собраниях.
— И в этом клянусь!
— И вы готовы принести такую клятву, какую я вам предложу?
— Да. И это все?
— Нет. Поклянитесь — и это самое главное, Лоренца, потому что другие клятвы затрагивают меня косвенно, а в этой клятве заключено все мое счастье, — поклянитесь, что никогда не покинете меня. Поклянитесь, и вы свободны.
Молодая женщина вздрогнула, почувствовав, как в ее сердце словно вонзился стальной клинок.
— Как я должна произнести эту клятву?
— Мы вместе отправимся в церковь, Лоренца. Мы причастимся одной облаткой. На этой облатке вы и поклянетесь никогда не рассказывать ни об Альтотасе, ни о моих товарищах. Вы поклянетесь никогда не разлучаться со мной. Мы разделим облатку пополам и причастимся ею, поклявшись перед всемогущим Богом: вы — в том, что никогда меня не предадите, я — в том, что составлю ваше счастье.
— Нет, — возразила Лоренца, — подобная клятва — кощунство.
— Клятва может быть кощунством только тогда, Лоренца, — с грустью заметил Бальзамо, — когда она произносится с намерением нарушить ее.
— Я не стану приносить эту клятву, — продолжала упорствовать Лоренца. — Я боюсь погубить свою душу.
— Повторяю вам, что вы сгубили бы душу не тогда, когда произносили бы эту клятву, а в том случае, если бы нарушили ее.
— Я не буду клясться.
— Тогда наберитесь терпения, Лоренца, — проговорил Бальзамо не со злобой, а с глубоким сожалением.
Лоренца помрачнела, словно туча набежала внезапно и нависла над цветущей лужайкой.
— Значит, вы мне отказываете? — спросила она.
— Нет, Лоренца, это вы отказываете мне.
Нервное движение Лоренцы выдало нетерпение, охватившее ее при этих словах.
— Послушайте, Лоренца, — обратился к ней Бальзамо, — я кое-что могу для вас сделать, и сделать немало, можете мне поверить.
— Говорите, — горько усмехнулась молодая женщина. — Посмотрим, как далеко может зайти великодушие, о котором вы так любите разглагольствовать.
— Бог, случай или судьба — называйте это как хотите, Лоренца, — связали нас неразрывными узами. Не стоит пытаться разорвать их в этой жизни, это под силу только смерти.
— Ну, это я уже слышала, — в нетерпении перебила его Лоренца.
— Так вот через неделю, Лоренца, чего бы мне это ни стоило и как бы ни велик был риск, у вас будет компаньонка.
— Где? — спросила она.
— Здесь.
— Здесь?! — вскричала она. — За этими решетками, за железными дверьми? Подруга по заточению? Вы ничего не поняли, сударь, я совсем не этого у вас прошу.
— Это все, что в моих силах, Лоренца!
Молодая женщина сделала еще более нетерпеливое движение.
— Друг мой! — ласково продолжал Бальзамо. — Подумайте хорошенько: вдвоем вам будет легче перенести все тяготы этого вынужденного несчастья.
— Ошибаетесь, сударь! До сей минуты я страдала только за себя, а не за другого. И я не могу долее выдержать испытания, которому, насколько я понимаю, вы хотели бы меня подвергнуть. Пусть вы поместите рядом со мной такую же жертву, как я. Я буду видеть, как она худеет, бледнеет, чахнет от страданий; суду слышать, как она стучит, как и я раньше, вот в эту стену, в эту постылую дверь, которую я по сто раз на день разглядываю, пытаясь понять, как она открывается, пропуская вас сюда. А когда эта жертва, моя подруга, обломает, как я, ногти об дерево и мрамор, тщетно пытаясь разбить доски или раздвинуть плиты; когда она, как я, выплачет все глаза; когда она, как я, станет мертвой и, вместо одного, перед вами будет два трупа, вы, со свойственной вам дьявольской добротой, скажете: «Этим двум детям весело вместе, они счастливы». Нет, нет, тысячу раз нет!
И она в сердцах топнула ногой.
Бальзамо еще раз попытался ее успокоить:
— Ну-ну, Лоренца, не волнуйтесь, будьте благоразумны, умоляю вас.
— И он еще просит меня не волноваться! Он просит меня образумиться! Палач просит снисхождения у жертвы, которую мучает!
— Да, я прошу вас быть благоразумной и снисходительной, потому что ваши приступы гнева ничего не меняют в нашей общей судьбе, они причиняют боль, только и всего. Примите то, что я вам предлагаю, Лоренца; я дам вам компаньонку, которая полюбит рабство за то, что оно одарит ее вашей дружбой. Вы напрасно опасаетесь, что увидите грустное, залитое слезами лицо; напротив, ее улыбка, ее веселый нрав развеселят и вас. Милая Лоренца, согласитесь на мое предложение. Могу поклясться, что большего я не могу вам предложить.
— Иными словами, вы поселите рядом со мной наемницу и скажете ей, что тут живет одна сумасшедшая, несчастная женщина, безнадежно больная, вы придумаете мне какую-нибудь болезнь. «Заточите себя вместе с этой сумасшедшей, пообещайте, что будете верно ей служить, и я заплачу вам за ваши услуги, как только бедняжка умрет».
— Ах, Лоренца, Лоренца! — прошептал Бальзамо.
— Нет, все будет не так, я ошиблась, да? — насмешливо продолжала Лоренца. — Я недогадлива, ничего не поделаешь! Я несведуща, я так плохо знаю свет!.. Вы можете сказать этой женщине: «Будьте бдительны: эта сумасшедшая опасна, предупреждайте меня о каждом ее шаге, о всякой мысли, следите за ней днем и ночью». И вы дадите ей столько золота, сколько она пожелает: золото вам достается даром — ведь вы сами его делаете.
— Лоренца! Вы заблуждаетесь; во имя Неба, Лоренца, постарайтесь прочесть то, что у меня в сердце. Дать вам компаньонку, друг мой, значило бы поставить под удар планы столь величественные, что, если бы не ваша ненависть, вы оценили бы мою жертву… Дать вам компаньонку, как я уже сказал, это значит подвергнуть риску мою безопасность, мою свободу, жизнь. Однако я готов на это, лишь бы избавить вас от скуки.
— Скуки! — вскричала Лоренца с диким хохотом, заставившим Бальзамо содрогнуться. — И он называет это скукой!
— Ну хорошо, страданиями… Да, вы правы. Лоренца, это невыносимые страдания. Да, Лоренца! Что ж, повторяю: потерпите, придет день, когда кончатся все ваши страдания; придет время, и вы станете свободной; настанет время, когда вы станете счастливой.
— Позвольте мне удалиться в монастырь! Я хочу дать обет.
— В монастырь?
— Я буду молиться, я буду молиться прежде всего за вас, а уж потом за себя. Я буду там заперта, это верно, но ведь у меня будет и сад, и свежий воздух, и простор, и кладбище, где я буду гулять среди могил, подыскивая место и для себя. У меня будут подруги, по-своему несчастливые, у каждой из них своя горькая доля. Позвольте мне удалиться в монастырь, и я дам вам любые клятвы, какие вы только пожелаете. Монастырь, Бальзамо, монастырь! На коленях умоляю вас об этой милости!
— Лоренца! Лоренца! Мы не можем разлучиться. Мы навсегда связаны в этой жизни, слышите? Не просите у меня ничего, что выходит за пределы этого дома.
Бальзамо произнес эти слова отчетливо и в то же время сдержанно, тоном, не допускавшим возражений; Лоренца больше не настаивала.
— Значит, вы этого не хотите? — с убитым видом прошептала она.
— Не могу.
— Это ваше последнее слово?
— Да.
— Ну что же, тогда я попрошу вас о другом, — с улыбкой продолжала она.
— Милая Лоренца! Улыбнитесь еще, вот так же, и можете просить у меня все, что только пожелаете.
— Вы готовы исполнить любую мою прихоть, лишь бы я делала все, чего вы от меня требуете, ведь правда? Что ж, пусть так. Я постараюсь быть благоразумной.
— Говорите, Лоренца, говорите!
— Только что вы мне сказали, что придет день, когда я не буду больше страдать, что наступит время, когда я стану свободной и счастливой.
— Да, я так и сказал и клянусь Небом, что жду этого дня, как и вы, с нетерпением.
— Это время может наступить теперь, Бальзамо, — проговорила молодая женщина с ласковой улыбкой, какую ее муж видел у нее на лице, только когда она засыпала. — Я устала, знаете, очень устала. Это нетрудно понять: молодая, я уже столько выстрадала! Так вот, друг мой, — ведь вы говорите, что вы мой друг, — выслушайте меня: сделайте так, чтобы этот счастливый день наступил сию минуту.
— Я слушаю вас, — отозвался Бальзамо, охваченный необычайным волнением.
— Я заканчиваю свою речь просьбой, с которой мне следовало бы начать, Ашарат.
Молодая женщина вздрогнула.
— Говорите, дорогая.
— Я не раз замечала во время ваших опытов над несчастными тварями — вы говорили, что эти опыты необходимы для человечества, — я замечала, что вы владеете секретом смерти: то он заключался в капле яда, то во вскрытой вене; и смерть эта была тихой и скорой, а несчастные, ни в чем не повинные животные, обреченные, как и я, на заточение, мгновенно становились после смерти свободными; и это было первым и единственным благодеянием, оказанным бедным тварям с самого их рождения. Так вот…
Она остановилась и побледнела.
— Что, Лоренца? — спросил Бальзамо.
— Сделайте ради меня то, что вы порой делаете в интересах науки с несчастными животными, сделайте это во имя человечности; сделайте это для подруги, благословляющей вас от всей души, для подруги, готовой из признательности целовать вам руки, если вы окажете ей милость, о которой она вас умоляет. Сделайте это, Бальзамо, для меня, на коленях прошу вас об этом, и я обещаю вам, что с последним вздохом я одарю вас такой любовью и радостью, какой вы не увидите от меня за всю мою жизнь. Вы сделали бы это ради меня, и я обещаю вам, что буду искренне радоваться в то мгновение, когда покину этот мир. Бальзамо, душой вашей матери, кровью нашего Бога, всем, что есть святого в мире живых и в царстве мертвых, заклинаю вас: убейте меня! Убейте меня!
— Лоренца! — вскричал Бальзамо, притянув к себе вскочившую с этими словами молодую женщину. — Лоренца, ты бредишь! Чтобы я тебя убил!.. Ты моя любовь! Ты моя жизнь!
Лоренца резким движением высвободилась из объятий Бальзамо и рухнула на колени.
— Я не встану, — сказала она, — пока вы не исполните моей просьбы. Умертвите меня тихо, без боли; окажите мне эту милость, ведь вы говорите, что любите меня; усыпите меня, как вы часто делаете, но избавьте меня от пробуждения, от разочарования.
— Лоренца, друг мой! — заговорил Бальзамо. — Боже мой, неужели вы не видите, что у меня сердце разрывается? Неужели вы так несчастливы? Встаньте, Лоренца, не надо впадать в отчаяние. Неужели вы так меня ненавидите?
— Я ненавижу рабство, мучения, одиночество, а раз вы превращаете меня в рабу, в несчастную и одинокую, значит, я ненавижу и вас.
— Но я безумно люблю вас и не могу видеть, как вы умираете. Значит, вы не умрете, Лоренца, и я займусь самым сложным лечением, которое мне когда-либо приходилось проводить: я заставлю вас полюбить жизнь, моя Лоренца!
— Нет, нет, это невозможно: вы уже заставили меня пожелать смерти.
— Лоренца, сжальтесь надо мной, я вам обещаю, что очень скоро…
— Смерть или жизнь! — воскликнула молодая женщина, приходя постепенно во все большее возбуждение от своей ярости. — Сегодня — крайний срок. Согласны ли вы лишить меня жизни, иными словами — дать мне успокоение?
— Жизнь, Лоренца, только жизнь.
— Тогда свободу!
Бальзамо молчал.
— В таком случае — смерть, тихая смерть от какого-нибудь зелья, укола иглой, смерть во время сна: покой! покой! покой!
— Жизнь и терпение, Лоренца.
Отскочив с адским хохотом, Лоренца выхватила из-за пазухи нож с тонким и острым лезвием, словно молния сверкнувшим у нее в руке.

Бальзамо вскрикнул, но было поздно: он не успел отвести ее руку, и нож вонзился Лоренце в грудь. Бальзамо был ослеплен блеском кинжала и видом крови.
Он закричал и, обхватив Лоренцу руками, на лету поймал нож, готовый опуститься снова.
Лоренца резким движением попыталась высвободить нож, и лезвие прошло между пальцев Бальзамо.
Из раны хлынула кровь.
Вместо того чтобы продолжать борьбу, Бальзамо протянул окровавленную руку к молодой женщине и властно проговорил:
— Усните, Лоренца! Усните! Я приказываю!
Но она была так сильно возбуждена, что повиновалась не сразу.
— Нет, нет, — прошептала Лоренца, пошатываясь и пытаясь еще раз вонзить нож себе в грудь. — Нет, я не буду спать!
— Усните, я вам говорю! — шагнув к ней, повторил Бальзамо. — Спите, я так хочу!
На сей раз сила воли Бальзамо оказалась такой мощной, что всякое сопротивление было сломлено. Лоренца вздохнула, выронила нож, зашаталась и рухнула на подушки.
Только глаза ее оставались открытыми, однако ее пылавший ненавистью взор постепенно угасал, и скоро глаза закрылись. Напряжение спало, голова склонилась к плечу, как у раненой птицы; нервная дрожь пробежала по всему ее телу. Лоренца заснула.
Только тогда Бальзамо смог расстегнуть одежду Лоренцы и осмотреть рану; она показалась ему неопасной. Однако кровь так и хлестала из раны.
Бальзамо нажал кнопку, спрятанную в глазу льва; распрямилась пружина, растворилась потайная дверь. Он отвязал противовес, спустилась крышка люка в комнату Альтотаса; Бальзамо встал на нее и поднялся в лабораторию старика.
— A-а, это ты, Ашарат? — спросил тот, продолжая сидеть в кресле. — Ты знаешь, что через неделю мне исполняется сто лет? Ты знаешь, что к этому времени мне нужна кровь младенца или девственницы?
Не слушая его, Бальзамо бросился к шкапчику, где хранились магические бальзамы. Он схватил одну из пробирок, содержимое которой ему не раз приходилось испытывать, потом вернулся к крышке люка, топнул ногой и начал спускаться.
Альтотас подкатил вместе с креслом прямо к отверстию в полу и протянул руки, намереваясь вцепиться в одежду Бальзамо, но опоздал.
— Ты слышишь, несчастный? — прокричал он ему вдогонку. — Слышишь? Если через неделю у меня не будет младенца или девственницы, чтобы завершить составление эликсира, я умру.
Бальзамо обернулся. Глаза старика горели на совершенно неподвижном лице; можно было подумать, что живы одни глаза.
— Да, да, — отвечал Бальзамо. — Да, можешь быть спокоен, у тебя будет то, о чем ты просишь.
Отпустив пружину, он вернул крышку люка на прежнее место: оно сейчас же слилось с потолком, представляя собой часть орнамента.
Затем он поспешил в комнату Лоренцы, но, едва войдя туда, услышал звонок Фрица.
— Господин де Ришелье, — пробормотал Бальзамо. — Ну ничего, хотя он герцог и пэр, но может и подождать!
CXVIII. ДВЕ КАПЛИ ЗЕЛЬЯ ГЕРЦОГА ДЕ РИШЕЛЬЕ.
В половине пятого герцог де Ришелье покинул особняк на улице Сен-Клод.
В свое время читатель узнает, зачем он приходил к Бальзамо.
Барон де Таверне обедал у дочери. Ее высочество дофина в этот день предоставила Андре полную свободу, чтобы она могла принять у себя отца.
Герцог де Ришелье вошел в тот момент, когда подавали десерт. Он по-прежнему приносил в семью Таверне только добрые вести: он сообщил своему другу, что утром король во всеуслышание объявил, что хочет дать Филиппу не роту, а полк.
Таверне проявил бурную радость; Андре горячо поблагодарила маршала.
Беседа потекла так, как и следовало после того, что произошло. Ришелье продолжал рассказывать о короле, Андре говорила только о брате, а Таверне — о достоинствах Андре.
В разговоре девушка упомянула о том, что она до самого утра свободна от службы у дофины, что ее королевское высочество принимает в этот день двух немецких принцев, приходящихся ей родней; желая почувствовать себя хоть на несколько часов свободной и вспомнить те времена, когда она жила при венском дворе, Мария Антуанетта не захотела видеть французских слуг и даже удалила фрейлину. Это так потрясло герцогиню де Ноай, что она побежала жаловаться королю.
Таверне, как он заявил, был в восхищении, что Андре свободна и он может побеседовать с ней о вещах, от которых непосредственно зависели состояние и слава семьи Таверне. Услышав это, Ришелье сказал, что готов удалиться, чтобы не мешать отцу пооткровенничать с дочерью. Мадемуазель де Таверне запротестовала, и Ришелье остался.
В этот раз герцог почувствовал тягу к нравоучениям. Он живописал плачевное состояние, в котором оказалась французская знать, вынужденная сносить постыдное иго случайных фавориток, этих беззаконных королев, вместо того чтобы иметь дело с такими фаворитками, как в былые времена. Ведь тогда это были дамы почти столь же знатного происхождения, что и их августейшие любовники; дамы покоряли монархов своей красотой и любовью, а подданных — благородным происхождением, умом и верностью интересам страны.
Слова Ришелье совпали с тем, о чем вот уже несколько дней говорил Андре барон де Таверне, и это ее удивило.
Затем Ришелье перешел к изложению своей теории добродетели, теории возвышенной, языческой и, вместе с тем, истинно французской. Мадемуазель де Таверне была вынуждена признать, что она ни в коей мере не добродетельна. Настоящей добродетелью, как понимал ее маршал, обладали г-жа де Шатору, мадемуазель де Лавальер и мадемуазель де Фоссез.
От слова к слову, от доказательства к доказательству, мысль Ришелье становилась настолько прозрачной, что Андре вообще перестала ее понимать.
Беседа продолжалась в том же духе часов до семи вечера.
Когда часы пробили семь, герцог поднялся: ему было пора, по его словам, отправляться ко двору в Версаль.
Пройдя по комнате в поисках шляпы, он наткнулся на Николь: она всегда старалась найти себе какое-нибудь дело поблизости от того места, где находился герцог де Ришелье.
— Малышка! — воскликнул он, потрепав ее по плечу. — Проводи-ка меня! Отнесешь цветы, которые герцогиня де Ноай приказала нарвать с клумбы и посылает со мной графине д’Эгмон.
Николь поклонилась, как поселянка из комической оперы Руссо.
Маршал попрощался с бароном и его дочерью, обменялся с Таверне многозначительным взглядом, молодцевато раскланялся с Андре и вышел.
Мы просим позволения у читателя оставить барона и Андре: пусть они обсуждают новую милость, оказанную Филиппу, а мы последуем за маршалом. Мы узнаем, зачем он ездил на улицу Сен-Клод, куда прибыл, как мы помним, в страшную для Бальзамо минуту.
Кстати, принципы морали, которыми руководствовался барон, были, пожалуй, еще сомнительнее, чем у его друга-маршала; они могли бы оскорбить слух человека, обладающего и не такой нежной душой, как у Андре, и, следовательно, способного понять больше, нежели наивная девушка.
Итак, Ришелье спустился по лестнице, опираясь на плечо Николь, и, как только они оказались у клумбы, остановился и заглянул ей в лицо со словами:
— Ах, вот как, малышка? Так у нас теперь есть любовник?
— У меня, господин маршал?! — воскликнула Николь, сильно покраснев и отступив на шаг.
— Может ты не Николь Леге, а?
— Точно так, господин маршал.
— Так вот, у Николь Леге есть любовник.
— Скажете тоже!
— Да, черт побери! Этот бездельник недурно сложен, она его принимала на улице Кок-Эрон, а потом он последовал за ней в окрестности Версаля.
— Клянусь вам, господин герцог…
— Он, кажется, капрал, а зовут его… Хочешь, малышка, я тебе скажу, как зовут любовника мадемуазель Николь Леге?
У Николь оставалась единственная надежда, что маршал не знает имени этого счастливейшего из смертных.
— Ну что же, господин маршал, договаривайте, раз уж начали.
— Его зовут господин де Босир, и, по правде говоря, он оправдывает свое имя.
Николь прижала руки к груди, попытавшись притвориться пристыженной, но это не произвело на маршала никакого впечатления.
— Кажется, мы назначаем в Трианоне свидания, — продолжал он. — Дьявольщина! В королевской резиденции — это не шутки! Да за такие проделки недолго и места лишиться, прелестное дитя, а господин де Сартин отправляет всех уволенных из королевских замков девушек прямо в Сальпетриер.
Николь почувствовала некоторое беспокойство.
— Монсеньер! — заговорила она. — Клянусь, что если господин де Босир и похваляется тем, что он мой любовник, то он просто фат и мерзавец; на самом деле я ни в чем не виновата.
— Я не отрицаю того, что он фат и мерзавец, — отвечал Ришелье, — но ведь ты назначала свидания? Да или нет?
— Свидание еще не улика, господин герцог.
— Назначала ты свидания или не назначала? Отвечай!
— Монсеньер…
— Назначала… Прекрасно! Я тебя не осуждаю, милое дитя. Я люблю юных прелестниц, которые не прячут своей красоты, я и сам всегда по мере сил помогал им в этом. Однако, будучи твоим другом и покровителем, я хочу тебя предупредить.
— Так меня видели?.. — спросила Николь.
— Очевидно, да, раз я об этом знаю.
— Монсеньер, никто меня не видел, — решительно заявила Николь, — потому что это просто невозможно.
— Я ничего не знаю наверное, но такие слухи ходят, и это бросает тень на твою хозяйку. А ты понимаешь, что я более близкий друг семейству Таверне, нежели семье Леге, и мой долг — шепнуть барону два слова о том, что происходит.
— Ах, монсеньер! — вскричала Николь, напуганная разговором, принимавшим такой оборот. — Вы меня погубите. Ведь даже если я и невиновна, меня прогонят по одному подозрению!
— Что ж делать, бедное дитя? Значит, тебя прогонят. Уж не знаю, какой злодей, обладающий извращенным умом, мог найти в этих свиданиях что-то дурное, но, как бы невинны они ни были, о них уже доложили госпоже де Ноай.
— Герцогине де Ноай! Боже милостивый!
— Да, ты сама видишь, что дело не терпит отлагательства.
Николь в отчаянии всплеснула руками.
— Это неприятно, я понимаю, — продолжал Ришелье. — Что же ты собираешься делать?
— А вы? Ведь вы только что называли себя моим покровителем, и вы это доказали… Неужели вы не можете меня защитить? — спросила Николь с лукавством, присущим скорее женщине в тридцать лет.
— Конечно, могу, черт побери!
— И что же, монсеньер?..
— Могу, но не хочу!
— Как, господин герцог?
— Да, ты милая девушка, я знаю, и твои прелестные глазки многое мне говорят, но я уже почти совсем ослеп, бедняжка Николь, и не понимаю языка прелестных глаз. Когда-то я мог бы предложить тебе приют в особняке Гановер, а сегодня к чему мне это? Об этом даже не злословили бы.
— Однако вы уже возили меня в свой особняк, — поморщившись, заметила Николь.
— Как нелюбезно с твоей стороны, Николь, упрекать меня в том, что я возил тебя в свой особняк! Ведь я это сделал для того, чтобы оказать тебе услугу. Признайся, что без волшебной воды господина Рафте, превратившей тебя в прелестную брюнетку, ты не попала бы в Трианон. В конце концов, стоило ли это затевать только ради того, чтобы тебя прогнали, но, с другой стороны, ты сама виновата: за каким чертом назначаешь свидания господину де Босиру, да еще прямо у входа в конюшни?
— Вы даже это знаете? — спросила Николь, решив изменить тактику и всецело положиться на благородство маршала.
— Черт побери! Ты же сама видишь, что мне известно, и не только мне, но и герцогине де Ноай. Да у тебя же свидание назначено на сегодняшний вечер…
— Это правда, ваша светлость. Но даю вам слово, что я не пойду.
— Разумеется, я же тебя предупредил. Зато господин де Босир придет, ведь его никто не предупреждал, и его схватят. Естественно, он не захочет, чтобы его повесили как вора или наказали палками как шпиона, тем более что не так уж неприятно признаться: «Отпустите меня, я любовник малышки Николь».
— Я дам ему знать, господин герцог.
— Дать ему знать ты не сможешь, бедняжечка: через кого, хотел бы я знать, ты его предупредишь? Может, через того, кто тебя выдал?
— Да, да, вы правы, — отвечала Николь, разыгрывая отчаяние.
— Раскаяние тебе к лицу! — воскликнул Ришелье.
Николь спрятала лицо в ладонях, но так, чтобы сквозь пальцы можно было хорошо видеть и не упустить ни одного движения, ни одного взгляда Ришелье.
— Ты в самом деле восхитительна, — похвалил герцог, от которого не скрылась ни одна из ее женских хитростей. — Ах, если бы мне сбросить лет пятьдесят! Ну хорошо, черт меня подери! Николь, я хочу тебе помочь!
— Ах, монсеньер, если вы исполните свое обещание, моя признательность…
— Не нужно мне ничего, Николь. Я готов оказать тебе услугу просто так.
— Это очень мило с вашей стороны, монсеньер, я вам так благодарна.
— Подожди благодарить. Ты же еще ничего не знаешь. Какого черта! Сначала выслушай меня.
— Я на все согласна, господин герцог, лишь бы мадемуазель Андре меня не прогнала.
— Так ты, значит, очень хочешь остаться в Трианоне?
— Больше всего на свете, господин герцог.
— Вот что, милая девочка; выбрось это из головы.
— Но ведь никто меня не видел, господин герцог?
— Видел или нет, тебе все равно придется отсюда убираться.
— Почему?
— Сейчас я тебе все объясню; если тебя видела герцогиня де Ноай, надеяться тебе не на что: даже король тебя не спасет.
— Ах, если бы я могла увидеться с королем!..
— Только этого не хватало, детка! И потом, я сам позабочусь о том, чтобы тебя здесь не было.
— Вы?
— И притом немедленно!
— Откровенно говоря, господин маршал, я ничего не понимаю.
— Как я сказал, так и будет.
— Так вот оно, ваше покровительство?
— Если мое покровительство тебе не нравится, еще есть время, скажи только одно слово, Николь…
— Что вы, господин герцог, напротив, оно мне просто необходимо.
— Я готов тебе его оказать.
— Спасибо.
— Вот что я готов для тебя сделать, послушай!
— Слушаю, монсеньер.
— Вместо того чтобы позволить кому-нибудь выгнать тебя и посадить в тюрьму, я сделаю тебя свободной и богатой.
— Свободной и богатой?
— Да.
— А что от меня требуется, чтобы я стала свободной и богатой? Скажите скорее, господин маршал!
— От тебя требуется сущая безделица.
— Ну, а все-таки?
— То, что я тебе прикажу.
— Это очень трудно?
— Что ты! Это и ребенку по силам!
— Я, стало быть, должна что-то сделать?
— Еще бы! Ты же знаешь закон нашей жизни, Николь: услуга за услугу.
— А то, что я должна буду исполнить, нужно мне или вам?
Герцог взглянул на Николь.
«Ей-Богу, маленькая проказница не такая простушка!» — подумал он.
— Договаривайте, господин герцог.
— Скорее это нужно тебе, — решительно отвечал маршал.
— Ага, — сказала Николь. Она уже начала догадываться, что нужна маршалу. Она перестала его бояться. Ее изобретательный ум изо всех сил пытался разгадать загадку, несмотря на все уловки собеседника. — И что же я должна сделать, господин герцог?
— Вот что. Господин де Босир прибудет в половине восьмого?
— Да, господин маршал, это его обычное время.
— Сейчас десять минут восьмого.
— Верно.
— Если я пожелаю, он будет схвачен.
— Да, но вы этого не хотите.
— Нет. Ты пойдешь к нему и скажешь…
— Что я должна ему сказать?
— Сначала ответь мне, Николь, любишь ли ты его.
— Ну, раз я назначаю ему свидания…
— Это еще не доказательство. Может быть, ты хочешь выйти за него замуж: у женщин бывают иногда такие странные причуды!
Николь расхохоталась.
— Чтобы я вышла за него замуж?
Ришелье был поражен. Даже при дворе нечасто случалось встретить женщину, обладающую такой силой воли.
— Хорошо. Допустим, ты не собираешься выходить за него замуж. Но ведь ты его любишь?
— Положим, что я люблю господина де Босира. А теперь оставим эту тему и перейдем к другой.
— Дьявольщина! Что за плутовка! Куда нам торопиться?
— А как же? Вы должны понимать, что меня интересует…
— Что?
— Я хочу знать, что я должна сделать.
— Прежде всего уговоримся вот о чем: раз ты его любишь, ты должна с ним сбежать.
— Господи! Если уж вы этого так хотите, пожалуй, придется…
— Что ты, детка? Да я ничего не хочу!
Николь поняла, что поторопилась: она не успела еще ни разнюхать тайны, ни выклянчить у своего хитрого противника денег.
Она покорилась, но только затем, чтобы отыграться, когда придет ее время.
— Монсеньер! — сказала она. — Я жду ваших приказаний.
— Так вот, ты пойдешь к господину де Босиру и скажешь: «Нас видели вместе, но у меня есть покровитель, он нас спасет: вас — от Сен-Лазара, меня — от Сальпетриера. Давайте убежим!».
Николь взглянула на Ришелье.
— «Давайте убежим!», — повторила она.
Ришелье понял ее выразительный и недвусмысленный взгляд.
— Ну, конечно, черт побери, я возьму на себя дорожные расходы.
Николь это предложение было по душе. Теперь она во что бы то ни стало решила разузнать все и понять, за что ей платят.
Маршал понял намерение Николь и поспешил сказать все, что собирался, как обыкновенно торопятся расплатиться с долгами, чтобы поскорее о них позабыть.
— Я знаю, о чем ты думаешь, Николь, — проговорил он.
— О чем? Вам так много известно, господин маршал! Бьюсь об заклад, что вы знаете это лучше меня.
— Ты думаешь, что если сбежишь, то твоя хозяйка может случайно хватиться тебя ночью и, не найдя, поднимет тревогу. Одним словом, тебя могут скоро догнать.
— Нет, — отвечала Николь, — я думала не об этом. Понимаете ли, господин маршал, я не вижу причин, по которым я не могла бы здесь остаться.
— А если господина де Босира арестуют?
— Ну и пусть арестуют.
— А если он признается?
— Пусть признается.
— Тогда можешь считать, что ты пропала, — сказал Ришелье, чувствуя, как в его сердце зашевелилось беспокойство.
— Нет, потому что мадемуазель Андре добрая и в глубине души любит меня. Она попросит обо мне короля, и если даже господина де Босира накажут, то мне-то ничего не будет.
Маршал прикусил губу.
— А я тебе говорю, Николь, что ты дурочка, — снова заговорил он. — У мадемуазель Андре не настолько хороши отношения с королем, чтобы она стала о тебе хлопотать, а я прикажу немедленно тебя схватить, если ты не захочешь прислушаться к моим словам. Ты меня поняла, змея?
— Да ведь не круглая же я дура, монсеньер! Я слушаю, а про себя взвешиваю все «за» и «против».
— Ну хорошо. Итак, ты сию минуту пойдешь к господину де Босиру, и вы вместе обдумаете план побега.
— Как же я могу сбежать, господин маршал? Ведь вы сами мне сказали, что мадемуазель может проснуться, хватиться меня, позвать, да мало ли что? Сразу я о многом не подумала, но вы сами, ваша светлость, предупредили меня, ведь вы человек опытный.
Ришелье в другой раз прикусил губу, да еще посильнее, чем прежде.
— Ну что ж, я и об этом подумал, чертовка. Я придумал, как избежать огласки.
— Как же можно помешать госпоже меня позвать?
— Надо не дать ей проснуться.
— Что вы! За ночь она просыпается раз десять. Это невозможно.
— Так она, значит, страдает тем же недугом, что и я? — с невозмутимым видом молвил Ришелье.
— Что и вы? — смеясь переспросила Николь.
— Разумеется, ведь я тоже часто просыпаюсь. Впрочем, у меня есть против бессонницы одно средство. Вот и она поступит, как я. А если не она сама, так ты ей поможешь.
— Как же это, монсеньер?
— Что пьет твоя хозяйка перед сном?
— Что она пьет?
— Да, теперь пошла мода предупреждать жажду: одни пьют оранжад или лимонную воду, другие воду с мелиссой, третьи…
— Мадемуазель выпивает перед сном только стакан воды, иногда с сахаром или с апельсиновой эссенцией, когда бывает чересчур возбуждена.
— Отлично! — воскликнул Ришелье. — Ну точь-в-точь как я! Значит, мое лекарство ей подойдет.
— Какое лекарство?
— Я добавляю в свое питье каплю некой жидкости и сплю всю ночь, не просыпаясь.
Николь старалась додуматься, к чему клонит маршал.
— Почему ты молчишь? — спросил он.
— Мне кажется, что у мадемуазель нет такого лекарства, как у вас.
— Я тебе его дам.
«Ага!» — подумала Николь, начиная, наконец, догадываться о намерениях маршала.
— Ты добавишь две капли своей хозяйке в питье — две капли, слышишь? Ни больше ни меньше, — и она заснет, заснет так, что не будет тебя звать ночью, и у тебя будет довольно времени, чтобы скрыться.
— Если это все, что нужно сделать, то это совсем не трудно.
— Так ты согласна подмешать эти две капли?
— Разумеется.
— Можешь мне это пообещать?
— Мне кажется, это в моих интересах; а потом я хорошенько запру дверь и…
— Нет, нет, — с живостью возразил Ришелье. — Вот этого тебе как раз и не стоит делать. Напротив, ты должна оставить дверь незапертой.
— Да ну?! — воскликнула Николь, ликуя в душе.
Она, наконец, поняла, и Ришелье это почуял.
— Это все? — спросила она.
— Все. Теперь можешь идти к своему капралу и сказать ему, чтобы он собирал вещи.
— Как жаль, монсеньер, что мне не придется говорить ему, чтобы он прихватил с собой кошелек!
— Ты отлично знаешь, что деньги — это мое дело.
— Да, я помню, что вы, монсеньер, были так добры…
— Сколько тебе нужно, Николь?
— Для чего?
— Для того, чтобы подмешать две капли лекарства в стакан с водой?
— За то, чтобы их подмешать, монсеньер, раз вы уверяете, что это в моих интересах, было бы несправедливо заставлять вас платить. А вот чтобы я оставила незапертой дверь в комнату мадемуазель, монсеньер… Должна вас предупредить, что это обойдется вам в кругленькую сумму.
— Договаривай. Называй цену.
— Мне нужно двадцать тысяч ливров, монсеньер.
Ришелье вздрогнул.
— Николь, ты слишком далеко заходишь, — вздохнул он.
— Что же делать, монсеньер. Я начинаю думать, как и вы, что за мной будет погоня. А с этими деньгами я далеко смогу убежать.
— Ступай предупреди господина де Босира, Николь, а я потом отсчитаю тебе твои деньги.
— Монсеньер! Господин де Босир очень недоверчив, вряд ли он поверит мне на слово, если я не представлю ему доказательств.
Ришелье достал из кармана пачку банковских билетов.
— Вот задаток, — сказал он, — а в этом кошельке — сто двойных луидоров.
— Господин герцог желает пересчитать деньги и отдать мне то, что причитается, как только я переговорю с господином де Босиром?
— Нет, черт побери! Я сделаю это сию минуту. Ты практичная девушка, Николь, это залог твоего будущего счастья.
И Ришелье выплатил всю обещанную сумму: частью — банковскими билетами, частью — луидорами и полулуидорами.
— Теперь ты довольна?
— Еще бы! — отвечала Николь. — Теперь мне не хватает самого главного, монсеньер.
— Лекарства?
— Да. У монсеньера флакон, разумеется, при себе?
— Я всегда ношу его с собой.
Николь улыбнулась.
— И еще, — продолжала она, — ворота Трианона на ночь запираются, а у меня нет ключа.
— Мое звание первого дворянина королевских покоев позволяет мне иметь собственный ключ.
— Правда?
— Вот он.
— До чего же все удивительно совпало, — заметила Николь, — можно подумать, что это просто вереница чудес! Ну, теперь прощайте, господин герцог.
— Почему же?
— Очень просто: я больше не увижу вас, монсеньер, потому что отправлюсь, как только мадемуазель заснет.
— Верно, верно. Прощай, Николь.
Накинув капюшон и украдкой улыбнувшись, Николь исчезла в надвигавшихся сумерках.
«Мне опять повезло, — подумал Ришелье, — но, признаться, мне начинает казаться, что удача считает меня слишком старым и служит мне словно против воли. Эта малышка одержала надо мной верх. Ну, ничего, скоро и я отыграюсь».
CXIX. БЕГСТВО.
Николь была девушка добросовестная: она получила деньги от герцога де Ришелье, получила вперед, значит, надо было отплатить за доверие и отработать деньги.
Она побежала напрямик к решетке и была там без двадцати минут восемь вместо половины восьмого.
Привыкший к воинской дисциплине, г-н де Босир был точен: он ждал ее ровно десять минут.
Прошло почти столько же времени с тех пор, как барон де Таверне ушел от дочери. Оставшись одна, Андре задернула занавески.
В это время Жильбер по привычке подглядывал, вернее, пожирал Андре глазами из окна своей мансарды. Вот только трудно было бы с точностью сказать, что выражали его глаза: любовь или ненависть.
Когда занавески были задернуты, Жильберу не на что стало смотреть. Он перевел взгляд в другую сторону.
Тут он заметил шляпу с пером, принадлежавшую г-ну де Босиру, и узнал капрала, который прогуливался и от нечего делать негромко насвистывал.
Через десять минут, то есть без двадцати минут восемь, появилась Николь. Она перекинулась несколькими словами с г-ном де Босиром; он кивнул головой в знак того, что понял ее, и пошел по направлению к небольшой аллее, ведшей в Малый Трианон.
Николь вернулась, порхая подобно птичке.
«Ага! — подумал Жильбер. — Господин капрал и мадемуазель служанка хотят о чем-то поговорить или что-то сделать без свидетелей: отлично!».
Жильбера не интересовала Николь. Но он испытывал к девушке враждебное чувство и пытался собрать побольше способных повредить ее репутации сведений, которые он мог бы представить в том случае, если бы ей вздумалось на него напасть.
Жильбер не сомневался, что военные действия вот-вот начнутся, и, как предусмотрительный солдат, готовился к войне.
То, что он знал о свидании Николь с мужчиной в Трианоне, было мощным оружием, и им не следовало пренебрегать такому умному противнику, как Жильбер, тем более что Николь имела неосторожность почти вложить его Жильберу в руки. Жильберу захотелось услышать подтверждение тому, что он сейчас видел, и перехватить на лету какую-нибудь порочившую Николь фразу, которую он мог бы выставить против девушки, когда придет время сразиться.
Он торопливо спустился из своей мансарды, бросился бегом по коридору через кухни и выскочил в сад по малой лестнице, примыкающей к часовне. Оказавшись в саду, Жильбер успокоился: он знал здесь каждый уголок.
Он шмыгнул под липы, потом добежал до рощи, раскинувшейся шагах в двадцати от того места, где он рассчитывал найти Николь.
Она была уже там.
Едва Жильбер успел спрятаться за деревьями, как его внимание привлек странный звук: это золотая монета со звоном ударилась о камень.
Жильбер как змея скользнул к ограде террасы, густо обсаженной кустами сирени, от которой в мае исходил пьянящий запах; ветки сирени раскачивались над головами прогуливавшихся по этой небольшой аллее, отделяющей Большой Трианон от Малого.
Когда Жильбер добрался туда и его глаза свыклись с темнотой, он увидел, как Николь высыпает деньги на камень по эту сторону решетки, так чтобы их не смог достать г-н де Босир; она доставала их из кошелька, полученного от герцога де Ришелье.
Золотые монеты текли рекой, подпрыгивая и переливаясь, а г-н де Босир с горящим взором и трясущимися руками переводил внимательный взгляд с Николь на луидоры, не понимая, откуда она могла их взять.
Наконец Николь заговорила:
— Вы не раз обещали меня увезти, дорогой господин де Босир…
— И жениться на вас! — с воодушевлением воскликнул капрал.
— Ну, к этому мы еще успеем вернуться, — заметила девушка, — а сейчас главное — убежать. Можно через два часа?
— Да хоть через десять минут, если вам угодно!
— Нет, у меня еще есть кое-какие дела, и на это потребуется два часа.
— Через два часа, так через два часа. Я к вашим услугам, дорогая.
— Отлично! Возьмите пятьдесят луидоров, — девушка отсчитала пятьдесят монет и передала их через решетку де Босиру; тот, не считая, спрятал деньги в кармане камзола, — и через полтора часа ждите меня здесь с каретой.
— Но… — попытался было возразить де Босир.
— Если не хотите, будем считать, что ничего не было; верните мне пятьдесят луидоров.
— Я не отказываюсь, дорогая Николь, я только беспокоюсь о том, что мы будем делать потом.
— За кого вы боитесь?
— За вас.
— За меня?
— Да. Когда мы истратим пятьдесят луидоров, — а мы их рано или поздно истратим — вы станете плакать, жалеть о Трианоне, вы…
— Как вы заботливы, дорогой господин де Босир! Да не бойтесь вы ничего, я не из тех, кого можно сделать несчастной. Пусть вас не мучают угрызения совести. Когда кончатся эти деньги, мы решим, что делать.
И она потрясла кошельком, в котором оставалось еще полсотни луидоров.
Глаза де Босира так и засветились в темноте.
— Ради вас я готов хоть в огонь! — воскликнул он.
— Да что вы, кто же вас об этом просит, господин де Босир? Так мы уговорились? Через полтора часа — карета, а через два — уезжаем!
— Да! — вскричал Босир, схватив Николь за руку и притянув ее к себе в надежде поцеловать через решетку.
— Тише вы! — прошипела Николь. — Вы с ума сошли?
— Нет, я люблю вас!
— Хм! — обронила Николь.
— Вы мне не верите, душа моя?
— Почему не верю? Верю, верю. Постарайтесь найти хороших лошадей.
— Ну, конечно!
На том они и расстались.
Однако через минуту Босир в тревоге вернулся.
— Эй-эй! — позвал он.
— Что такое? — спросила Николь, успев уже довольно далеко уйти и потому приложив ладонь к губам, чтобы ее не услышали чужие уши.
— А как же решетка? — спросил Босир. — Вы сможете перелезть?
— Ну и болван! — прошептала Николь, находясь в эту минуту шагах в десяти от Жильбера.
— У меня есть ключ! — громко сказала она.
Босир, в восхищении чуть слышно вскрикнув, убежал и на сей раз уже не вернулся.
Опустив голову, Николь скорым шагом направилась к дому.
Когда Жильбер остался один, он задал себе четыре вопроса:
«Почему Николь решила убежать с Босиром, которого она не любит?».
«Откуда у Николь так много денег?».
«Где Николь взяла ключ от решетки?».
«Зачем Николь, вместо того чтобы сбежать немедленно, возвращается к Андре?».
Жильбер мог еще понять, откуда у Николь деньги. Но на другие вопросы он не находил ответа.
Его врожденное любопытство или благоприобретенная подозрительность — как вам больше нравится — не давали ему покоя. Несмотря на то что было уже свежо, он решил провести ночь под открытым небом, под влажными от росы деревьями, и дождаться развязки сцены, начало которой он сейчас только видел.
Андре проводила отца до самой решетки Большого Трианона. Она в задумчивости возвращалась назад, когда Николь бегом выскочила ей навстречу из аллеи, той самой, что вела к знаменитой решетке, где она недавно обо всем уговорилась с г-ном де Босиром.
Заметив хозяйку, Николь остановилась и, повинуясь молчаливому приказанию Андре, поднялась вслед за ней в комнату.
Было около половины девятого вечера. Темнота наступила раньше обычного, потому что огромная черная туча, двигавшаяся с юга на север, заволокла небо над Версалем; стоило поднять глаза к вершинам самых высоких деревьев, как становилось видно, что везде, куда проникал взгляд, темная пелена окутала звезды, еще за минуту до того сверкавшие на лазурном небосводе.
Несильный удушливый ветер дышал жаром на жаждущие цветы, и они наклоняли головки, словно выпрашивая у неба дождя или хотя бы росы.
Непогода не испугала Андре; девушка была так грустна и задумчива, что не только не ускорила шаг, но, напротив, ступала будто против воли, поднимаясь по лестнице к себе в комнату; она останавливалась у каждого окна, глядя на небо, вид которого соответствовал ее расположению духа, и оттягивала таким образом возвращение в свои скромные апартаменты.
Раздосадованная Николь кипела от нетерпения, боясь, как бы ее не задержала какая-нибудь причуда хозяйки; горничная сердито ворчала себе под нос, посылая хозяйке проклятия — на них никогда не скупятся слуги, если неосторожные хозяева позволяют себе некоторые вольности в ущерб интересам лакеев.
Наконец Андре добралась до своей комнаты, толкнула дверь и скорее рухнула, чем села в кресло. Она едва слышно попросила Николь приоткрыть выходившее во двор окно.
Николь повиновалась.
Затем она вернулась к хозяйке с заботливым видом, который плутовка так ловко умела на себя напускать в нужную минуту.
— Боюсь, что мадемуазель нынче не совсем здорова, — заметила она. — У мадемуазель красные припухшие глаза, и они как-то неестественно блестят. Мне кажется, вам необходимо отдохнуть.
— Ты так думаешь, Николь? — не слушая, пробормотала Андре и в изнеможении вытянула ноги на ковре.
Николь поняла это как приказание раздеть хозяйку и стала развязывать ленты и вынимать цветы из ее прически, напоминавшей огромную башню, и даже очень ловкие руки не могли бы разобрать ее скорее чем за четверть часа.
За все это время Андре не проронила ни звука. Предоставленная самой себе, Николь делала свое дело довольно неосторожно, но Андре словно не замечала боли — так сильно она была озабочена.
Окончив вечерний туалет, Андре отдала распоряжения на следующий день. Рано утром надо было отправиться в Версаль за книгами, переданными Филиппом для сестры. Кроме того, надо было сходить за настройщиком и пригласить его в Трианон, чтобы он исправил клавесин.
Николь спокойно отвечала, что если ее не станут будить среди ночи, то она встанет пораньше и все поручения будут исполнены прежде чем мадемуазель успеет проснуться.
— Завтра я напишу Филиппу, — продолжала Андре, разговаривая сама с собой, — да, напишу-ка я Филиппу: это меня немного успокоит.
— Во всяком случае, — едва слышно прошептала Николь, — не мне придется относить это письмо!
Однако девушка была еще не окончательно испорчена — она с грустью подумала, что впервые в жизни собирается покинуть свою прекрасную хозяйку, рядом с которой пробудились ее разум и сердце. Мысль об Андре была для нее связана со многими воспоминаниями; вся ее жизнь промелькнула у нее перед глазами, воспоминания детства так и нахлынули на нее.
Пока обе девушки, столь непохожие по характеру и положению, размышляли каждая о своем, время неудержимо шло вперед. Небольшие часы Андре, всегда шедшие немного впереди часов Трианона, пробили девять.
Босиру уже пора было явиться на свидание, и у Николь оставалось не более получаса, чтобы присоединиться к своему поклоннику.
Она торопливо раздела хозяйку и, не удержавшись, несколько раз вздохнула, однако Андре не обратила на это никакого внимания. Николь помогла ей надеть длинный пеньюар. Андре находилась во власти своих мыслей, она продолжала стоять не двигаясь, устремив взгляд в потолок. Николь вынула из-за корсажа флакон, который ей дал герцог де Ришелье, бросила два кусочка сахару в стакан с водой, затем усилием воли, необычайно сильной для такого юного существа, она заставила себя подмешать в стакан две капли жидкости из флакона; вода тотчас стала мутной и приобрела опаловый оттенок, потом мало-помалу опять стала прозрачной.
— Мадемуазель! — заговорила Николь. — Питье готово, платья сложены, лампа зажжена. Вы знаете, что мне завтра нужно рано встать. Можно мне сейчас пойти лечь?
— Можно, — рассеянно отвечала Андре.
Николь присела в реверансе, в последний раз вздохнула, что опять осталось не замеченным хозяйкой, и прикрыла за собой застекленную дверь, выходившую в крохотную прихожую.
Не заходя в свою комнатку, смежную с коридором и освещаемую лампой из прихожей, она легонько выскользнула из апартаментов Андре, неплотно притворив входную дверь: указания Ришелье были в точности выполнены.
Чтобы не привлекать внимания соседей, она крадучись спустилась по лестнице в сад, спрыгнула с крыльца и бегом бросилась к решетке, где ее ждал г-н де Босир.
Жильбер не оставил своего поста. Ведь он слышал, что Николь обещала вернуться через два часа; он стал ждать. Однако, когда прошло минут десять после назначенного времени, он испугался, что она вообще не придет.
Вдруг он заметил Николь: она бежала так, словно за ней гнались.
Она подбежала к решетке и просунула Босиру сквозь прутья ключ; Босир отворил ворота; Николь выскочила из ворот, и они со скрежетом затворились.
Ключ был заброшен в поросшую травой канаву, немного ниже того места, где залег Жильбер; молодой человек услышал глухой удар и запомнил то место, куда ключ упал.
Николь и Босир бросились бежать. Жильбер прислушивался к их удалявшимся шагам и скоро уловил не стук колес, как он ожидал, а конский топот; Жильбер представил себе упреки Николь, мечтавшей укатить в экипаже, словно герцогиня. Вскоре копыта подкованного коня зацокали по мощеной дороге.
Жильбер облегченно вздохнул.
Он был свободен, он избавился от Николь — самого страшного своего врага. Андре осталась одна; возможно, убегая, Николь оставила ключ в двери; может быть, Жильберу удастся пробраться к Андре.
При этой мысли молодой человек так и затрепетал от охвативших его противоречивых чувств; в нем боролись страх и неуверенность, любопытство и желание.
Следуя той же дорогой, по какой только что бежала Николь, но в обратном направлении, он поспешил к службам.
СХХ. ПРОВИДЕНИЕ.
Оставшись в одиночестве, Андре мало-помалу оправилась от охватившего ее смятения, и в то время, когда Николь уезжала, пристроившись на коне позади г-на де Босира, ее хозяйка, стоя на коленях, горячо молилась за Филиппа — единственного на земле, кого она глубоко и искренне любила.
Андре молилась, исполненная безграничной веры в Бога. Ее молитва состояла обыкновенно из не связанных между собой слов; она представляла собой нечто вроде восторженного обращения, где девичья душа воспаряла к Богу и сливалась с ним.
В этих страстных мольбах, когда, казалось, душа отделялась от тела, не было и тени эгоизма. Андре забывала о себе, подобно терпящему кораблекрушение, потерявшему надежду и молящемуся уже не за себя, а за жену и детей, ибо им суждено остаться сиротами.
Боль закралась в сердце Андре со времени отъезда ее брата. В ней, так же как и в молитве, сочетались два начала, один из которых был неясен и самой девушке.
Это было похоже на предчувствие скорого несчастья. Ее ощущения напоминали покалывание в заживающей ране. Сильная боль уже прошла, однако воспоминание о ней еще надолго остается и не дает забыть о боли, мучая не меньше, чем еще недавно сама рана.
Андре даже не пыталась понять, что с ней происходит. Отдавшись воспоминаниям о Филиппе, она приписывала свое возбуждение тому, что постоянно думала о любимом брате.
Наконец она встала, выбрала себе книгу из скромной библиотеки, подвинула свечу поближе к изголовью и легла в постель.
Книга, которую она выбрала, вернее, взяла наугад, оказалась словарем по ботанике. Как нетрудно догадаться, она была не из тех книг, которые могли бы заинтересовать Андре; напротив, она ее скоро утомила. Вскоре пелена, вначале прозрачная, а затем становившаяся все более плотной и мутной, опустилась ей на глаза. Девушка пыталась некоторое время бороться со сном, удерживая упрямо ускользавшую мысль, потом, не в силах продолжать борьбу, наклонила голову, чтобы задуть свечу, и тут взгляд ее упал на стакан с водой, приготовленной Николь. Она протянула руку, взяла стакан, и, зажав в другой руке ложечку, размешала наполовину растаявший сахар. Уже засыпая, она поднесла стакан к губам.

Как только губы Андре коснулись воды, рука ее сильно задрожала и девушка почувствовала в голове тяжесть. Андре с ужасом испытала уже знакомое сильнейшее возбуждение, и в то же время ее словно сковала чужая воля, которая уже не раз опустошала ее душу и подавляла разум.
Едва она успела поставить стакан на тарелку, как почти в ту же секунду из ее приоткрытых губ вырвался вздох и ей перестали повиноваться голос, зрение, разум. Она рухнула на подушку как подкошенная, оказавшись во власти почти смертельного оцепенения.
Впрочем, это подобие обморока оказалось минутным и было лишь переходом из одного состояния в другое.
Только что она лежала как мертвая, словно навсегда закрыв прекрасные глаза, и вдруг поднялась, открыла глаза, поражавшие неподвижностью взгляда, и, будто мраморная статуя, сходящая с надгробия, спустилась с постели.
Сомнений больше быть не могло: Андре спала тем самым волшебным сном, что уже несколько раз словно приостанавливал ее жизнь.
Она прошла через всю комнату, распахнула застекленную дверь и вышла в коридор на негнущихся ногах, словно ожившая статуя.
Не раздумывая, Андре стала спускаться по лестнице, машинально переставляя ноги; скоро она очутилась на крыльце.
В ту минуту, когда Андре занесла ногу над верхней ступенькой, Жильбер собирался подняться по той же лестнице.
Когда Жильбер увидел девушку, двигавшуюся величавой поступью в развевающихся белых одеждах, ему почудилось, что она идет прямо на него.
Он попятился и отступил в аллею грабов.
Он вспомнил, что видел однажды Андре в таком же состоянии в замке Таверне.
Андре прошла мимо Жильбера, задев его платьем, но так и не заметила юношу.
Молодой человек был раздавлен, он совершенно потерялся, ноги у него подкосились от страха, он осел.
Не зная, чему приписать странное поведение Андре, он провожал ее взглядом. Мысли его путались, кровь стучала в висках. Он скорее был близок к помешательству, чем спокоен и сосредоточен, как надлежит наблюдателю.
Он сидел, скорчившись в траве, и продолжал наблюдать за Андре. Это было его привычное занятие с тех самых пор, как в его сердце вспыхнула роковая страсть.
Внезапно таинственное появление Андре получило разгадку: девушка не сошла с ума, как он было подумал. Ровным и безжизненным шагом она шла на свидание.
В эту минуту в небе сверкнула молния.
В голубоватом свете вспышки Жильбер увидел мужчину, скрывавшегося в темной липовой аллее. Жильбер успел заметить, что у него бледное лицо и одет он небрежно.
Андре шла к этому господину; он протянул руку, будто притягивая ее к себе.
Словно раскаленное железо пронзило сердце Жильбера. Он привстал на колени, чтобы лучше видеть.
В это время другая вспышка вспорола темноту.
Жильбер узнал Бальзамо, он увидел, что тот взмок от пота и с головы до ног покрыт пылью. Бальзамо какой-то хитростью проник в Трианон. Как птица, завороженная взглядом змеи, Андре двигалась навстречу Бальзамо.
В двух шагах от него она замерла.
Он взял ее за руку. Андре вздрогнула.
— Вы видите? — спросил он.
— Да, — отвечала Андре. — Однако должна вам заметить, что, вызывая меня таким образом, вы едва меня не погубили.
— Простите, простите! — воскликнул Бальзамо. — Но у меня просто голова идет кругом, я сам не свой, я теряю рассудок, умираю!
— Вы в самом деле страдаете, — подтвердила Андре, угадывая по его прикосновению, в каком состоянии он находится.
— Да, да, я страдаю и пришел к вам за утешением. Только вы можете меня спасти.
— Спрашивайте меня.
— Во второй раз, вы заметили?
— О, конечно.
— Хотите вы следовать за мной? Вы можете это сделать?
— Могу, если вы мысленно будете меня направлять.
— Идите.
— Вот мы входим в Париж, — сказала Андре, — идем по бульвару, спускаемся по темной улице, освещенной одним-единственным фонарем.
— Да, да. Входите же!
— Мы в передней. Справа лестница, но вы подводите меня к стене; она раздвигается, впереди — ступеньки.
— Поднимайтесь! Поднимайтесь! — вскричал Бальзамо. — Мы на верном пути!
— Ну, вот мы и в комнате. Повсюду львиные шкуры, оружие. Ах! Каминная доска отодвигается.
— Давайте пройдем! Где вы сейчас?
— В необычной комнате: в ней нет двери, окна зарешечены… Какой здесь беспорядок!
— Но в ней ведь никого нет, правда?
— Никого.
— Вы можете увидеть женщину, что здесь жила?
— Да, если у меня будет какой-нибудь предмет, к которому она прикасалась или который ей принадлежит.
— Держите: это ее локон.
Андре взяла волосы и прижала их к себе.
— Я ее узнаю, — сказала она. — Я уже видела эту женщину, когда она убегала от вас в Париж.
— Верно, верно. Вы можете сказать, что она делала последние два часа и как она сбежала?
— Погодите, погодите… Да… Она лежит на софе, у нее полуобнажена грудь, в груди — рана…
— Смотрите, Андре, смотрите, не теряйте ее из виду.
— Она спала… Теперь проснулась… Озирается, достает платок, взбирается на стул, привязывает платок к решетке на окне… О Господи!
— Так она в самом деле жаждет смерти?
— Да, она решилась. Но ее пугает такая смерть. Она оставляет платок… Спускается… Ах, бедняжка!..
— Что?
— Как она плачет!.. Как она страдает! Ломает руки… Выбирает угол, чтобы разбить себе об него голову.
— Боже, Боже! — пробормотал Бальзамо.
— Бросается на камин. По обеим сторонам камина два мраморных льва. Она собирается разбить голову об одного из них.
— Дальше? Что дальше? Смотрите, Андре, смотрите! Я вам приказываю!
— Останавливается…
Бальзамо облегченно вздохнул.
— Смотрит…
— Куда?
— Она заметила кровь в глазу у льва.
— Господи Боже! — прошептал Бальзамо.
— Да, видит кровь, но не удивляется. Странно: это не ее кровь, а ваша.
— Эта кровь — моя? — воскликнул Бальзамо.
— Да, ваша, ваша! Вы поранили руку ножом, вернее — кинжалом, и выпачканным в крови пальцем нажали на глаз льва. Я вас вижу.
— Вы правы, правы. Но как же она убежала?
— Погодите, погодите! Вот она разглядывает кровь, задумалась, потом нажимает пальцем туда же, куда и вы. Ага, львиный глаз поддается, распрямляется пружина. Каминная доска отворяется.
— Как я неосторожен! — вскричал Бальзамо. — Какая неосмотрительность! Несчастный! Какой же я глупец! Я сам во всем виноват… А она выходит? Убегает?
— Надо простить ее, бедняжку! Она была так несчастна!
— Где она? Куда направляется? Идите за ней, Андре, я вам приказываю!
— Подождите! Она задерживается в комнате, украшенной оружием и шкурами. Один из шкапов не заперт. Шкатулка, которая обыкновенно бывает спрятана в этом шкапчике, теперь лежит на столе. Она узнает шкатулку и прихватывает ее с собой.
— Что в шкатулке?
— Ваши бумаги, я полагаю.
— Как она выглядит?
— Обтянута синим бархатом, обита серебряными гвоздиками, с серебряными застежками и серебряным же замком.
— Да! — проговорил Бальзамо, в сердцах топнув ногой. — Значит, это она взяла шкатулку?
— Да, да, она. Она спускается по лестнице, ведущей в переднюю, отворяет дверь, дергает за цепочку, и входная дверь тоже поддается; она выходит на улицу.
— В котором часу?
— Должно быть, поздно: на улице темно.
— Тем лучше: по всей вероятности, она ушла незадолго до моего возвращения, я еще успею ее догнать. Идите, идите за ней, Андре!
— Выйдя из дому, она бежит как сумасшедшая, выбегает на бульвар… Бежит, бежит, не останавливаясь.
— В какую сторону?
— В сторону Бастилии.
— Вы все еще видите ее?
— Да, она будто лишилась рассудка, натыкается на прохожих. Наконец останавливается, пытается узнать, где она… Спрашивает…
— Что она говорит? Слушайте, Андре, слушайте, Небом вас заклинаю: не упустите ни единого слова. Вы говорили, что она спрашивает?..
— Да, у господина, одетого в черное.
— О чем она его спрашивает?
— Она спрашивает, где живет начальник полиции.
— Так, значит, это была не пустая угроза… Он ей отвечает?
— Да, называет адрес.
— Что она делает?
— Возвращается, идет по другой улочке, проходит через площадь…
— Через Королевскую площадь, верно… Вы можете узнать, каковы ее намерения?
— Бегите скорее, не медлите! Она собирается на вас донести. Если она вас опередит, если она встретится с господином де Сартином — вы пропали!
Бальзамо громко вскрикнул, бросился в кусты, выскочил через небольшую калитку, которую отворила и затворила какая-то тень, и одним махом вскочил на своего коня Джерида, рывшего копытом землю возле калитки.
Конь, подстегнутый голосом и шпорами, взвился и полетел стрелой по направлению к Парижу, и был слышен лишь стремительно удалявшийся стук его копыт.
Бледная Андре некоторое время стояла, не двигаясь. Бальзамо как бы унес с собой ее жизнь: скоро она обессилела и рухнула наземь.
В погоне за Лоренцой Бальзамо забыл разбудить Андре.
CXXI. КАТАЛЕПСИЯ.
Андре обессилела не сразу, как мы уже сказали, а постепенно, и мы сейчас попытаемся это описать.
Всеми покинутая, Андре почувствовала, как сердце ее словно застыло после нервного потрясения, которое ей довелось только что пережить. Она зашаталась и вздрогнула всем телом, будто у нее начинался эпилептический припадок.
Жильбер по-прежнему находился неподалеку; он замер, наклонившись вперед и не сводя с нее глаз. Понятно, что Жильбер, не имевший никакого понятия о явлениях магнетизма, даже представить себе не мог, что Андре спит и что она вышла не по своей воле. Он ничего или почти ничего не расслышал из ее разговора с Бальзамо. Вот уже во второй раз в Трианоне, как когда-то в Таверне, ему показалось, что Андре словно повинуется приказаниям этого человека, оказывавшего на нее страшное, необъяснимое влияние. Жильбер так объяснил себе происходившее: «У мадемуазель Андре есть любовник, во всяком случае, есть человек, которого она любит и с которым встречается по ночам».
Хотя Андре и Бальзамо разговаривали шепотом, их встреча была похожа на ссору. У Бальзамо был растерянный вид. Он словно обезумел; когда он убегал, он был похож на отчаявшегося любовника. Андре, стоявшая молча, неподвижно, напоминала брошенную возлюбленную.
В это мгновение Жильбер увидел, что девушка покачнулась, заломила руки; ноги у нее подкосились. Из ее груди рвались глухие, сдавленные, похожие на рыдания звуки; она всем своим существом пыталась отразить неровный поток флюидов, воспринятый ею во время магнетического сна благодаря своему дару прови́дения, а чего она благодаря прови́дению достигла — это мы уже видели в предыдущей главе.
Магия возобладала над природой: Андре так и не смогла полностью освободиться от гипноза, от которого Бальзамо забыл ее избавить. Ей не удалось разорвать связывавшие ее таинственные путы; вступив сними в неравный бой, она забилась в конвульсиях, подобно мифическим пифиям, извивавшимся на своих треножниках на виду у жрецов, собиравшихся под колоннами храма в ожидании ответа на свои вопросы.
Андре потеряла равновесие и с жалобным стоном упала на песок, будто пораженная громом, прорвавшим тишину.
Но не успела она коснуться земли, как Жильбер, словно молодой тигр, прыгнул к ней, подхватил ее на руки, и, не чувствуя тяжести, понес в комнату, которую она покинула, повинуясь зову Бальзамо; там все так же горела свеча, освещая смятую постель.
Жильбер обнаружил, что все двери не были заперты, как их оставила Андре.
Войдя в комнату, он натолкнулся на софу и опустил на нее холодное безжизненное тело.
Его охватил жар от прикосновения к неподвижной Андре; он дрожал от возбуждения, и кровь закипала в его жилах.
Однако первая мысль, пришедшая ему в голову, была чиста и невинна: он во что бы то ни стало хотел оживить эту прекрасную статую. Он поискал глазами графин, чтобы брызнуть ей водой в лицо и привести ее в чувство.
Но в ту самую минуту, когда он протянул дрожащую руку к хрустальному кувшину с узким горлышком, ему почудилось, будто скрипнула половица; он прислушался: кто-то уверенным и в то же время легким шагом поднимался по лестнице, сложенной из камня и дерева, что вела в комнату Андре.
Это не могла быть Николь — ведь она убежала с г-ном де Босиром; это не мог быть Бальзамо: он ускакал галопом на Джериде.
Следовательно, это был кто-то чужой.
Если бы Жильбера кто-нибудь увидел в комнате Андре, его бы немедленно изгнали. Андре была для него столь же недосягаема, как испанская королева для своего подданного: он не мог к ней прикоснуться даже для того, чтобы спасти ей жизнь.
Все эти мысли вихрем промчались в его голове раньше, чем незнакомец успел поставить ногу на следующую ступеньку.
Шаги становились все ближе, но Жильберу было трудно определить точно, как далеко от двери находится незнакомец, потому что на дворе разыгралась сильная буря; обладая редким хладнокровием и завидной осторожностью, молодой человек понял, что ему здесь не место, что ему прежде всего необходимо остаться незамеченным.
Он поспешно задул свечу, освещавшую комнату Андре, и бросился в кабинет, служивший спальней служанке. Расположившись у застекленной двери, он мог видеть, что происходит в комнате Андре и в передней.
В передней на маленьком столике с выгнутыми ножками горел ночник. Жильбер хотел было задуть его, как и свечу, но не успел; под ногой незнакомца в коридоре скрипнул пол, и на пороге появился немного запыхавшийся господин; он робко проскользнул в переднюю, прикрыл за собой входную дверь и запер на задвижку.
Жильбер в последнее мгновение успел скрыться в комнате Николь, притворив за собой застекленную дверь.
Он затаил дыхание, прильнул к стеклу и стал слушать.
Гром торжественно грохотал; крупные дождевые капли стучали по витражу в комнате Андре и по оконному стеклу в коридоре; рама этого окна, оставленная незапертой, скрипела в петлях, и время от времени гулявший там ветер хлопал ею.
Но смятение в природе и доносившийся с улицы шум, как ни были они ужасны, не имели для Жильбера ровно никакого значения: все его мысли, его жизнь, его душа слились в одном только взгляде, прикованном к этому господину.
Посетитель миновал переднюю, пройдя в двух шагах от Жильбера и без колебания вошел в комнату.
Жильбер увидел, как он подобрался к постели Андре, выразил удивление, не обнаружив ее на месте, и почти тотчас же нащупал рукой свечу на столе.
Свеча упала; Жильбер услышал, как на мраморном столе разбилась хрустальная розетка подсвечника.
Человек позвал приглушенным голосом:
— Николь! Николь!
«Как Николь? — подумал про себя Жильбер. — Почему же этот господин, вместо того чтобы окликнуть Андре, зовет Николь?».
Не дождавшись ответа, незнакомец поднял подсвечник и на цыпочках пошел в переднюю, чтобы зажечь свечу от ночника.
Жильбер стал напряженно всматриваться в странного ночного посетителя; в эту минуту он мог бы все увидеть даже сквозь стену — так сильно в нем было желание разглядеть лицо этого господина.
Вдруг Жильбер вздрогнул и, позабыв о том, что он в надежном укрытии, отступил на шаг от двери.
При двойном свете ночника и свечи Жильбер узнал в господине, державшем в руке подсвечник, самого короля. Он похолодел и почти помертвел от ужаса.
Ему все стало ясно: бегство Николь, деньги, которые она считала с г-ном де Босиром, оставленная незапертой дверь — он видел теперь насквозь и Ришелье и Таверне; он понял всю эту таинственную и отвратительную интригу, где центром была Андре.
Жильбер догадался, почему король звал Николь, пособницу преступления, услужливую, продавшую и предавшую свою хозяйку, как Иуда.
Едва он представил себе, зачем король пришел в эту комнату и что сейчас произойдет на его глазах, кровь бросилась Жильберу в лицо и он потерял голову.
Он был готов закричать, но безотчетный непреодолимый страх, что он испытывал перед этим человеком, носившим гордое имя короля Франции, лишил Жильбера дара речи.
Тем временем Людовик XV со свечой в руках вернулся в комнату.
Как только он вошел, он сразу заметил Андре в пеньюаре из белого муслина, совсем не скрывавшем ее наготы. Она полулежала на софе, откинув голову на спинку и закинув одну ногу на диванную подушку; другая нога, безжизненная и обнаженная, свисала на пол — туфельку Андре потеряла.
Король улыбнулся. В неверном свете его улыбка казалась страшной. Вслед за тем почти такая же страшная улыбка заиграла на губах Андре.
Людовик XV прошептал несколько слов; Жильбер принял их за любовное признание. Поставив подсвечник на стол, он бросил взгляд на охваченное пламенем небо, а затем опустился перед девушкой на колени и поцеловал ей руку.
Жильбер вытер со лба пот. Андре не шевельнулась.
Почувствовав, как холодна ее рука, король взял ее в свою руку, чтобы согреть, а другой рукой обнял красавицу за талию, склонился к ее уху, чтобы прошептать нежные слова любви, и коснулся щекой ее лица.
Жильбер пошарил в карманах и облегченно вздохнул, нащупав в куртке рукоятку длинного ножа, которым он обреза́л ветви грабов в парке.
Лицо Андре было таким же холодным, как и рука.
Король поднялся, взгляд его упал на босую ногу Андре, белую и маленькую, как у Золушки. Король взял ее в руки и содрогнулся: нога была холодна, как у мраморной статуи.
Жильбер пришел в сильное возбуждение при виде красивой девушки; ему казалось, что сластолюбец-король обкрадывает его; он заскрежетал зубами и раскрыл сложенный нож.
Но король уже выпустил ногу Андре из рук; сон девушки удивил его: вначале ему казалось, что это кокетливая стыдливость; он пытался понять, почему так холодны руки и ноги у этого восхитительного создания; он спрашивал себя, почему тело девушки так холодно и неподвижно.
Он распахнул пеньюар Андре, обнажив девичью грудь, и пугливо и в то же время плотоядно дотронулся до нее, желая узнать, бьется ли ее сердце в этой ледяной груди, округлостью и белизной соперничавшей с алебастровой.
Жильбер высунулся из-за двери, держа нож наготове; его глаза сверкали, зубы были плотно сжаты; если бы король продолжал свои поползновения, Жильбер заколол бы его, а потом покончил бы с собой.
Ужасающий удар грома потряс комнату; королю показалось, что дрогнула софа, около которой он стоял на коленях; желто-фиолетовая вспышка осветила лицо Андре, придав ему мертвенный оттенок; Людовик XV пришел в ужас и от бледности, и от неподвижности, и от молчания ее. Он отступил, пробормотав едва слышно:
— Да ведь она мертва!
При мысли, что он обнимал труп, король задрожал. Он взял свечу в руки, вернулся к Андре и стал разглядывать ее в неверном свете пламени. Он увидел, что губы ее посинели, под глазами — темные круги, волосы разметались, грудь неподвижна; он вскрикнул, выронил подсвечник, зашатался и, покачиваясь как пьяный, вышел в переднюю, потеряв голову от страха и натыкаясь на стены.
С лестницы донеслись его торопливые шаги, потом заскрипел песок в саду, и вскоре ничего не стало слышно, кроме мощных порывов ветра, пригибавшего к земле деревья.
Не выпуская из рук ножа, хмурый, притихший Жильбер вышел из своего укрытия. Он замер на пороге комнаты и залюбовался юной красавицей, объятой глубоким сном.
Все это время оброненная королем свеча продолжала гореть на полу, освещая изящную ножку неподвижной девушки.
Жильбер медленно спрятал нож; на лице его появилось выражение непреклонной решимости; он подошел к двери, в которую вышел король, и прислушался.
Он слушал долго. Потом, как и король, он запер дверь на задвижку и задул огонь в ночнике.
Так же медленно, сверкая глазами, он вернулся в комнату Андре и раздавил ногой свечу; воск растекся по паркету.
Внезапно наступившая темнота скрыла мрачную улыбку, заигравшую на его губах.
— Андре! Андре! — зашептал он. — Я предрек, что в третий раз тебе от меня не уйти. Андре! Андре! У страшного романа, который ты мне приписала, должна быть страшная развязка.
Протянув руки, он шагнул к софе, где без чувств лежала Андре, по-прежнему холодная и неподвижная.
CXXII. ВОЛЯ.
Читатели видели, как ускакал Бальзамо.
Джерид летел, обгоняя ветер. Бледный от нетерпения и ужаса, всадник пригибался к развевавшейся гриве и приоткрытым ртом ловил воздух, который конь рассекал подобно тому, как корабль рассекает морские волны.
По обеим сторонам дороги мелькали, как во сне, дома и деревья, и сейчас же исчезали из виду. Когда на дороге попадались тяжелые поскрипывавшие повозки, запряженные пятеркой лошадей, лошади шарахались при приближении Джерида, мчавшегося со скоростью метеорита, и ничто, наверно, не могло заставить их поверить в то, что Джерид одной с ними породы.
Так Бальзамо проскакал около льё. Голова его пылала, глаза горели, он шумно дышал; в наше время поэты могли бы его сравнить разве что с грозными и тяжелыми, дышащими огнем и паром чудовищными машинами, что летят по железным дорогам.
Конь и всадник в несколько мгновений миновали Версаль, стрелой промелькнув перед глазами редких прохожих, успевавших заметить только вылетавшие из-под копыт искры.
Бальзамо проскакал еще одно льё. Джериду понадобилось меньше четверти часа, чтобы оставить эти два льё позади, но Бальзамо казалось, что прошла целая вечность.
Вдруг Бальзамо поразила одна мысль.
Он резко натянул поводья. Джерид присел на задние ноги, а передними уперся в песок.
И конь и наездник с минуту отдыхали. Бальзамо поднял голову. Затем он вытер платком кативший градом пот и, подставив лицо ночному ветру, проговорил:
— Какой же ты безумец! Ни бег твоего коня, ни твое самое страстное желание никогда не смогут обогнать ни молнии, ни электрического разряда. А ведь чтобы отвести нависшее над твоей головой несчастье, необходимы молниеносный удар, мощное потрясение, способные парализовать чужую волю; тебе нужно на расстоянии усыпить рабыню, вышедшую из повиновения. Если ей суждено когда-нибудь ко мне вернуться…
Заскрежетав зубами, Бальзамо в отчаянии махнул рукой.
— Все напрасно, Бальзамо! Напрасно ты так торопишься! — вскричал он. — Лоренца уже там: сейчас она все расскажет, возможно, уже все рассказала. Презренная! Какую пытку мне для тебя придумать?
Ну-ну, — нахмурив брови, продолжал он, глядя в одну точку и взявшись рукой за подбородок. — Что же тогда наука: пустые слова или дела? Может она хоть что-нибудь или не может ничего? Ведь я этого хочу!.. Так попытаемся… Лоренца! Лоренца! Приказываю тебе уснуть! Лоренца, где бы ты сейчас ни находилась, засни! Засни! Я так хочу! Я на это рассчитываю!
Нет, нет, — в отчаянии прошептал он, — нет, я сам себя обманываю; я сам в это не верю; нет, я не смею в это поверить. Однако воля может все. Ведь я так страстно этого желаю, я хочу этого всем своим существом! Рассекай воздух, моя воля! Обойди все подводные течения враждебных и равнодушных проявлений чужой воли; пройди сквозь стены, подобно пушечному ядру; следуй за ней всюду, куда бы она ни отправилась; ударь ее, убей! Лоренца, Лоренца! Приказываю тебе уснуть! Лоренца, я хочу, чтобы ты замолчала!
Он несколько минут настойчиво повторял про себя эти слова, будто помогая им разбежаться и осилить расстояние от Версаля до Парижа. После этого таинственного действа, в котором несомненно участвовали все атомы его тела и которому помогал сам Господь, хозяин и повелитель всего сущего, Бальзамо, по-прежнему стиснув зубы и сжав кулаки, подстегнул Джерида, но так, что тот не почувствовал на этот раз ни удара коленом, ни шпоры.
Можно было подумать, что Бальзамо хочет сам себя в чем-то убедить.
С молчаливого согласия хозяина благородный скакун, как свойственно его породе, легко и почти неслышно переступал тонкими породистыми ногами по вымощенной камнем дороге.
На первый взгляд могло показаться, что Бальзамо проиграл. Однако он все это время обдумывал создавшееся положение. В ту самую минуту, когда Джерид ступил на улицы Севра, у Бальзамо созрел план.
Подъехав к решетке парка, он остановился и огляделся. Было похоже, что он кого-то поджидает.
И действительно, почти тотчас же от калитки отделился какой-то человек и подошел к нему.
— Это ты, Фриц? — спросил Бальзамо.
— Да, хозяин.
— Тебе удалось что-нибудь узнать?
— Да.
— Графиня Дюбарри в Париже или в Люсьенне?
— В Париже.
Бальзамо с нескрываемым торжеством посмотрел на небо.
— Как ты сюда добрался?
— Верхом на Султане.
— Где он?
— На постоялом дворе.
— Он оседлан?
— Да.
— Хорошо. Приготовься к отъезду.
Фриц пошел отвязывать Султана. Это был славный конь немецкой породы, прекрасного нрава; правда, такие лошади не очень выносливы, но они идут вперед, пока у них хватает дыхания, а хозяин не позабудет дать им шпоры.
Фриц снова подошел к Бальзамо.
Тот что-то писал при свете фонаря, в котором приспешники дьявола всю ночь поддерживали огонь для осуществления своих козней.
— Возвращайся в Париж, — сказал он. — Во что бы то ни стало разыщи графиню Дюбарри и передай ей в руки эту записку, — приказал Бальзамо. — Даю тебе полчаса. Потом отправляйся на улицу Сен-Клод и жди там синьору Лоренцу — она непременно должна вернуться. Ты впустишь ее, не говоря ни слова, не чиня ей ни малейшего препятствия. Иди и помни: через полчаса твое поручение должно быть выполнено.
— Хорошо, — отвечал Фриц, — будет исполнено.
С этими словами он пришпорил Султана и ударил его хлыстом. Удивившись такому непривычно грубому обращению, Султан с жалобным ржанием пустился вскачь.
Мало-помалу придя в себя, Бальзамо поехал в Париж и спустя три четверти часа уже въезжал в город; лицо его разрумянилось, взгляд у него был спокойный, вернее, задумчивый.
Разумеется, Бальзамо был прав: как бы стремительно ни скакал Джерид, он бы все равно опоздал, и только воля Бальзамо могла нагнать вырвавшуюся из заточения Лоренцу.
Миновав улицу Сен-Клод, молодая женщина выбежала на бульвар и, свернув направо, вскоре увидела стены Бастилии. Просидев все время взаперти, Лоренца так и не узнала Парижа. Но больше всего ей хотелось убежать из проклятого особняка, который был для нее тюрьмой. Только потом она подумала об отмщении.
Она пустилась бежать через Сен-Антуанское предместье, как вдруг ее окликнул молодой человек, вот уже несколько минут не спускавший с нее удивленных глаз.
Лоренца, итальянка, жившая когда-то в окрестностях Рима очень замкнуто, не имея представления о тогдашней моде, о костюмах и обычаях своего времени, одевалась скорее как восточная женщина, чем как европейская дама, то есть одежда ее была свободной и пышной; она мало походила на прелестных куколок с осиными талиями, затянутыми в удлиненные корсажи и трепетавшими в облаке тонкого шелка и муслина, под которыми было почти невозможно отыскать девичий стан — так велико у модниц было желание походить на неземное существо.
Итак, Лоренца не сохранила, вернее, не позаимствовала из французской моды тех лет ничего, кроме туфелек на каблучке в два дюйма высотой, этой немыслимой обуви, заставлявшей ножку выгибаться, но зато подчеркивавшей изящество щиколотки. Хотя дело происходило не в мифологические времена, такие туфли, однако, не давали возможности нынешним Аретузам убежать от Алфеев.
Итак, Алфей, преследовавший нашу Аретузу, без особого труда настиг ее; он успел разглядеть под ее атласными и кружевными юбками божественные ножки, пришел в восторг от свободно рассыпавшихся по плечам волос, от ее глаз, странно сверкавших из-под накидки, в которую она куталась; он решил, что Лоренца — дама, переодетая то ли для маскарада, то ли для любовного свидания и направлявшаяся, по всей видимости, в какой-нибудь пригородный домик.
Он подошел ближе и, сняв шляпу, заговорил, обращаясь к Лоренце:
— Боже мой! Сударыня! Вы не сможете далеко уйти в этих туфельках, они только задерживают вас. Могу ли я предложить вам опереться на мою руку, пока нам не попадется карета? Я буду счастлив сопровождать вас.
Лоренца быстрым движением повернула голову, окинула взглядом своих черных бездонных глаз незнакомца, обратившегося к ней с предложением, которое многие дамы сочли бы наглостью, и внезапно остановилась.
— Да, — ответила она, — я с удовольствием принимаю ваше предложение.
Молодой человек галантно подставил руку.
— Куда же мы отправимся, сударыня? — спросил он.
— К начальнику полиции.
Молодой человек вздрогнул.
— К господину де Сартину? — спросил он.
— Я не знаю, как его зовут. Может быть, и господин де Сартин. Я хочу говорить с начальником полиции.
Молодой человек задумался.
Молодая и прекрасная дама в необычном наряде в восемь часов вечера бегает по парижским улицам со шкатулкой в руках и спрашивает, где живет начальник полиции, хотя его особняк находится в другой стороне. Это показалось ему подозрительным.
— Черт возьми! Да ведь особняк начальника полиции совсем не здесь! — вскричал он.
— Где же он?
— В предместье Сен-Жермен.
— А как добраться до предместья Сен-Жермен?
— Это вон в той стороне, — отвечал молодой человек спокойно и по-прежнему вежливо. — Если угодно, первая же карета, которую мы встретим…
— Да, да, верно, карета, вы правы.
Молодой человек проводил Лоренцу на бульвар и, увидев фиакр, окликнул его.
Кучер подъехал.
— Куда вас отвезти, сударыня? — спросил он.
— К особняку господина де Сартина, — отвечал молодой человек.
Из вежливости, а может, из любопытства, он распахнул дверцу, поклонился Лоренце и, подав ей руку и усадив ее в карету, долго провожал ее взглядом, словно это было видение.
Испытывая глубокое уважение к страшному имени г-на де Сартина, кучер огрел лошадей хлыстом и покатил в указанном направлении.
Когда Лоренца проезжала через Королевскую площадь, Андре, погруженная в магнетический сон, увидела и услышала итальянку, и рассказала о ней Бальзамо.
Через двадцать минут Лоренца была у двери особняка.
— Вас подождать? — спросил кучер.
— Да, — машинально ответила Лоренца и порхнула под портал величественного особняка.
CXXIII. ОСОБНЯК ГОСПОДИНА ДЕ САРТИНА.
Очутившись во дворе, Лоренца едва не затерялась в толпе полицейских и солдат.
Она обратилась к солдату французской гвардии, стоявшему к ней ближе других, и попросила проводить ее к начальнику полиции. Гвардеец передал ее швейцару, который, увидев, что дама хороша собой, довольно необычно выглядит, богато одета и держит в руках великолепную шкатулку, понял, что это не простая посетительница, и повел ее по огромной лестнице в приемную, откуда после бдительного досмотра того же швейцара посетитель мог в любое время дня и ночи пройти к г-ну де Сартину для дачи показаний, с доносом или жалобой.
Само собой разумеется, посетители двух первых категорий принимались значительно охотнее, чем податели жалоб.
Лоренца подверглась допросу судебного исполнителя, но на все вопросы отвечала одними и теми же словами:
— Вы господин де Сартин?
Судебный исполнитель был очень удивлен тем, что она могла его, в черной одежде и со стальной цепью, принять за начальника полиции, носившего расшитый камзол и пышный парик. Однако никогда ни один лейтенант не обижается, если его называют по ошибке капитаном; кроме того, он понял по ее акценту, что она иностранка; она смотрела твердо, уверенно и не была похожа на сумасшедшую; он был убежден, что посетительница принесла в шкатулке какие-то важные бумаги, судя по тому, как она сжимала ее под мышкой.
Впрочем, г-н де Сартин был человек осторожный и недоверчивый. Ему уже не раз пытались расставить ловушку с приманкой не менее лакомой, чем прекрасная итальянка; вот почему он был теперь окружен надежной охраной.
Лоренцу допрашивали со всею подозрительностью сразу шестеро секретарей и лакеев.
В результате всех этих вопросов и ответов ей было сказано, что г-н де Сартин еще не возвращался и что ей надо подождать.
Молодая женщина замолчала, блуждая взглядом по голым стенам просторной приемной.
Наконец зазвонил колокольчик, со двора донесся шум подъехавшей кареты, и другой лакей доложил Лоренце, что г-н де Сартин ее ожидает.
Лоренца встала и пошла за лакеем, минуя две комнаты, полные подозрительных людей, одетых еще более несуразно, чем она; ее ввели в огромный кабинет восьмиугольной формы, освещенный множеством свечей.
Господин лет пятидесяти пяти в шлафроке и необыкновенно пышном парике, тщательно завитом и сильно напудренном, сидел, склонившись над бумагами, за высоким столом, верхняя часть которого напоминала шкаф и была отгорожена двумя огромными зеркалами таким образом, что хозяин кабинета, не отрываясь от своего занятия, мог видеть входивших к нему посетителей и успевал изучить их лица раньше, чем те успевали составить свое мнение о начальнике полиции.
Нижняя часть этого подобия стола представляла собою скорее секретер; в глубине его располагались многочисленные выдвижные ящички розового дерева, замыкавшиеся с помощью комбинаций букв алфавита. Хранившиеся в них бумаги и шифры при жизни г-на де Сартина не мог прочесть ни один человек, потому что только хозяин мог отпереть стол, но едва ли кто-нибудь и после его смерти смог бы расшифровать эти бумаги: ключ к шифру хранился в одном из ящиков, еще более тщательно скрытом от чужих глаз.
В этом секретере, вернее, в шкафу, под зеркальной верхней частью было двенадцать одинаковых ящиков, запиравшихся при помощи невидимого механизма; секретер был сделан по специальному заказу регента для хранения химических и политических секретов; затем он был подарен его высочеством Дюбуа, а тот оставил его начальнику полиции Домбревалю. От него-то г-н де Сартин и унаследовал и секретер, и его тайны. Впрочем, г-н де Сартин стал пользоваться им только после смерти прежнего владельца, предварительно сменив замки. Об этом столе-секретере ходили разные слухи; поговаривали, что он слишком хорошо хранит тайны, и г-н де Сартин держит там не только парики.
Фрондеры — а их было немало в описываемое нами время — утверждали, что, если бы можно было читать сквозь стены этого огромного стола, в одном из его ящиков непременно обнаружились бы знаменитые договоры, из которых явствовало, что его величество Людовик XV спекулировал зерном при посредничестве своего преданного агента г-на де Сартина.
Итак, начальник полиции увидел в расположенных под углом друг к другу зеркалах бледное, строгое лицо Лоренцы, подходившей к нему со шкатулкой в руках.
Молодая женщина остановилось посреди кабинета. Ее костюм, лицо, походка поразили начальника полиции.
— Кто вы такая? — спросил он, не оборачиваясь, однако продолжая разглядывать ее в зеркале. — Что вам угодно?
— Я разговариваю с начальником полиции господином де Сартином? — спросила Лоренца.
— Да, — коротко ответил тот.
— Кто может это подтвердить?
Господин де Сартин обернулся.
— Поверите ли вы в то, что я именно тот человек, которого вы ищете, если я отправлю вас в тюрьму?
Лоренца молчала.
Она оглядывалась с непередаваемым чувством собственного достоинства, свойственным женщинам ее страны, в поисках кресла, которое г-н граф де Сартин словно бы забыл ей предложить.
Одного этого взгляда оказалось достаточно: г-н граф д’Альби де Сартин был воспитанным человеком.
— Садитесь! — бросил он.
Лоренца придвинула к себе кресло и села.
— Говорите скорее! — приказал начальник полиции. — Что вам угодно?
— Сударь! — отвечала женщина. — Я пришла просить у вас защиты.
Господин де Сартин окинул ее присущим ему насмешливым взглядом.
— Гм! — хмыкнул он.
— Сударь! — продолжала Лоренца. — Я была похищена у моей семьи. Один человек обманным путем женился на мне и вот уже три года притесняет меня и мучает.
Глядя в ее благородное лицо, г-н де Сартин почувствовал при звуке ее музыкального голоса волнение.
— Откуда вы родом? — спросил он.
— Я римлянка.
— Как вас зовут?
— Лоренца.
— Лоренца… как дальше?
— Лоренца Феличиани.
— Мне незнакома эта фамилия. Вы барышня?
«Барышня», как известно, означало в то время «девушка знатного происхождения». В наши дни женщина почитает себя знатной с той минуты, как выходит замуж, и тогда она всеми силами стремится к тому, чтобы ее называли «мадам».
— Да, — отвечала Лоренца.
— Ну и что же дальше? Чего вы просите?
— Я прошу рассудить меня с этим человеком; ведь он заточил меня в тюрьму, лишил свободы.
— Это меня не касается, — отвечал начальник полиции, — вы его жена.
— Так он, во всяком случае, говорит.
— То есть, как это — говорит?
— Да! Я этого не помню, бракосочетание совершалось, пока я спала.
— Черт побери! Крепкий же у вас сон!
— Как вы сказали?
— Я сказал, что это меня совершенно не касается; обратитесь к поверенному и судитесь, я не люблю вмешиваться в семейные дела.
Тут г-н де Сартин махнул рукой, что означало: «Убирайтесь вон».
Лоренца не пошевелилась.
— В чем дело? — с удивлением спросил г-н де Сартин.
— Это еще не все, — молвила она. — Вы должны были бы понять, что я пришла сюда совсем не для того, чтобы пожаловаться: я за себя отомщу! Вы уже знаете, откуда я родом; женщины моей страны мстят за себя, а не жалуются!
— Это совсем другое дело, — заметил г-н де Сартин. — Но только поскорее, прекрасная дама: мне время дорого.
— Я вам сказала, что пришла просить у вас защиты. Вы обещаете прийти мне на помощь?
— От кого я вас должен защищать?
— От человека, которому я собираюсь отомстить.
— Значит, это могущественный человек?
— Более могущественный, чем король.
— Объяснимся, дорогая госпожа… Чего ради я должен оказывать вам покровительство, защищая вас от человека, более могущественного, как вы полагаете, чем сам король, и беря на себя тем самым ответственность за преступление, которое вы, может быть, совершите? Если вам надо отомстить этому господину — мстите! Мне до этого дела нет. Вот если вы при этом совершите преступление, я прикажу вас арестовать. Ну а уж потом мы решим, как нам поступить. Таков порядок.
— Нет, сударь, — возразила Лоренца, — вам не придется меня арестовывать, потому что моя месть может принести немалую пользу и вам, и королю, и Франции. Я мщу за себя тем, что раскрываю секреты этого человека.
— Ага! Так у этого человека есть секреты? — невольно заинтересовался г-н де Сартин.
— И немалые, сударь.
— Какого рода?
— Политические.
— Говорите.
— Ответьте мне прежде: готовы ли вы взять меня под свое покровительство?
— Какого покровительства вы желаете? — холодно улыбаясь, спросил г-н де Сартин. — Денег или любви?
— Я прошу отправить меня в монастырь, где я могла бы заживо себя похоронить. Я прошу, чтобы этот монастырь стал мне могилой, но такой могилой, которую никто в целом свете не мог бы открыть.
— Ну, это не Бог весть какая просьба. Монастырь я вам обещаю. Говорите.
— Так вы даете слово?
— Думаю, я вам его уже дал.
— В таком случае возьмите эту шкатулку, — предложила Лоренца. — В ней заключены такие тайны, которые заставят вас трепетать за безопасность короля и всего королевства.
— А вы сами знаете, что это за тайны?
— Я знаю только, что они существуют.
— И что же, это важные тайны?
— Ужасные.
— Вы говорите, политические тайны?
— Разве вам никогда не приходилось слышать о существовании тайного общества?
— A-а! Масонов?
— Общества «невидимых»!
— Да, но я не верю в его существование.
— Стоит вам открыть эту шкатулку, и вы в него поверите.
— Ну что же! — с живостью воскликнул г-н де Сартин. — Посмотрим!

Он принял шкатулку из рук Лоренцы.
Однако, немного подумав, он поставил ее на стол.
— Нет, — сказал он, подозрительно посмотрев на нее, — открывайте шкатулку сами.
— У меня нет ключа.
— Как это у вас нет ключа? Вы мне приносите шкатулку, от которой зависит спокойствие целого королевства, и говорите, что забыли ключ!
— Разве так уж трудно открыть замок?
— Не трудно, когда знаешь его секрет.
Минуту спустя он продолжал:
— У нас здесь есть ключи от всех замков; сейчас вам принесут связку, — он пристально взглянул на Лоренцу, — и вы будете открывать сами.
— Хорошо, — просто отвечала Лоренца.
Господин де Сартин протянул молодой женщине ключики самой разной формы.
Она взяла связку в руки.
Господин де Сартин коснулся ее руки: она была холодна, словно выточена из мрамора.
— Почему же вы не принесли ключа от шкатулки? — спросил он.
— Потому что его хозяин никогда с ним не расстается.
— А хозяин шкатулки — тот самый господин, более могущественный, чем король, не так ли?
— Кто он — не может сказать никто. Сколько времени он живет на свете — знает только вечность. Что он творит — одному Богу известно.
— Его имя? Имя!
— На моей памяти имя он менял раз десять.
— Назовите то, под которым он вам известен.
— Ашарат.
— А живет он…
— На улице Сен…
Вдруг Лоренца вздрогнула, выронила из рук шкатулку и ключи; она попыталась ответить, но рот ее перекосился в конвульсиях; она прижала руки к груди, как будто готовые вырваться оттуда слова ее душили; затем она подняла дрожащие руки, не имея сил вымолвить ни единого слова, и рухнула на ковер.
— Бедняжка! — прошептал г-н де Сартин. — Что это с ней? А она чертовски хороша собой. Да, это мщение смахивает на ревность!
Он позвонил и сам стал поднимать молодую женщину; в ее глазах застыло удивление, губы были неподвижны; казалось, она уже умерла и не принадлежит больше этому миру.
Вошли два лакея.
— Отнесите эту юную особу в соседнюю комнату, да поосторожнее! — приказал начальник полиции. — Постарайтесь привести ее в чувство. Но не переусердствуйте! Ступайте.
Лакеи послушно унесли Лоренцу.